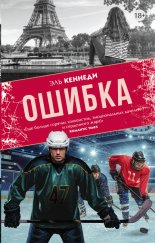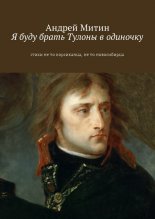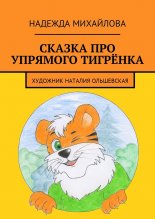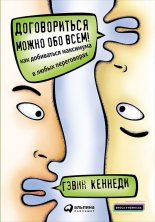Аппетит Казан Филип
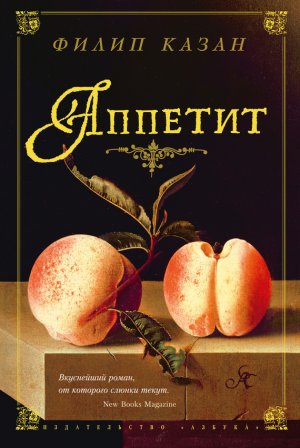
И тут я выбрал. Кивнув маэстро, я прошел мимо него к противню с бланманже, взял его и двинулся вдоль длинных столов. Уже поднимался смех, облегчение и брань вырывались наружу со звуком, подобным басовитому гулу мух, только хуже. Куда хуже, чем ожидавшие меня на навозном дворе рои мух, плотные и липкие, как мокрые простыни.
Весь день я трудился в нужнике и на дворе, поначалу затыкая нос, потея и покрываясь пятнами и пропитываясь мерзостной грязью, которую разгребал, пока сам не стал более отвратительным, чем любой из вонючих работяг, над которыми всю жизнь насмехался. Другие повара выходили и уходили, справляли большую и малую нужду, ведрами выбрасывали помои, заходясь от хохота над моей печальной участью. Но они не сказали мне ни слова. Маэстро не появлялся.
Я не решился идти домой тем вечером, мне было слишком стыдно и противно от собственного состояния и той глупости, которой я это на себя навлек. Я прокрался в конюшни и скорчился в пустом углу. К утру у меня затекло все тело и я умирал с голоду, но вернулся и продолжал работать до полудня. Потом, больше не в силах выносить голод, ускользнул и пробрался задними улочками и проулками к человеку, о котором непрестанно думал уже много часов.
Уголино мешал в своих горшках, здоровенная кривая ложка выписывала изящные дуги в кипящей похлебке. Увидев меня и грязную руку с монетой, он не выказал никаких признаков отвращения или даже удивления. Я схватил миску с рубцом и, словно животное, начал нагребать его в рот.
– Мессер Уголино, – выдохнул я, когда самые острые мучения голода были придушены, – вы меня спасли.
Он смотрел на меня секунду из-под серых бровей, а потом вернулся к горшкам.
– Это правда, – продолжал я. – Во всей республике не найдется такой еды, как эта. Я готовлю на кухнях Медичи…
На этом его взгляд кратчайшее мгновение задержался на моих отвратительных, провонявших дерьмом лохмотьях, черных руках, грязных потеках на лице, а потом вернулся к изучению рубца и лампредотто.
– И мессер Лоренцо никогда – заметьте! – никогда не ест лучшей еды, чем эта. За своим благородным столом, с золотой тарелки… Ничего подобного.
Я снова отхлебнул, потом еще раз, пока не открылась коричневая глиняная поверхность миски, пестрая, как крылья дрозда. Я нашел еще одну монетку, протянул миску.
– Вы можете дать мне рецепт, чтобы я готовил такой рубец для мессера Лоренцо? Я назову его «рубец от Уголино». Я заплачу…
И тут на меня обрушилась вонь моей одежды, ужасное, омерзительное зудение всей этой грязи на теле. Я огляделся. Люди начинали глазеть. Пока я никого не узнал: ни друзей, ни знакомых, ни – слава Господу – врагов, но через минуту-другую они появятся. Миска задрожала в моей руке, другая рука нашла еще одну монету. Но что проку? Я поставил миску.
– Спасибо, мессер Уголино.
Я вернулся на двор, к облаку вони и каторжному труду. Еще одна ночь прошла среди мышей и тяжелого дыхания лошадей. Уже третий день близился к концу, когда небеса нехотя побрызгали дождем и помогли мне вымести последние пьеды[13] брусчатки, пока они не стали более-менее чистыми. Даже после этого я остался снаружи, позволяя дождю мочить меня, пока не понял, что вечерняя трапеза закончена. Никто не приходил облегчиться уже час или больше, а последнее ведро куриной кожи и морковных очистков было выброшено. Совершенно промокший, но вроде бы уже не так воняющий навозом и отбросами, я вернулся на кухню.
Зохан восседал на своем стуле, ожидая меня. Впрочем, возможно, он больше не считал меня частью своего мира. В любом случае, когда он поднял глаза от счетной книги, было ничуть не похоже, будто он ждал меня или что его это хоть сколько-нибудь интересовало. Когда я доковылял до маэстро, он сунул руку себе между ног и вытащил кошелек, из которого извлек монету. Бросил ее мне, я поймал.
– Отличная работа. Вот что ты заслужил. Отправляйся в баню. И возвращайся сюда завтра утром.
Монета была сольдо – примерно половина моего дневного заработка.
– Значит, завтра утром?
Но Зохан уже вернулся к своей счетной книге.
На следующее утро я пришел рано и помог вертельщику разжечь огонь в печах. Я точил ножи, когда начали приходить остальные. Каждый приветствовал меня взглядом с прищуром и коротким кивком – и тем не менее приветствовал. Зохан прибыл, оглядел меня с ног до головы – несомненно, в поисках следов навоза или рыбьих потрохов – и подозвал к своему стулу.
– Вернулся, значит. Что ж, Плясунья, все честно. Пожалуй, все-таки ты не просто милая игрушка. Иди работай.
– Уже иду, маэстро.
Я повернулся, думая найти корзину лука и почистить его или перебрать травы: какое-нибудь бездумное задание для человека, который вчера отскребал пол нужника.
– Погоди минутку. – (Ложка Зохана ткнула меня в почки.) – Ты был прав насчет бланманже, конечно же. И насчет Нене. Я сделал так, чтобы мальчики тоже это поняли. Работу Нене я собирался передать Тино. Но раз уж ты все еще здесь, я передаю ее тебе. Да? Ногти чистые? – (Я протянул руки для осмотра.) – Хорошо. Сделай мне бланманже. Если не будет идеальным, отправишься вон, окончательно. Понял меня?
– Понял, маэстро. Благодарю вас!
– Тебе уж есть за что меня благодарить. И каждого ублюдка на этой кухне. Они могли утопить тебя в помоях, но я видел, как люди ходили шевелить кишками в переулок, только чтобы не доставлять тебе лишнего неудобства. – Он фыркнул. – Понятия не имею, чего бы им так утруждать себя. Наверное, пожалели тебя.
– Наверное, маэстро.
– Да… – (Деревянная ложка рассеянно вспорхнула, а потом опустилась рядом с ним.) – Давай тогда приступай к работе, мальчик.
Следующие несколько дней время двигалось как пьянчуга. На остаток месяца мессер Лоренцо уехал на свою виллу в Кареджи, и напряженность на кухне уменьшилась – чуть-чуть. Это было хорошо, потому что мне пришлось во вторник отпроситься у маэстро с дневной смены. Долгие часы я пытался изобрести какие-нибудь веские благовидные причины для этого и грезил, как все может пойти, когда мы с Тессиной встретимся в монастырском саду. Но в конце концов я просто обменял вторник на свой выходной раз в две недели, и Зохан согласился вполне охотно. Что с того, что мне нужен выходной, в конце-то концов?
Поскольку хозяина дома не было, Зохан позволил мне приготовить пару-тройку блюд. Он критиковал их вслух, громогласно, находя недочеты там, где, я был уверен, их никак не могло быть. Бльшую часть времени я выполнял рутинные задания, которые до меня делал Нене. Это было нудно и утомительно, но я был полностью занят мыслями о Тессине, а не о собственном статусе или достоинстве. Я не жаловался, радуясь в кои-то веки поводу отвлечься и бездумной работе. Все эти действия, отработанные годами, я мог бы проделать даже во сне.
Становилось невыносимо жарко. Лето всегда превращало Флоренцию в печь, а в этом году уже в мае казалось, будто нас лижут языки невидимого пламени. Я выходл из душной кухни и брел по улицам, рябящим от зноя, к моей душной до невозможности дышать постели и обратно в чудовищном, томящемся жарой круговороте. Лето означало тесную, мешающую одежду, воняющие сточные канавы, Арно, загустевший и медлительный от отбросов и отходов кожевенных мастерских. Однако я ничего этого не замечал. У меня в голове были только две вещи: кухня и Тессина Альбицци. Хоть снег пойди, я бы не заметил.
В первый раз перелезая ограду монастыря Санта-Бибиана, я понятия не имел, чего мне ожидать. Стена сада – точнее, ее небольшой квадрат – находилась в конце темного и узкого прохода, за которым наблюдала закутанная в пыльные черные вдовьи одежды полуслепая старуха, сидевшая на корточках на ступенях разваливающегося дома. Она едва заметила меня, когда я осторожно прошел мимо сквозь обрушенный дверной проем опустевшего свинарника, пристроенного к стене. Между камнями нашлось множество зацепок для рук – и, без сомнения, куча скорпионов, подумал я, – так что вскарабкаться наверх оказалось легко. На другой стороне обнаружился ствол инжира, узловатый и извилистый, словно гигантская змея. Я перебросил тело через стену и ступил на изгибы ствола. Запах листьев – жженый сахар, крапива, старое марсальское вино и осы – окутал и заворожил меня. Я помедлил, заглядывая сквозь листву в сад.
Я увидел старинный бассейн на постаменте, окруженный мраморным выступом, резьба на котором давным-давно изгладилась от времени и дождя. Позади пруда стояла крошечная хижина – можно даже сказать, сарай, – построенная из грубых каменных блоков и покрытая потрескавшейся черепичной крышей, сквозь которую пророс плющ. Трехвековой давности каменную статую Христа душил дикий шиповник. Все это – бассейн, статуя, хижина – пряталось за густыми зарослями неподрезанных плодовых деревьев, лавра и инжира, перевитых огромными канатами виноградной лозы и плюща. Позади зарослей стоял сам монастырь, но над буйными кущами виднелась только колокольня. Здесь вообще не было ощущения места Божьего. Сад был оставлен на милость природы: он больше не принадлежал человечеству. Здесь тропинки медленно затягивались травами; широко раскрытые глаза каменного Христа дожидались, год за годом, медленного наползания побегов плюща. Шевельнулся лист – я подпрыгнул, подумав о незримых стопах, о давно почивших монахинях, но по другому листу прошелестел хвост большой бронзовой ящерицы и исчез под статуей.
– Нино?
В дверях хижины стояла Тессина. Мое сердце вздрогнуло: с головы до ног она была одета в белое. В этом пустынном месте, притом что уже успела нагородить моя фантазия, я принял ее за нечто неземное.
– Это я! – ответил я.
Но мой голос был поглощен листвой и жужжанием насекомых. Я спрыгнул с дерева; сухие листья и прутики хрустнули у меня под ногами. Продравшись сквозь паутину и жесткие, словно проволока, стебли водосбора, я обошел бассейн. Тессина следила за мной, молча сжимая края своего капюшона. Я как будто спрыгнул со стены и приземлился в каком-то огромном пустынном лесу. Тут мои штаны зацепились за куст ежевики, и я принялся возиться с веткой, стараясь не порвать ткань. Тессина хихикнула и поинтересовалась:
– Они хорошие?
Лицо ее было почти скрыто полумесяцем глубокой тени – все, кроме глаз, которые сияли васильковой синевой.
– Мои лучшие.
Ежевика, похоже, задержала меня надолго. Шиповник издавал тяжелый, приторный запах. Ни один из нас не двигался. Огромный шмель пролетел, покачиваясь в воздухе, и опустился на цветок, чей стебель под весом насекомого согнулся почти вдвое. Потом одинокий колокол монастыря пробил полдень – мелодично и благозвучно, но уныло, как будто только сам для себя. Когда замер последний отзвук, начали трезвонить все колокола в городе.
– Ты поспешил, – прошептала Тессина.
Я едва ее расслышал и преодолел последние камни мощеной тропинки до того места, где она стояла.
– Мы оба поспешили, – продолжила она, когда я встал перед ней.
Она откинула с головы капюшон, тяжело опустившийся на плечи, и вдруг оказалось, что я смотрю на совершенный янтарный водопад ее волос.
– Я думал, пойдет дождь, но… – начал я немного громковато.
Голос даже звучал как чужой – да и зачем я вообще это сказал? Я не был полностью уверен, что Тессина и вправду здесь. Возможно, ничто из этого не реально. Не было ни малейшего ощущения настоящей жизни – такой, какой я жил по другую сторону стены.
Тессина нахмурилась и приложила пальчик к губам. Ее руки взлетели к складкам капюшона, и я подумал, что она собирается снова его надеть, но Тессина замерла, и я ощутил, как она изучает меня взглядом. У нее немного напряженное лицо, понял я, и было в нем что-то еще: почти отчаяние. Я открыл рот, чтобы сказать… что? Вместо слов я бездумно поднял руки и сложил их в неосознанном молитвенном жесте. По моему опыту, молитвы не работают – кроме этой единственной. Она разбила дремотное оцепенелое заклятие сада. Тессина улыбнулась. Ее лицо, только что бывшее призрачно-белым, ожило. Проявились веснушки и тонкие полумесяцы возле уголков губ.
– Пойдем, – сказала она обычным своим голосом, повернулась и проскользнула в дверь хижины.
Мне пришлось чуть нагнуться под притолокой. Внутри приют отшельницы оказался больше, чем выглядел снаружи, но лишь чуть-чуть. Стены когда-то были оштукатурены и расписаны, но остались только грубые очертания, весь цвет давным-давно сошел. Крыша провисла, плющ сумел пробраться внутрь и висел в углу большим горделивым плюмажем. Стропила были заплетены гирляндами паучьих домиков, а в маленьком камине лежала кучка помета летучих мышей. Но пол из простой утоптанной земли был чисто выметен. Мебели не обнаружилось никакой, кроме невысокого табурета, испещренного червоточинами, и вдоль дальней стены – старой дощатой кровати с аккуратно наброшенным на нее серым одеялом.
Мы посмотрели друг на друга, протянули навстречу руки. Я ощущал, как воздух снова уплотняется – или, возможно, только моя кровь. «Должен ли я сейчас ее поцеловать?» – подумал я, и тут Тессина развязала шнурок своего плаща и позволила ему упасть на пол. Отступив от него, она потянулась ко мне и прижалась щекой к моей щеке, очень нежно. Потом плотнее; я закрыл глаза и наклонил голову, открываясь только лишь для запаха Тессины, гладкого прикосновения ее кожи к моей свежевыбритой щеке – горячего, почти лихорадочного. Затем наши губы соприкоснулись. Мы целовались легко, потом все крепче, по мере того как забывали себя и вспоминали… Потому что такова была наша судьба, в конце концов. Одни и те же звезды породили нас, одни и те же переживания, ощущения, запахи, вкусы формировали нашу жизнь – и наша кровь, как мы обнаружили, пульсировала в телах в одном и том же ритме, с тем же жаром.
– Помнишь, мы уже делали это когда-то, – шепнула Тессина. – В сарае седельщика около Сан-Ремиджо. Мы отважились прикоснуться друг к другу. Я закрыла глаза. А ты убежал.
– На этот раз я не убегу. Обещаю.
Я обнял ее, и она утонула в моих объятиях. Мы оставались совершенно неподвижны несколько долгих мгновений, плотно прижимаясь друг к другу, кожа к коже, а потом…
…все было иначе. Все было абсолютно по-другому.
Большой белый геккон любопытно копошился в углу.
– Здесь правда жила отшельница? – спросил я.
– Первая настоятельница удалилась сюда. Она основала традицию: здесь поколениями жили отшельницы, но последняя умерла лет двадцать назад.
– А ты приходишь сюда…
– Пару лет. Я ускользаю от монахинь и играю в отшельницу. Это настоящее блаженство. Как думаешь, очень ужасно заниматься этим здесь?
– Нет. – Я прислонился к стене, ощущая прохладу камня и тепло тела Тессины на своем боку. – Как я могу думать, что это ужасно? Но ты уверена, что сюда никто никогда не приходит?
– До сих пор не приходил. Они ходят только на мощеный дворик рядом с домом, и никогда – в это время дня. Все монахини сидят по своим кельям, а Сальвино набил брюхо до отвала и храпит в трапезной.
– Значит, ты просто ускользаешь?
– Я сказала, что хожу сюда размышлять о милосердии Божьем.
Где-то поблизости прозвонил колокол.
– Мне надо уходить уже прямо сейчас? – спросил я ее.
– Через минуту. Сальвино скоро проснется. Мы же не хотим, чтобы он здесь болтался. Хотя раз уж ты его новый герой, он, может, нас и простит.
– Лучше не рисковать.
Я вдруг ощутил холодок, хотя в хижине было неимоверно душно. Возможно, Тессина тоже его почувствовала, потому что прижалась ко мне, а ее губы снова нашли мои. Потом она отодвинулась.
– Ты прав. – Она помолчала. – Наверное, тебе лучше уйти сейчас. – Мгновение неловкости, потом мы опять начали целоваться. – Ты всегда был таким чувствительным, Нино Латини? Ты придешь во вторник?
– Конечно.
– Тогда иди.
– Я не хочу.
– Но тебе пора.
– Я буду скучать по тебе.
– Тогда не будешь опаздывать в следующий раз, правда?
– Я не…
Но Тессина заставила меня умолкнуть, прижав палец к моим губам. И не успел я опомниться, как остался в хижине один.
Перебравшись через стену обратно, я отправился на Понте Веккьо. Мне скоро надо было на работу, а сначала следовало зайти домой и сменить эту красивую одежду, так что я шел осторожно, оберегая ее, но при этом стараясь выглядеть расслабленно и небрежно.
Я прибыл в палаццо как раз вовремя и вошел в кухню, где воздух загустел от напряжения. Мессер Лоренцо вернулся из Кареджи на два дня раньше и без всякого уведомления – и требовалось приготовить трапезу для близкого круга. У Тино был выходной, а дублер Тино, Андреа, слег с лихорадкой, так что, к моему изумлению, Зохан назначил ответственным меня.
– Плясунья, это я совершаю самоубийство? – требовательно спросил он.
– Нет, маэстро! Вы будете гордиться!
– Гордиться? Уже много лет не случалось мне этого делать.
Мне пришлось помучиться, сочиняя меню из того, что имелось под рукой, и добиваясь, чтобы другие работники меня слушались. Зохан восседал на своем троне, вертя в руках ложку и наблюдая за мной, но и только.
По счастью, в обширных холодильных и кладовых не было недостатка в том, что стоило приготовить. Я принялся оглядываться, и мой взгляд тут же остановился на связке перепелок, свисающей, словно странная драпировка, с крюка в холодной кладовой. Перепелки пойдут главным блюдом. Нашлась и рыба: карп, щука и линь. Рыба – хорошо, но мне нужно было что-нибудь еще, что-нибудь соленое. Я послал какого-то из многочисленных Джино на рынок купить мне корзину кефали и большую охапку водяного кресса.
Мальчик, которого я поставил ощипывать перепелок, попытался нахальничать, так что я его проучил – короткой, ядовитой отповедью, достаточно громкой, чтобы слышала вся кухня. После этого все успокоились и заняли свои обычные места. Для начала я приготовил пирог с нежным молодым пореем, сладким маслом, чуточкой свежего пекорино, калганом и сахаром. Когда принесли кресс, я сделал зеленый соус, тонко нарезав кресс с петрушкой, мятой и чесноком, перемешав с уксусом и протерев через сито.
Перепелки были обжарены и заправлены соусом, который я приготовил из толченого чищеного миндаля, вержуса, размятых птичьих потрохов, изюма, перца и изрядного количества гвоздики. Кефаль, также обжаренная, была подана к столу еще шкварчащей, бронзовые шкурки рыбин украшали зеленые ливреи из кресса. Когда мне принесли на осмотр порейный пирог, я бросил на золотистую корочку пригоршню сахара, а также немного орешков пинии. Для завершения трапезы был приготовлен простой пирог со сладким виноградом.
В следующий час Зохан то и дело входил и выходил из кухни, но никому из нас не сказал ни слова. Мне пришлось рявкнуть на некоторых лодырей, но мы вовремя убрались на кухне и помыли всю посуду. Когда работа каждого была сделана, я отпустил всех по домам. Это принесло мне некоторую благодарность: у Зохана было заведено держать работников, пока он сам не закончит все дела. Так что когда тем вечером маэстро вернулся в последний раз, он нашел меня одного, при свете единственной лампы занятого составлением завтрашнего списка покупок на рынке.
– О чем, во имя Господне, ты думал, когда готовил сегодня вечером? – наконец произнес он, но хотя слова звучали сердито, особенного жара в них не было.
– Готовил трапезу для близкого круга, маэстро. Надеюсь, она всех удовлетворила?
– Удовлетворила… Странный выбор слова.
Зохан отпихнул ложкой мой список и наклонился поближе ко мне, загородив свет:
– Конечно же, ты знал, кто сегодня будет в этом кругу. – (Я помотал головой.) – Плясунья, не разыгрывай со мной невинность.
– Мессер Лоренцо и его благородная супруга, наверное, – честно ответил я.
Я был настолько возбужден, когда пришел, что и вправду не обратил особенного внимания на дневные новости, кроме слова «близкий».
– Ха! Госпожа Клариче остается в Кареджи. И она на восьмом месяце беременности. Но если ты думал, будто она здесь, ты что, пытался ее убить, а?
– Маэстро, клянусь, я понятия не имею, о чем вы говорите.
– Господи Боже! Кефаль? Порей? Перепелки… Мадонна! Перепелки? Гвоздика и чеснок во всем… Клянусь сладким молоком Богородицы, я знаю, что ты раньше готовил в борделе, но… но что за бес в тебя вселился?
– Ох…
Я понял. Соленость кефали, сухость перепелок, тепло гвоздики… Не имея такого намерения, я подобрал меню из блюд и приправ, известных своим жарким характером, свойством горячить кровь.
– Ты везучий щенок. За столом была не синьора Клариче. Там сидела Лукреция Донати и пара поэтов-молокососов.
Красавица Лукреция Донати была замужней дамой, состоявшей с Лоренцо в любовной связи.
– Ты знал. Ты точно знал. Ты, хитрый, лицемерный, мелкий…
– Им понравилась еда? – вклинился я.
– Понравилась? Ладно, понравилась. Не то чтобы они спешили встать из-за стола. Если ты меня понимаешь. Я бы удивился, если они хоть до спальни добрались.
– Ясно. Я вас понимаю, маэстро.
– Разумеется, понимаешь. Мессер Лоренцо очень доволен тобой. И будет еще больше доволен завтра утром. Мелкий ты проныра, – добавил он с искренним восхищением.
Неделю спустя я спрыгнул в монастырский сад и не услышал ничего, кроме дрозда, кормящегося под кустами розмарина. Я дошел до хижины отшельницы, предполагая найти там Тессину, ожидающую меня, но хижина была пуста. Я сел на шаткую кровать и принялся ждать. Прозвенел монастырский колокол, доказывая, что я пришел рано, и я усмехнулся про себя: «Ну и кто опаздывает на этот раз?» Но минуты утекали, и после того, как они сложились в полчаса, я решил, что Тессина, видимо, не придет сегодня в монастырь. «Могла бы и предупредить меня». Но как? У нее нет возможности передать мне даже слово, понял я. Каждую минуту прошедшей недели я думал о Тессине хотя бы раз. Черт! Теперь придется тащиться обратно через всю Флоренцию, но я увижу ее на следующей неделе.
Зохан протопал на кухню и застал меня за уборкой рабочего места.
– Плясунья!
Кто-то начал хихикать. Вся кухня наблюдала за мной: розовые, облитые потом лица были выжидающими, голодными, как у зрителей на медвежьей травле, перед тем как спустят собак. Зохан три раза стукнул ложкой по краю огромного стола. Ближайшие к нему работники отошли бочком. Повелительным взмахом ложки маэстро подозвал меня. Я откашлялся и подошел.
– Тебя зовут, – сообщил Зохан.
Ложка парила перед моим лицом. Маэстро прищурился, потом сунул ложку под мышку.
– Зовет мессер Лоренцо.
– Зачем? – спросил я, пытаясь говорить обычным тоном, хотя мое горло казалось мне ржавой трубой.
– Никаких вопросов. Иди за мной. Остальные могут вернуться к работе.
Зохан сверкнул глазами на прочих поваров, и все испуганно сжались и отворотились. Маэстро развернулся и вышел, а я поспешил за ним, стараясь не встретиться ни с кем взглядом.
– Что я такого натворил? – спросил я, как только мы оказались в коридоре.
Впервые за много лет я чувствовал, что вот-вот расплачусь.
– Натворил? А как по-твоему, что ты натворил?
Я полагал, что действую осторожно. Я старался следовать приказам маэстро и вкладывал достаточно собственной души в блюда, но неужели я перестарался? Недостарался? Ужасающие картинырисовались сами собой: епископ, выблевывающий собственные кишки под обеденным столом, Содерини, подавившийся рыбной костью.
– Я не знаю, маэстро! – выпалил я, ломая влажные пальцы.
– Ты, засранец, поиграл с моим рецептом каплуна, так?
Зохан не замедлил шага, но в тусклом свете лампы его лицо стало похоже на кошмарный хирургический инструмент: какую-нибудь штуковину для разбивания костей или для отрезания зараженных гангреной частей.
– Я… да. Простите, маэстро.
– Ты убрал сахар.
– Мне показалось, там не нужно сахара. Не стоило мне выделываться.
– А черемуха: она откуда взялась?
– Я подумал, что… – В поисках слов я облизнул губы, воскрешая в памяти ощущение щиплющего рот черемухового сока. – Я подумал, что терпкость может стать приятной оболочкой для мяса, после того как я натер его салом с корицей…
– Сало и корица! Сало и чертова корица! Кто тебя научил так делать, а?
– Никто. Я иногда так готовлю. Такое простое блюдо, маэстро: всего пара каплунов! Я не думал, что они причинят какой-то вред.
Зохан зафыркал. У меня внутри все перевернулось, однако в этом звуке слышалась теплота. Поразительно, но маэстро, кажется, растерял всю злость.
– Не причинит вреда, ты говоришь? Это зависит от того, что ты называешь вредом, Плясунья. Если мессер Лоренцо облизывает губы и пальцы после того, как обглодал последнюю косточку твоего каплуна, я бы сказал, что в этом нет вреда. – Он хохотнул коротким резким лаем. – Сказать тебе, что я готовил для тебя, милый Плясунья? – (Я неохотно кивнул.) – Хорошо. Ничего. Я не готовил для тебя ничего. Я ожидал, что ты испачкаешь исподнее и сбежишь – или сдашься. Сам себя закопаешь в луке. А тем временем мессер Лоренцо забывает о своем последнем увлечении, так? Он забывает, а я потихоньку от тебя избавляюсь. Ты возвращаешься к своему дяде с парочкой отличных баек, а я возвращаюсь к работе. С тех пор как ты появился, мою кухню трясет, будто телегу со сломанной спицей. Мои мальчики все как один стараются донести на тебя или воткнуть тебе в спину нож.
– Это правда, – признал я.
– Ага, не особенно удивлен, а?
– Я знаю, что они меня ненавидят.
– Опять нос задираешь. Они ненавидят меня, и это правильно, так и должно быть. А тебя они просто боятся.
– С чего бы кому-то меня бояться?
– Ты тупой, Плясунья? Они боятся тебя, потому что ты свалился на них, словно сам архангел, – ты прямиком попадаешь на хорошую работу, а при этом тебе до сих пор мамаша зад подтирает.
– Моя мать…
– Умерла, я знаю. Такова жизнь, как говорится. Так что… – Зохан остановился и притянул меня к себе, так что мы оказались лицом к лицу. – Должен ли я понимать, что ты не собираешься бояться? Потому что если собираешься, то мы идем не в том направлении. – Он развернул меня, твердо, чтобы я оказался лицом к кухням и задней двери, потом легонько встряхнул. – Мессер Лоренцо – Лоренцо Великолепный – облизал пальцы после твоего каплуна перед синьором Торнабуони, мессером Томмазо Содерини и епископом Пистойи. Потом он спросил меня, я ли это приготовил. Поскольку я честный человек и поскольку там был епископ и смотрел прямо на меня, я сказал: «Нет, это готовил юный Нино Латини». И знаешь что? Он совсем забыл про тебя. «Из таверны „Поросенок“», – сказал я. Тогда он припомнил. И попросил привести тебя лично. Надо было мне держать рот на замке и отослать тебя обратно в «Поросенок», в то место, где ты прятался от твоего жирного дядюшки, когда я тебя нашел. Но я этого не сделал. Я напомнил ему, кто ты такой.
– Спасибо вам, – сказал я так искренне, как только мог, учитывая, что мои зубы стучали от пережитого потрясения.
– Не благодари меня, мальчик. Своих каплунов благодари. – Он придвинулся совсем близко к моему лицу, так что почти коснулся своим носом моего. – Ты думал, я позволю тебе лезть в мою еду? – спросил он. – Ты и вправду ожидал, что сможешь послать свою стряпню на хозяйский стол так, чтобы я этого не заметил? Я пробую все, что выходит с моей кухни, мальчик. Все. Я мог отдать твоих каплунов на съедение хозяйским собакам, вот так быстро. – Зохан щелкнул пальцами у меня над ухом. – Но это было бы зряшной тратой подноса прекрасной еды, Плясунья. Теперь ты пойдешь говорить с мессером Лоренцо, и, когда ты вернешься на кухню, люди начнут тебя бояться – теперь уже по-настоящему. И знаешь что? Они тебя начнут еще и немножко ненавидеть. Потому что я собираюсь сделать тебя своим заместителем. Мессер Лоренцо будет этого ожидать, и я говорю тебе об этом сейчас, чтобы ты не обмочил штаны перед всей честной компанией.
– Но у вас же есть заместитель…
– Тино? Вот ему не повезло. Ты не найдешь Тино, когда вернешься от высокого стола.
– Вы просто вышвырнете его?
– Почему нет? Он десять лет проработал у меня под боком и ни разу не добавил ни единой лишней перчинки к моим рецептам. Он ни разу не сделал ничего непоправимого, но также никогда не заставил никого вычистить тарелку пальцем. Но если тебе это так не нравится, то можешь рысью бежать домой прямо сейчас. Через черную дверь, вместе с Тино. Или можешь пойти со мной к Великолепному.
Я посмотрел в начало коридора, куда проливался свет из кухни. Вдалеке большая дверь, которая выходила на улицу, закрылась с почти ощутимым уханьем потревоженного воздуха. Спереди, с другого конца коридора, доносился низкий гул голосов и запахи свечей, благовоний и еды. В этот момент из-за угла появился мальчик-подавальщик и трусцой пробежал мимо нас, неся серебряное блюдо с горой костей: остатками жареного козленка, которого я отослал к столу раньше.
– Весь ушел, – отметил Зохан. – Из твоих, наверное. А, да ладно: куча баек для малышей в «Поросенке». Выметайся давай, если не можешь определиться.
– Но я уже определился. Вам придется учить меня, маэстро. И бить своей ложкой – часто. Чтобы ребята не слишком на меня обижались.
– До полусмерти изобью, – кивнув, пообещал Зохан. – Так что, мы идем?
– Да, маэстро. Если вы меня научите всему, что знаете сами.
– Условия пошли, Плясунья? С каких пор существо вроде тебя ставит условия?
– С тех пор, как Великолепный облизал пальцы после еды, которую я приготовил, маэстро.
– Ты, мелкое дерьмо… – Зохан нахмурился, потом выхватил ложку из-под мышки и влепил мне мощный удар по виску. Я отскочил, потирая голову. – И что ты говоришь?
– Спасибо, маэстро! – почти выкрикнул я.
– Ты меня проклянешь, прежде чем поблагодаришь, мальчик.
– Да, маэстро!
– Но когда ты будешь меня благодарить, то сделаешь это от всей своей бессмертной души.
– Обязательно, маэстро.
– Тогда давай уже уладим это дело.
Все дни с тех пор, как я пришел во дворец Медичи, каждый раз, когда блюда для обеда и ужина покидали кухни, словно торговый флот, отходящий из какого-нибудь индийского порта, я воображал, как они уплывают прочь, покачиваясь – движимые крепкими ногами подавальщиков и подавальщиц, – к обширному, полному свежего воздуха пространству, похожему на неф собора, которое, конечно же, битком набито небольшой армией чрезвычайно голодных благородных господ. Когда мы оставили позади помещения слуг и поднялись по лестнице из мрамора с прожилками, окаймленной бюстами и увешанной картинами, мое волнение возросло. Но когда Зохан впихнул меня в открытые двери зала, как он это называл, ткнув ложкой мне в почки с большей силой, чем было действительно необходимо, я понял, что самые лихорадочные из моих мечтаний оказались… заурядными. Зал был длинный – наверное, на половину длины дворца. Пять высоких арочных окон смотрели на тусклые огни Виа Ларга, еще два выходили на маленькую церковь Сан-Джованни на Виа де Гори. За длинным столом сидели люди, громыхая тарелками и переговариваясь громкими от вина голосами.
Лоренцо Медичи поманил меня с дальнего конца стола. Я искоса взглянул на Зохана, тот коротко кивнул. Я прошел мимо длинного ряда стульев, чувствуя себя совершенно не к месту, как никогда прежде в моем родном городе. Но прочие трапезничающие не обращали на меня внимания. Только Лоренцо, прищурившись, наблюдал за мной. Мои зубы снова начали стучать, но тут я случайно заметил одного человека: бархатная шапочка сползла чуть назад с его седой щетинистой головы, а сам он за обе щеки уписывал кусок пирога. Начинку я готовил сам: груши, обжаренные на углях, смешанные с вареным свиным желудком, яйцами, розовой водой, корицей… Человек слизывал начинку по меньшей мере с восьми тяжелых золотых, усеянных драгоценными камнями перстней, и я услышал легкий стук их о зубы. Как ни поразительно, это все-таки был мой мир.
– Не слишком отличается от таверны твоего дядюшки, правда? – Лоренцо, похоже, прочитал мои мысли.
Не слишком сложный трюк, учитывая обстоятельства, но я неожиданно почувствовал себя вполне непринужденно.
– Моему дяде было бы приятно так думать, господин мой.
– Скажи мне, маэстро Зохан хорошо с тобой обращается?
Я оглянулся на дверь, где, прямой, словно церемониймейстер, стоял феррарец, наблюдая за нами.
– Очень хорошо, господин мой. Большая честь служить под началом такого человека, как Зохан ди Феррара.
– Однако ты не одобряешь его методов.
– Не одобряю, господин?
– Я почувствовал новую руку на кухне. Мы с маэстро знаем друг друга очень давно. Его работа не требует улучшения, Нино Латини.
Я повесил голову. Вот оно, в конце концов: просто окольный путь к палачу. Что я им скажу, там, в «Поросенке»? Терино заставит меня на коленях ползать или еще того хуже.
– Я покорно…
– Вот что я пытаюсь сказать, Нино: ты, кажется, очень разумно решил не улучшать методы маэстро Зохана, а просто готовить то, что хочешь.
– Я прошу прощения, господин. Надеюсь, я не нанес слишком большой обиды.
– Обиды? Без сомнения, ты обидел Зохана, но это не моя забота. Нет, ты привел нас в восторг, мессер Нино.
Потом все закончилось. Я пришел обратно на кухню, и Зохан сделал меня своим заместителем. Но единственной мыслью в моей голове было, что я не могу рассказать об этом моей милой, моей Тессине. Потому что я уже был не просто поваром в таверне. Я говорил – беседовал – с мессером Лоренцо. Дайте мне еще пару месяцев, и я бы нашел, что сказать Диаманте Альбицци по поводу его племянницы. Фортуна возложила на меня руку. Я засиял. Я превратился в золотой флорин.
Прошла еще неделя. Я прислонился к осыпающейся побелке в приюте отшельницы, наблюдая за пауками на балках. Колокол прозвонил дважды. Я подождал еще полчаса и ушел.
Неделю спустя небо было синячно-серым, а в воздухе сгущался гром. Я сидел, сгорбившись и глядя вдоль заросшей тропинки на заднюю стену монастыря. Снова и снова знакомая фигура, тень в белом головном покрывале, будто проплывала мимо окон. Колокол звонил: два, три, четыре раза. Я просидел на месте так долго, что птицы привыкли ко мне. Я сидел, пока не затекли ноги. Было бы так просто пройти по этой тропинке и постучать в дверь монастыря. Возможно, старая монахиня умерла. Или Тессина лежит дома, сраженная болотной лихорадкой, которая свирепствовала в тот год, или чумой, то и дело всплывающей у окраин города. Я перебрал все и каждую причины с десяток раз. А Тессина все равно не приходила.
Неделю спустя я снова забрался на стену. Однако в саду никого не было. Я понял, что хижина пуста, и спрыгнул обратно в переулок. Когда я проходил мимо старушки, она протянула мне маленький букетик цветов: дикий базилик. Из вежливости я поклонился и взял его. Но как только повернул за угол, на более широкую улицу, хлестнул букетиком по стене, глядя, как созвездие крошечных белых цветов становится черным на грязных камнях.
Флоренция, июль 1472 года
Год проходил – так быстро, что я едва это замечал. Я стал заместителем маэстро Зохана и все время работал. Никаких больше выходных – да и какой в них смысл? Они предназначались для Тессины. Для себя мне не требовалось свободного времени. Я выполнял все поручения маэстро, иногда готовил еду по его рецептам, иногда пробовал что-то свое. Работал, иногда страдал – и всегда учился. И уже почти не думал о Тессине. Тот странный день в приюте отшельницы казался таким далеким. Я посещал могилу матери, но едва мог вспомнить ее лицо. Отца я видел, только когда пересекались наши трудовые пути, то есть почти никогда. Каренца тревожилась за меня и в те редкие моменты, когда мы сидели вместе на ее кухне, говорила, что я доработаюсь до смерти. У меня не находилось времени на старых друзей с улиц: если я выходил, то поздно вечером, вместе с другими поварами, и говорили мы на своем особом языке.
Если и оставалось в моей жизни хоть что-то неизменное, то это была, пожалуй, стряпня Уголино: почти каждый день я ускользал из кухни и покупал порцию его рубца. Предлогом для этих вылазок, с одной стороны, являлась необходимость следить за рынком, чувствовать себя частью его мира, а с другой – сам рубец: простой, безупречный, он стал мерилом, по которому я оценивал работу собственных вкусовых сосочков. Каждый день я просил у Уголино рецепт, и каждый день он прищуривал глаза и крепко сжимал губы. Я никогда не мог понять, сердится ли он, да и помнит ли хотя бы с предыдущего раза, когда кормил меня.
После одного такого перекуса я случайно столкнулся со своим знакомым, Пьеро ди Гизоне, которого все называли Обезьяна – из-за длинных рук и ловких паукообразных пальцев. Я всегда считал, что он мог бы стать прекрасным карманником, но судьба подарила ему глаз на цвета, и мастер Алессо Бальдовинетти взял его помощником. Обезьяна целыми днями смешивал краски и переводил наброски на подготовленные доски, но вряд ли когда-нибудь достиг бы чего-то большего: он мог намешать такой красный колер, что любой кардинал утопился бы в Тибре от зависти, однако рисунки у него получались грубыми и лишенными всякого чувства.
– Нино! – Обезьяна выскочил из толпы – весь руки, ноги и острые глазки – и ухватил меня за рукав. – Можешь сделать мне одолжение? – спросил он тут же, не давая мне вставить ни слова.
– Смотря какое, – ответил я, думая только о том, что понадобится кухне для важного званого обеда в конце недели.
– Маэстро Алессо задал работенку нам с Козимо. Козимо Росселли – знаешь его, да?
Я кивнул. Росселли был старше меня, он уже прослыл хорошим художником со своим стилем, хотя все еще назывался учеником Бальдовинетти, когда это было ему удобно. Он написал несколько фресок для церкви Сант-Амброджо, и заказы потихоньку шли, но их пока было недостаточно, чтобы держаться на плаву.
– Проблема в том, что Козимо предложили немного поработать на Пацци, и… – Обезьяна потер костлявым указательным пальцем о большой.
Я кивнул:
– И?..
– Я не осмелился сказать маэстро. Он с меня шкуру сдерет. Ты же знаешь, какой он.
На самом деле я не очень-то знал, но опять кивнул. Бальдовинетти был чудесным художником, но учеников и подмастерьев гонял сурово.
– Козимо должен был написать эту девицу для Мадонны. Это нужно сделать завтра, потому что на послезавтра маэстро позвал штукатуров.
– А где должна быть фреска?
– Санта-Тринит. Но модель придет в комнаты Козимо. С компаньонкой, – добавил он с каким-то косым обезьяньим взглядом. Было нетрудно представить, как эти костлявые пальцы копаются в нижних юбках. – Знаю, знаю, очень жаль. Слушай, Нино, а ты можешь сделать набросок? Я видел твою работу, так же хороша, как у Козимо. Маэстро не заметит. Она будет на заднем фоне – малевать все равно станет кто-нибудь другой.
– Сколько? – прямо спросил я, надеясь, что Обезьяна передумает и оставит меня в покое, но он не возмутился.
– Лира.
– Две, – безотчетно поправил я.