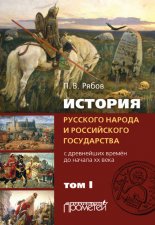Император Мэйдзи и его Япония Мещеряков Александр

Вместе с административной реформой было упразднено и подразделение в Министерстве религии, ведавшее деятельностью проповедников (сэккёси). Опыт их деятельности вышел неудачен, государственной религии на основе синтоизма создать не удалось. Опыта прозелитской работы не хватало, образованность проповедников оставляла желать лучшего, ритуалы не были унифицированы, представители разных религиозных школ не могли преодолеть догматических различий между своим пониманием «Неба», «Пути», верховной власти, идеалы западнической модернизации были проповедникам чужды. Предполагалось, что «проповедники» будут действовать на основании прежде всего синтоистских ценностей. Однако из ста тысяч проповедников (большинство из них не получали жалования и напоминали волонтеров) синтоистские жрецы составляли всего 20 процентов. А потому многие из них рассказывали пастве о том, что ближе не государству, а им самим. Например, один из них вместо того, чтобы разъяснять курс правительства, рассказывал о том, какие блага несет верующему почитание будд. Он закончил свою проповедь такими словами: «Во время молитвы следует поминать имя будды Амида, и если вы даже совершили что-то плохое и нехорошее, то стоит разок произнести имя этого будды, как прегрешения немедленно исчезнут»[124]. Нет, не этого ожидало правительство от своих служащих.
Проповедникам бывало зачастую трудно добраться до храмов и святилищ. Многие из них располагались в местах священных, т. е. высоко в горах. Верующие привыкли посещать их по большим праздникам, являться туда сколько-нибудь часто казалось им делом неблагодарным. Словом, идеологические возможности синто по обеспечению единения народа вокруг поставленных правительством целей оказались ограниченными. В то же самое время синто оставался главной опорой монархическо-национальной идеи.
Дело христианских миссионеров между тем находилось на некотором подъеме. В этом году выпускник Вест-Пойнта капитан Джейнс, нанятый преподавать в частной школе в Кумамото, крестил сразу 34 своих ученика. В обязанности капитана входило преподавание английского языка, естественнонаучных дисциплин и всеобщей истории. Уроки морали ему не доверили – они строились в соответствии с конфуцианским каноном. Однако Джейнс все-таки приступил к проповеди христианства. Среди его слушателей был и Токутоми Сохо (1863–1957), которому предстояло стать одним из властителей дум мэйдзийской Японии. Недовольство родителей юных последователей христианства было столь велико, что школу пришлось закрыть.
1876 год
9-й год правления Мэйдзи
В начале года в Иокогаму прибыл немецкий врач Эрвин Бёльц (1849–1913). Он учил японских студентов, лечил императорскую семью, оставил интересный и весьма откровенный дневник. Вместо положенных ему по контракту двух лет он прожил в Японии 26.
Бёльц застал японских интеллектуалов в момент полной потери ориентации. Одно из первых его впечатлений о японцах было таково: они хотят стать европейцами и не видят ничего хорошего ни в своей культуре, ни в истории. На заинтересованные расспросы Бёльца о прошлом Японии образованные люди отвечать не желали, утверждая, что это было «варварское прошлое». «У нас нет истории. Наша история только начинается», – убежденно говорили они[125]. «Америка – наша мать, Франция – наш отец», – повторяли оголтелые западники. Во многих школах вместо истории Японии преподавали историю Запада. Сатирики утверждали, что нынешние японские женщины с громадным удовольствием перекрасили бы себе глаза в голубой цвет, если бы только знали, как это сделать. Совсем недавно в Японии было трудно сыскать человека, который не считал европейцев «варварами». Теперь многие японцы стали считать варварами самих себя.
В момент прибытия Бёльца на государственной службе находилось около 520 иностранцев – больше, чем когда бы то ни было. Однако с этого времени их число стало сокращаться. К 1880 году их стало вдвое меньше. Общее число иноземцев, имевших опыт работы в Японии по контракту с правительством, достигало 3000 человек. Англичан среди них насчитывалось больше всех. За ними следовали немцы, американцы и французы. Вначале большинство из них работали инженерами и преподавателями. Но если численность преподавателей оставалась стабильно высокой, то инженеров с течением времени становилось все меньше и меньше – дипломированные японцы занимали их места. После 1894 года их число уже не достигало сотни человек. Помимо действительно высококвалифицированных специалистов, внесших значительный вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства и образования, находились и «искатели приключений». Так, профессорами Императорского университета, которые получали огромные зарплаты, работали простые торговцы, виноделы, моряки, крестьяне и даже… клоун.
Эрвин Бёльц
Иностранцы на службе японского правительства находились в привилегированном положении. Помимо заоблачных по тогдашним японским меркам зарплат, до 1881 года практически все они по истечении срока контракта удостаивались аудиенции у Мэйдзи. Однако «особость» их положения сказывалась и в другом: все они находились на должностях советников или же помощников, то есть не могли принимать никаких самостоятельных решений. Для путешествия по стране им по-прежнему требовалось специальное разрешение. Не разрешалось им заниматься и предпринимательской деятельностью.
Японское общество всегда с особой твердостью настаивало на соблюдении двух внутрисемейных обязанностей: детьми перед родителями и женами перед мужьями. Западники же в лице Фукудзава Юкити и его сторонников неустанно критиковали японские брачные порядки, говорили о том, что многоженство унизительно для женщины, что брак должен заключаться «по любви», а не по сговору родителей. Они настаивали на равенстве полов, и их идеи начали обретать сторонников. Будущий министр просвещения Мори Аринори подал пример: вступая в брак, он заключил со своей невестой контракт, в котором оговаривались равные права сторон, в том числе и в части распоряжения имуществом.
Однако по гендерной проблеме у традиционалистов находились сильные контраргументы. В январе случилось немыслимое: некая женщина убила своего мужа. «Почвенники», разумеется, в полной мере использовали это убийство в качестве «информационного повода». Вот до чего доводит ношение женщинами штанов, вот до чего доводит катание женщин верхом на лошади, вот до чего доводит стрижка волос, вот до чего доводит утверждение, что женщина должна вести себя сообразно своим желаниям! – громогласно заявляли они.
28 марта бывшим самураям пришлось распрощаться с последним видимым свидетельством своего благородного происхождения. В этот день был обнародован указ о запрете на ношение мечей. Это означало, что самурайское сословие исчезало окончательно. Отныне только полицейские и армейские чины имели право на ношение сабли. Недовольство среди самураев было огромным, в правительство поступали многочисленные петиции с протестами, а в Кумамото самураи даже решили, что станут расхаживать по улицам с деревянными мечами. Пройдет еще совсем немного времени, и недовольство выплеснется в восстания, где оружием послужат только что отмененные правительством мечи.
Менялось все, менялся сам ритм жизни. И если раньше, несмотря на введение солнечного календаря, служащим полагалось отдыхать через каждые десять дней, то с апреля этого года временным модулем сделали христианскую неделю – теперь предписывалось отдыхать по воскресеньям.
Еще в начале правления было объявлено, что Мэйдзи будет совершать частые поездки по стране. Однако второе путешествие удалось совершить только через четыре года после первого. Конечным пунктом значился городок Хакодатэ на Хоккайдо. Маршрут проходил по тем регионам, где сопротивление восстановлению императорской власти было наиболее сильным. Кроме того, следует иметь в виду, что северо-восток страны был одним из самых отсталых регионов. Как экономически, так и культурно.
Обосновывая необходимость посещения Хоккайдо, главный министр Сандзё Санэтоми писал, что люди далеких регионов даже не знают о существовании императорского дома, а император не знает, как живут и что чувствуют эти люди. И потому следует сделать так, чтобы они увидели друг друга. Таким образом, чиновники, ответственные за создание имиджа императора, еще раз подчеркивали необходимость визуального контакта между «верхом» и «низом». Пребывание императора в глубинке должно было лишний раз подчеркнуть, что все подданные находятся под рукою Мэйдзи. Это было символическим актом «присвоения» территорий, которые еще предстояло освоить с помощью более практических методов.
Мэйдзи отправляется в путешествие
Поездке предшествовала тщательная подготовка, местным властям от имени министра внутренних дел Окубо Тосимити разослали инструкции, как следует организовать встречу Мэйдзи. В частности, предписывалось преподносить императору географические карты тех местностей, по которым он проезжает. Это, разумеется, было глубоко символическим действом – преподнесение карты означало акт покорности, «передачу» управляемой территории под юрисдикцию сюзерена. Кроме того, были выработаны правила поведения населения. Предупреждалось, что нельзя приветствовать императора голыми и полураздетыми, при виде паланкина следовало снять головной убор, спешиться или выйти из экипажа, отойти к обочине, прижать руки к коленям и совершить низкий поклон. Все это сильно напоминало то, как японцы оказывали почтение князю или сёгуну.
Первая поездка Мэйдзи проходила в основном по морю. Сейчас предстояло сухопутное путешествие, которое Мэйдзи совершил главным образом в паланкине. Иногда он пересаживался в экипаж. Сто метров, которые император прошел своими ногами, удостоились специального упоминания в летописи.
Мэйдзи покинул Токио 2 июня. Его сопровождало 230 человек. Тщательная подготовка населения к встрече своего государя приносила свои плоды. Мэйдзи приказывал остановиться как раз там, где это было запланировано. Когда он решил посмотреть, как крестьяне сажают рисовую рассаду, перед его взором предстали копающиеся в грязи пейзане в своих лучших одеждах. При этом они еще распевали песни.
В эти годы правительство призывало аграриев из Америки и Англии, чтобы они посоветовали, как японцам вести сельское хозяйство. Частью их рекомендации оказались бессмысленными, частью – невыполнимыми. Эксперты советовали создавать крупные фермы, разводить коров и лошадей, сажать картошку, капусту и популярные на Западе зерновые (в основном пшеницу). Однако они не учли совсем «малого»: рис дает намного более высокие урожаи, чем пшеница; картофель плохо растет в жарком и влажном климате; для выращивания скота требуются пастбища, а откуда их взять, если каждый клочок земли уже чем-то засажен? Словом, японские крестьяне предпочли работать дольше, улучшать посевной материал, ирригационные сооружения и вносить больше удобрений. И только на обширных долинах холодного Хоккайдо с его редким населением некоторые советы западных экспертов были воплощены в жизнь.
Перспектива. Традиционные в своей основе агротехнологии сумели обеспечить устойчивый рост сельскохозяйственной продукции. Несмотря на значительный рост населения (33,1 млн в 1872 г., 41 млн в 1892-м и 52,1 млн человек в 1912-м), Япония в это время не знала массовых случаев голода или же нехватки продовольствия, что в период перехода от аграрного общества к индустриальному случается весьма часто.
Словом, Мэйдзи во время своей поездки наблюдал традиционную агротехнику, сопровождаемую такими же традиционными песнями. Песни и танцы вообще были обязательным пунктом программы. Император не упускал случая поприсутствовать на представлении. Последним аккордом в этой череде концертов были айны в Хакодатэ. Надо сказать, что такие выступления перед императором имели давнее происхождение. Еще в VIII веке прибывшие издалека подданные демонстрировали во дворце Нара свой фольклор. Эти выступления имели точно такое же символическое значение, что и преподнесение подарков: показать, что люди признают Мэйдзи своим государем. Разница состояла в том, что тогда они являлись во дворец, а теперь император посещал их. Что поделать – страна все еще переживала трудные времена, волнения и мятежи случались каждый год, Мэйдзи проживал во временном дворце, ему еще предстояло доказать, что он – государь подлинный. Только после того, как политическая стабильность будет окончательно достигнута, он перестанет совершать поездки по стране и подданные станут являться на поклонение в Токио.
По пути следования Мэйдзи выстраивались толпы. Многие передавали его сопровождающим свои приветственные стихи. Император просматривал их за ужином.
На всех встречах императора с подданными присутствовали Ивакура Томоми и Кидо Такаёси. Общение происходило через Ивакура. Напомним, что разговаривать напрямую с подданными считалось для полубожества делом «не царским». Император посещал государственные учреждения, промыслы, фабрики, школы. Лучшим ученикам он дарил словари и географические атласы. В Аомори 10 учеников демонстрировали Мэйдзи свое знание английского языка, которым сам император не владел. Темами их устных выступлений были следующие: речь Ганнибала перед своими воинами; речь Эндрю Джексона в американском сенате; выступление Цицерона против Каталины. В письменной же форме ученики должны были выразить восхищение визитом императора в Аомори, сочинить песни, восхваляющие просвещение, образование и прогресс. Император пожаловал каждому ученику по 5 иен, чтобы они могли купить себе по словарю Вебстера, но по возвращении в Токио высказал свое неудовольствие тем, что школы уделяют слишком мало внимания изучению самой Японии.
Императору показывали местную керамику, старинные предметы деревенской утвари, работы каллиграфов и художников. При посещении больницы в Хакодатэ Мэйдзи впервые удалось взглянуть в микроскоп. Его взору предстала располосованная врачами лягушка, на которой они изучали систему кровообращения. Все люди, с которыми встречался Мэйдзи, были одеты с иголочки.
Несмотря на то что нынешнее правительство столь часто списывало проблемы страны на сёгунат, посетил император и Никко, где находится святилище Токугава Иэясу. Мэйдзи был призван обеспечить не только территориальное единство страны нынешней, но и связь времен.
21 июля корабль доставил Мэйдзи и его свиту из Хакодатэ в Иокогаму.
Север страны казался императору тихим и замиренным. Однако это была обманчивая тишина – в стране, в особенности на юге, копилось недовольство. И для него действительно находилось немало оснований. Особенно негодовали бывшие самураи: им запретили носить самурайскую прическу, правительство закрывало глаза на деятельность христианских миссионеров, чиновники щеголяли в западной одежде. Не говоря уже о том, что они лишились своих давних сюзеренов. Ужасным потрясением стал запрет появляться в общественных местах с мечами, без чего жизнь попросту не имела смысла. Исчез последний знак того, что самураи являются «солью» японской земли. Нет, не такой представляли себе новую Японию те люди, которые с оружием в руках выступили в защиту императора. Точно так же как их сыновья, которые готовили себя к тому, чтобы стать элитой Японии. А тут еще подоспело распоряжение об отмене ежегодных пенсий для бывших самураев.
Нужно признать: пенсии себя не оправдали. Творцы закона рассчитывали, что они помогут самураям заняться каким-нибудь производительным трудом, основать свое дело, сесть на землю. Но этого не произошло; очень многие из них, подобно русским дворянам, свой капитал промотали. Самурай-рикша – один из устойчивых литературных персонажей того времени. Сохранились и драматические истории, как самурайским дочерям приходится добывать пропитание в борделях.
У самураев не было ни навыков, ни желания самостоятельно зарабатывать на свой рис – занятия физическим трудом они считали делом для «черни». Однако и эта «чернь» уже не желала признавать справедливость выплачиваемых самураям пенсий – ведь они уже никого не защищали. Газеты называли самураев «попрошайками», которые проедают и пропивают полученное от государства добро. На глазах самураи превращались чуть ли не в изгоев.
В августе было принято решение: ежегодные пенсии отменить, перевести их в государственные облигации со сроком погашения от 5 до 14 лет. За исключением горстки бывших князей, никто не мог прожить на проценты по выплатам на облигации, большинство их держателей предпочло с ними расстаться. Бывшие самураи окончательно становились «обычными» подданными императора Мэйдзи. Военное сословие перестало существовать. В то же время практически все бывшие князья сумели превратить свои деньги в капитал. Они вложили свои средства в покупку земли, торговлю, банки, фабрики, превратившись в помещиков и предпринимателей. Таким образом, на высшем уровне была сохранена социальная преемственность по отношению к эпохе Токугава. Поэтому князья не проявили сословной солидарности со своими бывшими дружинниками и не стали участвовать в их борьбе против нового режима. Кодекс самурайской чести культивировал верность вассала по отношению к сюзерену, но он не предусматривал такой же безоглядной верности сюзерена по отношению к вассалам. Очутившись без признанных веками потомственных лидеров, простые воины уже не могли рассчитывать на то, что их движение станет восприниматься как полностью легитимное.
Недовольство самураев переходило в отчаяние или, что было хуже для правительства, в отчаянную решимость. Наиболее непримиримые из них принадлежали к группе, назвавшей себя «Синпурэн» – «Объединение Божественного Ветра» («Синпу» – альтернативное чтение иероглифов «камикадзе»). Ее штаб находился в Кумамото. Лидер движения Отагуро Томоо (1835–1876), служивший настоятелем синтоистского святилища, имел в виду, что его единомышленники должны принести нынешней Японии такое же очищение, какое принес ей божественный ураган, развеявший монгольский флот в конце XIII века. Эти люди настолько ненавидели всякое проявление западной жизни, что, проходя под телеграфными проводами, прикрывали голову белым веером в надежде защитить себя от иноземных флюидов. Или же начинали разбрасывать вокруг себя очистительную соль при виде особи, облаченной в европейскую одежду. А один человек, полагавший, что бумажные деньги пришли с Запада (на самом деле они были изобретены в Китае), брезговал трогать их руками и соглашался брать ассигнации только палочками для еды[126].
Все свои действия Отагуро сверял с гаданиями. Несколько раз на его вопрос о восстании боги отвечали отказом, но день 24 октября они сочли подходящим. Один отряд «Синпурэн» напал на казарму в Кумамото и поджег ее. Другой атаковал здание ненавистного телеграфа. Третий ворвался в префектуральное управление. Нападавших насчитывалось около 200 человек. Большинству из них не было и 30 лет. Они не брали пленных, им удалось убить более 300 человек, включая губернатора Ясуока Рёсукэ. Но по чисто идеологическим мотивам восставшие были вооружены только холодным оружием, и когда правительственные войска опомнились и пустили в ход огнестрельное оружие, надеяться мятежникам было уже не на что. Отагуро и большинство его сподвижников сделали себе харакири.
Точно так же поступили самураи, восставшие 26 октября в Фукуока. Их было менее 200 человек, с самого начала они были обречены. Они назвали себя «армией смертников за страну». Восставшие отдавали себе отчет в том, что бороться против «цивилизации» – бесполезно. Но и жить во имя западной цивилизации они тоже не хотели.
Обстановка в Токио была нервозной. Услышав однажды артиллерийские залпы, доктор Бёльц поначалу подумал, что мятежники напали на столицу. И только потом понял, что это салют в честь дня рождения Мэйдзи. К этому времени, в отличие от недавнего прошлого, иностранцы в Иокогаме стали чувствовать себе более спокойно, чем в Токио[127]. Главной мишенью разгневанных самураев теперь стал уже не иностранный сеттльмент, а японские власти. Новое правительство никак не могло обеспечить спокойствия внутри страны, и в этом отношении оно мало отличалось от сёгуната последних лет его существования. Япония снова стояла на пороге гражданской войны.
Все самурайские восстания были подавлены очень быстро, однако безжалостность (по отношению к самим себе и другим), с которой действовали мятежники, и отсутствие сколько-то продуманной стратегии говорят о настоящем отчаянии. Многие крестьяне были тоже недовольны нововведениями, но пропасть, отделявшая их от самураев, оказалась настолько велика, что самураи поднимали самурайские восстания, а крестьяне, вооруженные бамбуковыми пиками, – крестьянские. Хотя новое правительство и поставило своей целью более тесное взаимодействие всех бывших сословий и консолидацию их в единую нацию, в данном случае это был большой плюс. Не пользовались самураи и поддержкой бывших даймё – правительство предусмотрительно откупилось от них. Они жили в Токио, а недовольные – в провинции.
Восстания проходили на фоне продолжавшихся усилий правительства по превращению населения архипелага в «народ». Власти и газеты начали использовать патерналистскую метафору, которая в течение многих веков обеспечивала устойчивость японского общества. Конфуцианство учило детей повиноваться своим родителям, а родителей – заботиться о своих детях. Теперь этот принцип стал распространяться на государство и общество в целом. Читатель газеты «Токё симбун» («Токийская газета») писал, что следует тщательно изучать правительственные указы, ибо: «…люди, которые оказывают услуги правительству, – суть его дети. А потому следует крепко придерживаться того хорошего, чему учат нас родители»[128]. Если правительство – это отец с матерью, то совершенно естественно, что средства семьи должны находиться в их распоряжении. Так обосновывалась необходимость уплаты налогов, которые затем шли на содержание чиновников, а также армии и полиции, которые «защищают» детей от разного рода злодеев[129].
Патерналистская метафора широко использовалась при построении «народного государства» и на Западе, и в России. Однако ее наполнение довольно сильно отличалось от японско-конфуцианского понимания. Отношения между родителями и детьми в буржуазной Европе имели сильный сентименталистский налет, властям было мало простого повиновения, они требовали от подданных еще и пылкой любви. Европейская любовь предполагает взаимность и равноправие, что казалось японцам немыслимым. Такая любовь по своей сути капризна, она не «природна», ее надо заслужить, она предполагает, что стороны «нравятся» друг другу, для поддержания любви требуются усилия обеих сторон. Конфуцианство же очищено от этой ненадежной, эмоциональной и капризной составляющей, дети должны слушаться родителей вовсе не потому, что они их «любят», а только потому, что они должны их слушаться, потому, что они имеют статус вечных детей. В японской культуре не заложен конфликт между поколениями. Бунт детей против отцов широко представлен в мифах европейских народов, в мифе японском такой конфликт отсутствует. Божественные братья и сестры ссорятся друг с другом, но они никогда не восстают против родителей. А потому японское общество было стабильнее, оно не знало таких взрывов эмоций, которые сменяются охлаждением, разрывом и массовым бунтом. Японская власть вовлекала людей в ряды «народа», которого она считала своим младшим партнером в деле превращения страны из «феодальной» в «современную». Она даровала ему право служить себе. И «простые» японцы были склонны к восприятию этой метафоры и такого неравноправного партнерства – мало кому приятно оставаться сиротой.
Существовавшее в обществе недовольство действиями правительства не позволяло говорить о том, что концепция «семейного государства» уже окончательно овладела умами, но уже в скором времени эта метафора докажет свои «склеивающие» потенции в полной мере.
Родители лучше знают, что хорошо, а что плохо. Поэтому-то правительство не только имеет право, оно просто обязано воспитывать своих детей – издавать законы и следить за их исполнением. Эти законы строго регламентировали поведение «детей» в публичных местах. Они были направлены на то, чтобы японцы не показались европейцам смешными. Доходило до полного абсурда: владельцам бань предписали подавать не такую горячую воду, к которой привыкли японцы, а попрохладнее – только на том основании, что так принято в Европе.
Токийская полиция в этом году начала взимать штрафы за следующие нарушения общественного порядка и приличий: нахождение на улицах раздетым и полураздетым; чинение препятствий проезду конных экипажей; отсутствие на экипажах сигнальных огней; чересчур быстрая езда экипажей, сопровождающаяся наездом на прохожих; татуировка; продажа порнографических гравюр; совместное купание в бане мужчин и женщин; фейерверки в непосредственной близости от жилых домов; продажа порнографических цветных гравюр; ношение мужчинами женской одежды и наоборот (исключение составляли актеры – эта мера была направлена против чересчур «передовых» женщин, норовивших влезть в мужские штаны); отправление малой нужды в неположенных местах; отправление малой нужды детьми перед магазинами; драки и ссоры; перевозка нечистот в бочках без крышки; нанесение ущерба зеленым насаждениям; женская стрижка. «Родители» в лице полиции тщательно следили за поведением «детей»: в августе штрафу подверглись 1053 человека, в сентябре – 1602. Особое внимание уделялось тем улицам, где предположительно могли оказаться иностранцы. При этом следует заметить: несмотря на то что общество переживало период реформ, который обычно сопровождается резким подъемом преступности, в Японии этого не происходило. В том же самом сентябре в Токио было совершено всего одно убийство и пять поджогов[130].
Вслед за Токио подобные ограничения стали вводить и другие местные власти. По всей стране шла борьба с «дурными» обыкновениями прошлого и «предрассудками». Крестьянам запрещали проводить прежние ритуалы (например, «распугивания насекомых», почитания бога дорог или поминовения предков), прыгать в чистую воду с мостков, поклоняться буддам на зимнем холоду в горах, спать днем. Профессии гадателей и уличных артистов тоже попадали под запрет. Запрещалось не допускать женщин в храмы, что было обычной практикой прошлого времени. Бурные танцы и долгие застолья запрещались потому, что это «вредит здоровью». Теперь было уже нельзя плеваться и сморкаться в очаг, вносить ночной горшок в спальню[131]. И еще очень многое теперь было нельзя. Словом, властями овладел настоящий «запретительный восторг». Надо ли говорить, что даже послушное японское население далеко не все эти запреты соблюдало в полной мере.
Арест гейш, которые посмели появиться на улице полуголыми
Самостоятельный бизнес бывшим самураям не слишком давался, поэтому большинство из них предпочло государственную службу. Основу офицерского корпуса полиции и армии составили именно бывшие самураи. Они были самой образованной частью японского общества. Европейские путешественники отмечали, что очень многие полицейские носят очки. Это и понятно – в своей прежней, самурайской жизни они уже успели натрудить глаза при изучении иероглифов, да и сама государственная служба в Японии была традиционно связана с огромным объемом отчетности.
В связи с тем что самураи оказались самым образованным сословием, значительное их число нашло себя в чисто «интеллигентных» профессиях – преподавателей, ученых, врачей. Подавляющее большинство должностей в аппарате управления также оказалось занято бывшими самураями. В отличие от аристократов, за самураями прочно закрепилась слава людей неподкупных. Их личная порядочность и приверженность общему делу создали такое положение, которое в значительной степени сохраняется до сегодняшнего дня. И если коррупционные скандалы в высшем управленческом звене мало кого удивляют, то неподкупность среднего и низшего звена вызывает уважение до сих пор.
В октябре Александр II прислал Мэйдзи фотографии и чертежи Зимнего дворца, которые тот запросил в связи с подготовкой строительства своего нового дворца. После заключения договора о территориальном размежевании монархи решили «дружить дворцами».
1877 год
10-й год правления Мэйдзи
Государственные расходы существенно превышали доходы, инфляция набирала обороты, продукция земледельцев дорожала, но дорожало и многое из того, что было нужно крестьянам. Росла и производительность труда. Поэтому довольно скоро размер сельскохозяйственных налогов стал в реальности меньшим, чем платили крестьяне до падения сёгуната своему хозяину. Однако «сухие» проценты не могут дать однозначного представления о том, как жили люди. Переход от полунатурального хозяйствования к товарно-денежному проходил нелегко, развивалось отходничество, город начинал высасывать крестьян из деревни, в самой деревне большее место стало занимать выращивание шелковичного червя, чая, коров, дети ходили в платную школу, какая-то часть юношей стала служить в армии. Менялся сам стиль жизни, а это всегда воспринимается болезненно.
Еще в конце 1876 года в префектурах Миэ, Аити, Сайтама и Сакаи случилось несколько крупных крестьянских волнений. Крестьяне требовали понижения налогового бремени, 57 тысяч человек подверглись наказаниям. Однако уже 3 января напуганное правительство понизило земельный налог до двух с половиной процентов от стоимости земли (местные налоги – до одной пятой этой суммы). Это привело к снижению налогового бремени на четверть. В связи с этим государственные расходы и чиновничий аппарат подлежали сокращению. Денег не хватало ни крестьянам, ни правительству.
24 января Мэйдзи отправился на корабле в Кобэ. Там он открыл новую железнодорожную линию, по которой он доехал из Кобэ до Киото. Пять лет назад при открытии железной дороги между Токио и Иокогамой в императорском указе говорилось о том, что железная дорога будет способствовать процветанию народа. Сейчас такие высокие слова не употреблялись, Мэйдзи лишь призвал чиновников, строителей и народ совместно порадоваться.
На сей раз Мэйдзи путешествовал в персональном вагоне. Вагон сработали в Англии, но его устройство и убранство отражали японские реалии. Символы императорского достоинства – хризантемы и драконы – украшали его. Хотя в комнате в голове вагона император сидел на мягких диванах, туалет был устроен на японский лад – справлять нужду следовало на корточках. Паровоз вел англичанин, но до появления первых японских машинистов оставалось ждать всего два года. Количество иностранных железнодорожных служащих, совсем недавно превышающее сто человек, стало уже сокращаться. Квалификация местных кадров была высокой, а платили им намного меньше.
В Киото Мэйдзи не появлялся уже давно. Его целью было посещение захоронений основателя династии Дзимму и своего отца Комэй, со дня смерти которого минуло уже целое десятилетие.
- Радуюсь мысли,
- Что в этом году увижу
- Первый снег
- В столице цветов,
- Где жил я так долго.
Цукиока Ёситоси. Мэйдзи и Харуко наблюдают за представлением (1877 г.)
Во дворце Госё Мэйдзи встречался с членами правящего дома, аристократами. Строения дворца заметно обветшали. Мэйдзи распорядился нанять 4 тысячи человек, чтобы они поддерживали дворцовое хозяйство в удовлетворительном состоянии. Кроме могил предков и синтоистских святилищ, Мэйдзи посещал школы, фабрики, ферму, представления театра Но, синтоистские мистерии кагура, железнодорожные станции, буддийские храмы в пригородах Киото и в Нара. Место предполагаемого захоронения Дзимму было приказано привести в порядок. Император совершил паломничество туда в День основания империи (Кигэнсэцу). Отправил Мэйдзи посланцев и к захоронению царедворца Фудзивара-но Фухито (659–720), отметив его заслуги в создании законодательной системы того далекого времени.
Храмы и святилища Мэйдзи посещал в традиционной одежде, школы и заводы – в европейской.
Посещение тех мест, которые были связаны со становлением японской государственности, придавали им новый статус в нынешней официальной идеологии. Мэйдзи старался показать, что не только «прогресс» волнует его – он дорожит и историческим наследием. В умах людей Токио должен был ассоциироваться с реформами и устремленностью в будущее. Нара и Киото предназначалась роль «фундамента», раствора, который должен скрепить собой детали возводимого здания под названием «Новая Япония». В это время устои искали не в том прошлом, которое ассоциируется с сёгунатами, а в прошлом более давнем, когда ни о каких военных правителях еще и не слышали.
Ёсю Тиканобу. Череда японских императоров (1879 г.)
Наверху изображен Дзимму, внизу – Мэйдзи с супругой. Между ними располагаются «портреты» нескольких императоров древности.
Действительность преподносила все новые доказательства того, что приверженность самурайскому прошлому служит деструктивной силой. Ко времени поездки Мэйдзи в Киото, в Кагосима, столице бывшего княжества Сацума, а ныне – центре префектуры Кагосима, все уже было готово к самому серьезному самурайскому восстанию, которое случилось в правление Мэйдзи. Историки обычно называют это восстание «юго-западной гражданской войной».
Сайго Такамори покинул Токио в 1874 году и обосновался в родном Сайго Такамори на охоте городе Кагосима. Вслед за ним последовали несколько сотен его земляков из императорской гвардии и полиции. Сайго получил возможность отдохнуть от дел, часто охотился. В то же время он основал несколько «частных школ» (они больше напоминали военные училища) для воспитания «настоящих» самураев, которые готовили себя к самым решительным действиям. Сайго тратил на эти училища свои сбережения, губернатор из государственных средств платил жалованье преподавателям и даже закупал «учебные пособия» в виде оружия. Обстановка в префектуре была такая, что для подростков и молодых людей посещение училища стало практически обязательным.
Сайго Такамори на охоте
Княжество Сацума традиционно было одним из самых военизированных. Это объясняется тем, что там, в отличие от подавляющего большинства других княжеств, в состав «настоящих» самураев традиционно включались и «госи» – те самураи, которые занимались сельским хозяйством. В других частях страны госи утратили свой самурайский статус еще в начале правления Токугава и влились в состав крестьянства, заняв руководящие должности в местном административном аппарате. В Сацума самураи и их семьи составляли около 25 процентов населения (в «обычных» княжествах доля самураев составляла 5—10 процентов). Вместе с самураями городскими самураи сельские с готовностью посещали военные училища.
Слушатели училищ никогда не ставили перед собой цели свержения Мэйдзи. Они полагали, что их император окружен людьми неправедными, от которых и следует его избавить. Сам Сайго сравнивал нынешнюю Японию с проржавевшим колесом – для того чтобы оно снова закрутилось, следовало крепко ударить по нему молотком и сбить ржу.
Общее число «учеников» в школах Сайго составляло около 13 тысяч человек. В декабре прошлого года из Токио в Кагосима были направлены секретные агенты. В их задачу входила проверка сообщений об антиправительственном духе занятий в местных училищах. Однако студенты схватили одного из них, Накахара Хисао, и обвинили его в подготовке покушения на их любимого Сайго. Под пытками Накахара признался в преступном замысле (потом он отказался от показаний). Это признание послужило непосредственной причиной волнений, которые переросли в восстание и войну. Самураи Сайго были недовольны очень многим, но они выступили с оружием в руках только тогда, когда посчитали, что жизни их сюзерена грозит опасность. Они руководствовались привычным кодексом чести и были верны не столько идеям, сколько своему господину.
Поскольку нанятый правительством пароход собирался забрать оружие из арсенала Кагосима, слушатели училищ при полном попустительстве местной полиции разграбили его. Сайго заявил, что отправляется в Токио в сопровождении правительственных войск, чтобы выяснить обстоятельства заговора против него. Под «правительственными войсками» разумелись его собственные формирования. Для большей убедительности он и его офицеры были одеты в сохраненную ими униформу императорских войск.
20 февраля войска Сайго Такамори численностью в 15 тысяч человек пересекли границу префектуры Хиго и вошли в город Кумамото. Непосредственной целью восставших был местный замок – главная цитадель правительства на юге Кюсю. Одно имя легендарного Сайго наводило ужас на защитников крепости, недавних крестьянских сыновей. Тем не менее войска Сайго не сумели войти в защищенный массивными стенами огромный замок с пятью десятками башен. Армия Сайго была вооружена пушками и винтовками, но две попытки штурма средневекового замка окончились неудачей, мятежники приступили к длительной осаде. 22 февраля нападавшим во время боя в открытом поле удалось захватить флаг 14-го полка под командованием Ноги Марэсукэ, будущего героя японско-русской войны.
Замок Кумамото
Ужас испытывали не только солдаты Мэйдзи. Уже в самом начале восстания губернатор Иокогамы уведомил иностранные представительства, что не может гарантировать их безопасность. Готовясь к эвакуации, с разных концов света в Иокогаму заспешили военные корабли.
Самураи, проживавшие в Кумамото, стали переходить на сторону восставших. Они говорили, что нынешняя европеизация лишила страну ее былого величия. Численность войск Сайго составляла теперь 20 тысяч человек. Сам он не был оголтелым антизападником – в число его кумиров входил Джордж Вашингтон. Перед военными действиями и даже после их начала он заявлял, что его целью является добраться до Токио и задать несколько нелицеприятных вопросов правительству. Пусть только правительственные войска пропустят его армию, которая собирается мирным маршем дойти до столицы. Наверное, он лукавил. В любом случае логика военных действий и радикализм окружения Сайго привели к возникновению полномасштабной гражданской войны.
Сам Мэйдзи, скорее всего, сожалел о случившемся, поскольку Сайго сыграл в свое время выдающуюся роль во время реставрации императорской власти. Его симпатия по отношению к Сайго и надежда уладить дело миром объясняют, почему Сайго был лишен придворного ранга и официальных должностей только 9 марта. Надо сказать, что и некоторые люди из ближайшего окружения Мэйдзи также не испытывали ненависти по отношению к Сайго. Так, Кидо Такаёси полагал, что Сайго просто плохо информирован и потому заблуждается.
Мэйдзи пребывал в подавленном состоянии. Он больше не выбирался за пределы Госё, забросил свои ежедневные занятия и даже верховую езду. Он часто затворялся в женской части дворца, куда практически никто из членов правительства не имел доступа. Мэйдзи сильно пил в это время, причем, как отмечает один из свидетелей, он пил сакэ не из обычных крошечных рюмочек, а из больших чаш, которые он наполнял до краев[132]. Здесь же, в Киото, у Мэйдзи случился первый приступ бери-бери, что также вряд ли могло помочь императору преодолеть депрессию. Эта болезнь зачастую приводила к летальному исходу. Недуг вызывался недостатком витамина В;. Он содержался в оболочке зерен риса, но японцы предпочитали обрушенный, «белый» рис. Именно белый рис считался признаком «богатой» жизни. Бери-бери была распространена в Японии очень широко. Однако в то время причины болезни оставались невыясненными.
Стандартным советом докторов была «смена воздуха». Именно этот способ лечения посоветовали они принцессе Кадзуномия, сестре Комэй и вдове сёгуна Иэмоти. Она тоже заболела бери-бери в августе этого года. Кадзуномия отправилась в горы Хаконэ, но было слишком поздно. Она умерла 2 сентября в возрасте 33 лет. Несмотря на то что в свое время она изо всех сил сопротивлялась браку с сёгуном, она оказалась преданной своему мужу супругой. Кадзуномия завещала похоронить ее не на своей родине в Киото, а в фамильной усыпальнице Токугава, находившейся при храме Дзодзёдзи в Токио. В руки ей вложили стеклянную пластину с фотографией Иэмоти. Это было его единственное фотографическое изображение. Изображение, которое Кадзуномия унесла с собой.
Правительственные войска обороняют замок Кумамото
Мэйдзи назначил принца Арисугава Тарухито и Ямагата Аритомо командовать своей армией. Десять лет назад Сайго и Арисугава сражались на стороне императора, теперь они стали врагами. И это при том, что оба они по-прежнему считали себя приверженцами Мэйдзи.
В Кумамото постоянно прибывали правительственные войска. Их доставляла компания «Мицубиси», в распоряжении которой находился к этому времени 61 корабль – более половины пароходного «парка» Японии. Политика взращивания отечественного предпринимателя начала приносить ощутимые плоды не только на линии Иокогама – Шанхай.
В то же самое время резервы пополнения армии повстанцев были почти исчерпаны, крестьяне не сочувствовали самурайскому делу, а сам Сайго, про которого в начале восстания пошли слухи, что он отменил земельный налог, видел в крестьянах только источник пополнения провианта и рабочей силы. Численность армии достигла 30 тысяч человек, но слишком многие были мобилизованы под страхом смертной казни и их боеспособность близилась к нулю. Сами самураи Сацума тоже мало представляли себе, за что они воюют. Они отчетливо осознавали, что им не нравится правительство, но что их ждет после его отставки, оставалось покрыто мраком. Зато они знали, кто ими командует, и были готовы умереть за Сайго. Основной объединяющей силой войска была личная преданность – наивысшая добродетель самурая. В этом заключалась сила самурая. Это же было и его главной слабостью: без «хозяина» он переставал ориентироваться в социальном пространстве.
Решение об осаде крепости стало крупнейшей стратегической ошибкой кампании Сайго. Он не имел возможностей для ведения затяжной войны. В стране было множество недовольных правительством самураев, но для них Сайго Такамори оставался человеком из ненавистного княжества Сацума, представители которого играли ведущую роль в Токио. Они не сумели преодолеть клановое недоверие и не присоединились к армии Сайго.
Войска Сайго не сумели взять крепость Кумамото, осада была снята через 54 дня. В результате ожесточенных боев потери с обеих сторон достигли 7500 человек. Сам город Кумамото сгорел дотла. Война продолжалась еще пять месяцев, но никакой речи о победе Сайго уже не шло. Это была агония. Правительственная армия наступала, войска Сайго отступали, пытаясь избежать окружения и полного разгрома. Сайго страдал ожирением и почти всегда передвигался в носилках. В это время он весил около центнера.
После продолжительной болезни, не дождавшись окончательного триумфа правительственной армии, 26 мая скончался один из ближайших советников императора – Кидо Такаёси. 28 июля Мэйдзи смог вернуться в Токио, уже не опасаясь, что его отъезд из Киото может быть воспринят как бегство.
24 сентября Сайго, армия которого уменьшилась теперь до 40 человек, отказался сдаться и, поклонившись в сторону императорского дворца, сделал себе харакири. Его друг Бэппу Синсукэ отрубил ему голову и похоронил ее. Через несколько минут его сразила правительственная пуля. После того как солдаты императора обнаружили закопанную в землю голову Сайго, ее тщательно вымыли и поднесли Ямагата Аритомо. Тем не менее люди все равно сомневались в правительственном сообщении о смерти Сайго – ореол, окружавший его личность, был слишком ярок, чтобы они поверили в вульгарную смерть. Той осенью Марс подошел к Земле необычно близко, это было истолковано как знамение. Стали говорить, что Сайго превратился в звезду. Звезду надежды на лучшую жизнь. Каждый вкладывал в это понятие свои представления о справедливом переустройстве мира.
Сайго Такамори, превратившийся в звезду
Мэйдзи поручил императрице Харуко написать стихотворение на смерть Сайго. Она сложила:
- У берегов Сацума
- Волны утихли.
- Были они высоки —
- Рябь вначале,
- Буря потом.
Победа далась императорским войскам дорогой ценой. В войне приняло участие 65 тысяч человек, 6 тысяч из них погибли. Число раненых составило 10 тысяч. Прямые правительственные расходы достигли 42 миллиона иен – 80 процентов годового бюджета страны. Правительство напечатало столько бумажных денег, что в скором времени за 1 иену серебром давали почти полторы иены ассигнациями.
Повстанцы потеряли убитыми 18 тысяч человек. Восстание Сайго Такамори оказалось самым масштабным и самым последним в череде массовых выступлений самураев против правительства. Теперь недовольные правительством окажутся способны только на «точечный» террор. Отец Николай, описав, в каком образцовом порядке содержится кладбище в Кагосима, где покоился прах повстанцев, проницательно отмечал в 1882 году: «Знать, за ним (Сайго Такамори. – А. М.) есть польза, и эта польза несомненно есть, это – кровопускание, чрез которое избыток беспокойных сил Японии испарился; Сайго – ланцет, которым была пущена кровь Японии; жаль только, что с застарелою – дрянной кровью самурайщины вытекло много свежей и питательной»[133].
Война правительства и Сайго получила широкое освещение в прессе. Фукути Гэнъитиро стал первым военным корреспондентом в истории Японии. Получить разрешение помог ему Ито Хиробуми, с которым Фукути познакомился в 1871 году во время пребывания в Америке, где они изучали банковское дело. Позднее к Фукути присоединился корреспондент из газеты «Хоти симбун» («Известия»). Репортажи Фукути в возглавляемой им газете «Нити-нити симбун» («День за днем») произвели сенсацию, тираж газеты превысил 10 тысяч экземпляров – немыслимая цифра по тем временам. Статьи Фукути были, естественно, полностью проправительственными, в апреле Мэйдзи дал ему аудиенцию, подарил 50 иен и два шелковых отреза. Власти понимали, что в новом обществе прессе принадлежит колоссальная роль.
За день до смерти Сайго наложница императора Янагихара Наруко родила сына. Он был зачат еще в то время, когда гражданская война только начиналась. Как и первый сын Мэйдзи, он прожил недолго. Сам же Мэйдзи возобновил свои занятия верховой ездой и китайской классической философией. Вскоре он станет слушать лекции по «Кодзики». В конце года, адресуясь к президенту Франции Мак-Магону, Мэйдзи подписал свое послание так: «Муцухито, император Японии волею Неба, потомок непрерывной линии императоров в десять тысяч поколений». Китайский император пошел на немыслимую уступку и стал обращаться к Мэйдзи как к «Великому Императору Великой Японии», признав его равным себе.
Кобаяси Киётика. Фукути Гэнъитиро на фронте
Хотя Мэйдзи предстояли еще долгие годы правления, уже в это время он озаботился историей своего царствования и отдал Историографической палате (Сюсикан) распоряжение о создании истории только что закончившейся гражданской войны.
Несмотря на войну, страна продолжала жить и работать. Поражает та скорость, с которой Япония импортировала последние достижения западной техники. В этом году в Японию приплыл Александр Белл, сделавший в прошлом году величайшее изобретение – телефон. Работу своего оборудования он проверял на линии Токио – Иокогама. Провода соединили также Министерство промышленности и Министерство двора. В это же время начинается и импорт велосипедов. Большинству японцев они оказались не по карману. В основном их не покупали, а брали напрокат.
В правительстве хорошо понимали важность информационной инфраструктуры для современного общества и экономики. Поэтому созданию телеграфа и современной почты уделялось первостепенное внимание. В этом году было отправлено 770 тысяч телеграмм и более 38 миллионов писем! Восстание Сайго также убедило руководство страны в необходимости незамедлительного расширения сети железных дорог.
Пока на юго-западе страны шла война, а сам Мэйдзи пребывал в Киото, в столице был основан Токийский университет. В его состав вошли четыре факультета: юридический, филологический, естественных наук и медицинский. Целью университета стала подготовка специалистов, овладевших западной наукой и традиционными ценностями японской культуры. В пояснительной записке Като Хироюки, который стал деканом первых трех названных выше факультетов, специально подчеркивалась важность изучения японской и китайской литературы. В эпоху господства в ученой среде ультразападнических настроений такая декларация была делом отнюдь не таким тривиальным, как это может показаться сегодня. Перечень изучаемых дисциплин включал в себя английский, французский и немецкий языки, западную, китайскую и японскую литературу, философию, историю. Между Востоком и Западом был соблюден разумный баланс, в штате преподавателей находились как японцы, так и иностранцы.
Что до более «практических» областей знания, то после ряда реорганизаций в естественнонаучный комплекс вошли следующие факультеты: естественнонаучный, инженерный, медицинский и сельскохозяйственный. Точно так же обстоит дело и в нынешней Японии. На Западе инженерное и сельскохозяйственное дело изучались в институтах и колледжах, в Японии университетское образование приобрело более прикладной характер.
Большинство студентов происходило из бывших самурайских семей. Сословие самураев было упразднено, но их дети оказались более других подготовленными к новым условиям жизни.
В октябре в Токио было создано и другое учебное заведение – закрытая школа Гакусюин. Там учились дети принцев и аристократов. Несколько позже школа перешла в прямое подчинение Министерства двора. Страна гордилась своей открытостью, но элита полагала, что ее детям общаться с простолюдинами следует все-таки поменьше.
Одним из замечательных событий этого года стало открытие Первой промышленной выставки. На ее проведение была выделена солидная сумма, сопоставимая с годовым бюджетом одной из самых развитых префектур – Канагава. Выставка открылась в токийском парке Уэно 21 августа и продолжалась 102 дня. Она готовилась в самый разгар войны. Правительство решило продемонстрировать уверенность в своих силах и не стало отменять выставку, которая была запланирована еще год назад. На церемонии открытия присутствовал сам Мэйдзи, его приветствовал военный оркестр. Поскольку Мэйдзи не пристало выступать на публике, речь сказал Окубо Тосимити – выставка проводилась под патронажем возглавляемого им Министерства внутренних дел. Он сказал, что выставка будет способствовать распространению передовых технологических знаний и, таким образом, послужит процветанию страны. В адресе Мэйдзи знание уподоблялось солнцу, а мастерство – луне. Уподобление знания солнечному свету встречалось и на Западе, но луна занимала в традиционной картине мира японцев такое большое место, что обойтись без нее сочли неразумным.
Выставка оказалась, безусловно, успешной – ее посмотрели более 450 тысяч человек. К этому времени Япония уже имела опыт участия во всемирных выставках (Вена – 1872 г., Филадельфия – 1876 г.). Японцам пришлась по вкусу идея о том, что выставка может послужить местом обмена передовым опытом, технологиями, знаниями. Кроме того, выставка предоставляла прекрасную возможность для того, чтобы зримо продемонстрировать те воплощенные в изделиях плоды, которые принесла Японии вестернизация. Если на мировых выставках «коньком» Японии были изделия традиционных ремесленников и художников, то в Уэно главный упор делался на достижениях современной промышленности и сельского хозяйства.
Японский павильон на Всемирной выставке в Филадельфии
Утагава Куниаки II. Шелкомотальная машина на Первой промышленной выставке
Ватанабэ Нобукадзу. Третья промышленная выставка (1890 г.) В центре изображения – император Мэйдзи, его супруга и сын
В правительственном обращении в связи с открытием выставки с присущей японцам обстоятельностью пояснялось, что она предназначена не для обозрения диковинок и пустопорожнего развлечения – ее целью является постижение законов производства и торговли[134]. Никаких аттракционов предусмотрено не было. Даже устроенный перед одним из павильонов фонтан рассматривался организаторами прежде всего как чудо инженерной мысли. Перед входом зрителей встречала девятиметровая ветряная мельница, которая стала одним из основных символов выставки и служила прекрасным ориентиром для приезжих из глубинки. В то время девяти метров было вполне достаточно для того, чтобы сооружение можно было приметить издалека.
Точно так же как и для зрителей, правительство выпускало руководства к действию и для производителей. От них требовалось, чтобы они выставляли не диковинных рыб и насекомых, не камни необычайной формы и традиционную живопись, а товары, которые служили бы олицетворением прогресса. Значительная часть экспозиции была посвящена современным высокотехнологичным изделиям: часам, механизмам, промышленному оборудованию, приборам. При этом главное внимание уделялось не собственно изделиям, а тому, как их делают. В это время правительство волновало производство, а не потребление.
Лучшие изделия награждались правительственными дипломами. На дипломах I степени был изображен дракон – символ императора. Дипломы выставки получили около 11 процентов участников. Труд и мастерство получали признание правительства, промышленность служила идеологемой новой Японии, одной из составных частей того склеивающего раствора, который был призван обеспечить идентичность японцев как нации. Участники и зрители вовлекались в строительство на общем пространстве под названием Япония.
Перспектива. На 2-й выставке 1881 года свои изделия представили уже 28 тысяч человек, а на выставке 1903 года – 105 тысяч! С одной стороны, это говорит о крошечном размере японских предприятий того времени, с другой – об энтузиазме населения и мобилизационных возможностях властей. Выставку 1903 года посетило 4 миллиона 351 тысяча человек. То есть это были мероприятия, в которые вовлекалось огромное количество зрителей и производителей. В правление Мэйдзи не было другого мероприятия, которое посетило бы такое огромное количество людей. Точно так же как и школы, выставки создавали общую культурную и национальную память.
Летом произошло еще одно событие, на которое мало кто тогда обратил внимание. 19 июня американский зоолог Эдвард Морс отправился на поезде из Иокогамы в Токио. Проезжая мимо местечка Омори, из окна вагона он заметил небольшой холм, который показался ему несколько странным. Ученый приступил к раскопкам и обнаружил, что наткнулся на помойку древнего человека. Поскольку основным ее содержимым оказались использовавшиеся в пищу раковины, месту присвоили название «раковинная куча» (кайдзука). Впоследствии памятники этого типа обнаружились по всей стране. Помимо остатков пищи (кости рыб, птиц и животных), там нашли и керамические черепки. Они были покрыты узорами, которые Морс назвал «веревочными» (cord mark). Японцы перевели этот термин как «дзёмон», точно так же назвали и весь период, который соответствует неолиту в мировой археологической классификации. Так стараниями американского ученого в Японии был открыт новый период ее археологической истории.
Памятник Э. Морсу (Токио)
Протояпонцы поглощали моллюсков в каменном веке, они были излюбленным лакомством и сегодня. Несмотря на высокую плотность населения, с точки зрения тогдашних мировых мегаполисов Токио представлялся очень большой деревней. Воздух был еще настолько чист, что в ясную погоду из Токио была видна гора Фудзи (сейчас об этом можно только мечтать). В самом городе встречались засеянные рисом поля, в Токийском заливе во время отлива множество людей бродило по обнажившемуся дну. Они собирали съедобные ракушки. Правда, теперь моллюсков не только ели – раковины мельчили, а крошку пускали на облицовку домов.
Последствия надвигающейся индустриализации еще не были явлены в полной мере, Токио еще не успел превратиться в «каменные джунгли». Тот же самый Эдвард Морс, вкусивший «прелести» стремительной индустриализации в Америке, писал о Токио: «Было весьма отрадно наблюдать – через весь огромный город – корабли в заливе Эдо; ни одной трубы, ни малейшего дымка – впечатляющий контраст по отношению к нашим задымленным городам»[135]. Ему вторил и В. Крестовский: «Тут, справа, – какая-то фабрика, состоящая из нескольких кирпичных зданий. На нее невольно обращаешь внимание, потому что ни около Иокогамы, ни в окрестностях Токио не видать высоких фабричных труб, к которым так привык наш глаз в Европе, что без них мы даже не можем представить себе предместий большого города…»[136]
1878 год
11-йгод правления Мэйдзи
Восстание Сайго было подавлено, но популярность его оставалась огромной. В Токио шел посвященный ему спектакль. Он продолжался четырнадцать часов. Сайго был мертв, но это не положило конец политическому террору. На сей раз мишенью стал наиболее влиятельный на тот момент член правительства – министр внутренних дел Окубо Тосимити. Он был школьным товарищем Сайго, они вместе боролись против сёгуната, но после Реставрации их пути резко разошлись: Окубо стал ловким и лощеным бюрократом, а Сайго так и остался грубоватым и прямодушным воякой – «последним самураем» уходившей эпохи. Окубо наводил ужас на своих подчиненных, добиться его сочувствия было невозможно – его сравнивали с айсбергом. Подчиненные Сайго обожали его – ужас он наводил только на врагов. Окубо был ключевым игроком на стороне правительства, против которого восстал Сайго. Окубо одержал безоговорочную победу, но ему удалось пережить своего врага всего на полгода.
Симада Итиро, тридцатилетний самурай из города Канадзава, был главной фигурой заговора. Претензии Симада и его сторонников к правительству оказались вполне типичными для того времени: игнорирование кучкой политиков мнения самураев, низкопоклонство перед Западом, отказ от нападения на Корею. Они полагали, что «неправильные» законы принимаются без совета с народом и что император не является их инициатором.
Шестеро самураев прибыли в Токио в марте. Они тщательно изучили график, согласно которому Окубо посещал императора, и наметили покушение на 14 мая. За несколько дней до этого Симада отправил министру письмо, предупреждавшее его об опасности. Симада хотел, чтобы министр и его помощники знали о тех причинах, которые побудили его к действию. Подобных писем Окубо получал множество и вряд ли обратил особое внимание на это послание. А иначе чем объяснить тот факт, что в этот день у Окубо даже не оказалось пистолета, который обычно находился в его экипаже? Перед поездкой во дворец Окубо беседовал с губернатором префектуры Фукусима. Он, в частности, говорил, что для создания новой Японии потребуются три десятилетия. Первое десятилетие военных конфликтов уже минуло, наступило второе, созидательное, во время которого он, Окубо, будет играть ключевую роль. А в третье десятилетие страной станут управлять политики уже другого поколения.
Окубо Тосимити
Когда экипаж Окубо направлялся к дворцу, двое заговорщиков бросились к паре лошадей в упряжке и своими мечами покалечили им передние ноги. Четверо других убили кучера, вытащили Окубо из кареты и зарубили его. После этого они аккуратно сложили свое оружие возле трупа и отправились сдаваться. Они вручили полицейским свое политическое заявление. На вопрос о сообщниках гордо ответили, что все тридцать миллионов японцев являются ими. Непосредственно перед убийством преступники направили письмо в газету «Тёя симбун» («Двор и народ»). В нем перечислялись «прегрешения» Окубо. Газета опубликовала письмо, ее выпуск был приостановлен. Преступников, разумеется, казнили. Если бы преступление было совершено в прошлом, головы убийц непременно выставили бы на всеобщее обозрение. Однако теперь этот обычай окончательно ушел в прошлое. Прежним осталось поведение политических террористов: они не пытались скрыться. У полиции возникали проблемы с предупреждением террора, проблем с поимкой преступников не возникало.
Мэйдзи посмертно присвоил Окубо чин правого министра (начиная с VII в. посмертное повышение по службе стало обычной придворной практикой) и выделил 5000 иен на похоронные расходы. Это были первые в Японии государственные похороны: приспущенные флаги, артиллерийский салют боевых кораблей. Заупокойные службы проводились на синтоистский лад. Гонения на буддизм уже прекратились, но и допускать его в государственную жизнь никто не собирался. Новым министром внутренних дел был назначен Ито Хиробуми.
21 мая Мэйдзи распорядился, чтобы чиновники больше не строили себе каменных хором в европейском стиле, поскольку это вызывает в людях раздражение. Когда же будет окончено возведение его собственного нового дворца, тогда и строительство шикарных особняков не станет больше никого удивлять. Именно так: после того как сам император подаст пример, можно будет последовать ему без опасения за свою репутацию. Кроме того, император высказал неудовольствие тем, что со времени Реставрации важнейшие посты занимают только представители Сацума, Тёсю и Тоса. Разве в других частях нашей великой страны нет способных людей? – вопрошал император[137]. Но его вопрос остался без ответа. С засильем юго-западных княжеств в правительстве будет покончено только в следующем веке.
В июне Мэйдзи открыл военно-морскую школу. Флот становился одним из символов могущества, к которому стремилась страна. Однако день для проведения торжественной церемонии определили гаданием[138]. Солнечный календарь еще лучше высвечивал: старой Японии находится место и в Японии новой.
В июне этого года заканчивается создание системы общенациональных праздников, начало которой было положено в 1873 году. К уже имеющимся восьми праздникам добавили еще два: весенний Праздник поминовения душ-предков императоров и осенний Праздник поминовения душ-предков императоров. Они справлялись в дни весеннего и осеннего равноденствия. Теперь заимствованная из Европы идея национальных праздников приобрела законченный вид. При этом «праздничная сетка» оказалась заполнена только теми датами, которые были связаны с императорским родом и имели исключительно японскую специфику. В течение полувека, с 1878 по 1927 год, вся Япония отдыхала и праздновала по этим дням.
Прошлогодняя программа по визуализации императора из-за гражданской войны оказалась невыполненной. 23 мая этого года Мэйдзи объявил, что в августе отправляется в поездку по районам Хокурику и Токай. Только что был убит Окубо, в предполагаемом маршруте значился город Канадзава, откуда происходил Симада Итиро, и потому многие пытались отсоветовать Мэйдзи покидать Токио. Однако в результате все-таки решили, что не следует идти на поводу у террористов. Впрочем, нет никаких свидетельств того, что в это время кто-то вынашивал преступные планы относительно особы императора. Преступники метили в министров, о покушении на императора было невозможно даже подумать. В свиту Мэйдзи входило 300 человек. Их охраняли 400 воинов.
Начавшееся 30 августа путешествие, значительная часть которого проходила по настоящей глубинке, принесло Мэйдзи немало открытий. Так, всего в нескольких десятков километров от Токио, в крошечной по японским понятиям деревне (всего 129 жителей) не оказалось ни одного грамотного человека. Там не было даже храма; если кто-то заболевал, ни один врач не соглашался отправиться туда. Полная нищета и отсутствие всяких следов «прогресса» представляли собой резкий контраст по отношению к тем переменам, которые происходили в Токио.
Путешествие запомнилось тяготами пути. От непрерывных дождей дороги превратились в месиво, императору приходилось вылезать из своего паланкина, ибо носильщики не могли преодолеть это болото. И это несмотря на то, что дороги перед приездом Мэйдзи отремонтировали. Причем за счет местных жителей. На многочисленных горных перевалах Мэйдзи тоже приходилось передвигаться пешком. Император демонстрировал хорошую физическую форму, а это было не так просто – ведь до своего воцарения он не покидал пределы своего дворца, а физические упражнения не входили в программу подготовки будущего монарха.
В самые удаленные уголки страны Мэйдзи «экспортировал» государственную эмблематику. Города и деревни украшались государственными флагами, фонариками с изображением солнца, повсюду можно было увидеть 16-лепестковую хризантему.
Поскольку значительная часть маршрута проходила по тем местам, где десять лет назад шла война между войсками императора и силами, которые поддерживали сёгунат, Мэйдзи часто отправлял посыльных, чтобы они совершили приношения могилам погибших в сражениях. Несмотря на заявленное желание избежать излишней помпезности (так, ученикам школ предписывалось появляться перед императором в своей повседневной одежде), многие владельцы тех домов, где останавливался на ночлег император, провели дорогостоящие ремонты. Домовладелец из Ниигата потратил целое состояние – 2000 иен. Люди желали заполучить в гости Мэйдзи не только потому, что это считалось почетным. Они считали его за бога; почитая его, они рассчитывали на его помощь в будущем.
Составители официального отчета постарались представить поведение Мэйдзи в качестве идеального для правителя конфуцианского типа, который разделяет со своим народом как радости, так и горести жизни. Так, в доме, где ночевал Мэйдзи в Идзумодзаки, летали тучи комаров. Императору предложили провести ночь под покровом сетки от комаров, но тот якобы ответил: «Главная цель путешествия – понять тяготы людей. И если я сам не почувствую, в чем они заключены, как смогу понять их жизнь?»[139]
Проехав по побережью Японского моря, Мэйдзи добрался до Киото. Оттуда он собирался отправиться на поклонение в Исэ, но тайфун спутал планы. Это было первое путешествие Мэйдзи по стране, когда весь маршрут проходил по суше. Преодолев 440 ри (ок. 1700 километров) за 72 дня, 9 ноября он вернулся в столицу. Токио встретил его национальными флагами, горожане высыпали на улицы – день был объявлен выходным. Из многочисленных посещений школ Мэйдзи вынес впечатление, что ученикам не хватает традиционных моральных ценностей. Неприятным сюрпризом стали жалобы учителей на то, что многие ученики не испытывают почтения перед старшими по возрасту и перед властями.
Вряд ли это можно было считать случайностью. Наиболее «прогрессивно» настроенные мыслители того времени считали буддизм и конфуцианство абсолютно устаревшими. Примером может послужить Фукудзава Юкити, считавшийся кумиром образованной публики. Как он относился к традиционной морали? В прежней Японии пользовалась большим авторитетом история о китайском мальчике У Мэне. Поскольку комары нещадно жалили его нищих родителей (у них в доме не было даже занавесок), он на ночь набрасывал свою одежонку на них, а сам подставлял свое голое тело кровососам, отвлекая их внимание от отца с матерью[140]. Цитируя эту историю, Фукудзава «цинично» заявлял, что лучше бы сын заработал денег на москитную сетку. Так чего же было ожидать от детей?
Постоянные занятия конфуцианской классикой убеждали Мэйдзи в том, что преданность монарху и сыновняя почтительность являются основой сильного государства. И этому все время находились подтверждения в реальной жизни.
23 августа, всего за неделю до того, как Мэйдзи покинул Токио, в столице случился мятеж. В нем участвовало около 200 человек из артиллерийского батальона императорской гвардии. Подавляющее большинство солдат были сыновьями простолюдинов. Они убили двух офицеров и, прихватив с собой две пушки, двинулись к императорскому дворцу Акасака, собираясь высказать недовольство малым денежным содержанием и дрянной амуницией. И это несмотря на то, что в прошлом году они участвовали в победоносной войне против Сайго Такамори! Мятежников арестовали, они не оказали никакого сопротивления. Но наказание было жестоким: 55 человек были расстреляны, 114 – оказались в тюрьме.
На самом деле армия жила по тогдашним японским стандартам не так плохо. За исключением часов военной подготовки, солдаты имели право покидать расположение части, по воскресеньям у них был выходной. Но, как потом выяснилось, вместо духа преданности в части царил душок свободомыслия. На политзанятиях солдатам, в частности, рассказывали о французской революции, о том, что ее благородной целью является исправление дурных действий правительства[141]. И вот солдаты возомнили себя борцами за правое дело, однако правительство посчитало их мятежниками. Их жара хватило всего на пару часов, но сам факт того, что они посмели выступить против правительства, наводил на самые печальные размышления.
Несмотря на все недостатки и трудности, усилия по обучению страны приносили свои плоды. Учились взрослые – в этом году на железных дорогах английских машинистов сменили японские. Учились и дети – все европейские путешественники единогласно отмечали: школьное дело в Японии поставлено превосходно. На Парижской всемирной выставке этого года Японии присудили первую премию за организацию школьного дела. В стране насчитывалось уже 20 тысяч школ, в которых обучалось больше 40 процентов детей. Их родители рассчитывали не только на карьерный успех своих чад. Они рассчитывали и на то, что дети станут красивее их. В это время широкое распространение получает убеждение: постоянное сидение на полу «пригибает» к земле и вызывает искривление позвоночника. Японцы того времени желали походить на европейцев не только манерами. Они хотели «дорасти» до них в буквальном смысле этого слова. В школе учили сидеть на стуле, на торжественных мероприятиях ученики не сидели, а стояли, занятия физкультурой расправляли грудь.
Продолжали «завоевание Европы» и японские художники. В этом году вышел в свет последний, пятнадцатый выпуск рисунков Хокусая из серии под названием «Манга». Первый выпуск появился в продаже еще в 1814 году, на Западе тогда никто не знал имени художника. Теперь же, в 1878 году, издатель в предисловии с удовлетворением отмечал: «Теперь часто наши магазины посещают иностранцы, которые интересуются гравюрами или коллекционируют работы мастера. Недавно я увидел книгу, изданную в Европе, и в ней было большое количество рисунков из „Манга“. Тогда я понял, насколько широко распространилась слава о силе кисти Хокусая»[142].
Продолжал свой победоносный путь на Запад и японский шелк. В 1872 году шелкомотальных (кокономотальных) фабрик насчитывалось только девять, но теперь, всего через шесть лет, их число возросло до 282. Они были меньше, чем в Томиока, стены лепили из глины, станки зачастую делали не из металла, а из дерева. Однако ввиду низких издержек, сверхэксплуатации деревенских девушек и низких зарплат продукция этих фабрик была конкурентоспособной. По объему производства шелка-сырца Япония стала постепенно приближаться к Китаю – крупнейшему производителю шелка в мире.
Повышению качества шелка и других товаров служили ярмарки под крышей (канкоба), проводившиеся при прямом участии властей. Первая общенациональная ярмарка открылась в этом году в Токио. По словам В. Крестовского, это был «целый лабиринт деревянных зданий, зал, крытых галерей и переходов, где сосредоточены по отделам всевозможные произведения местной кустарной и мануфактурной промышленности, перечислить которые нет никакой возможности, кроме как в длинном каталоге. Тут чего хочешь, то и просишь. Тут все есть, решительно все, что требуется в обиходе японской жизни, за исключением лишь съестных продуктов, если они не в консервах. Вы находите здесь и предметы роскоши, и предметы первой необходимости, пищу для ума и образования, пищу для развлечения и комфорта, инструменты и пособия для всевозможных работ, искусств и ремесел. Тут и мебель, и утварь, ткани и одежда, книги, табак, цветы, духи и прочее и прочее. Но замечательно вот что: допускаются в Кванкубу изделия не иначе как премированные, получившие медали и почетные отзывы на разных конкурсах и местных провинциальных выставках, так что превосходные качества всех этих произведений вполне гарантированы – покупайте смело, вы не рискуете ошибиться и быть обманутым»[143].
Иными словами, Центральная ярмарка в Токио была лишь заключительным звеном в череде подобных мероприятий, проводившихся по всей стране.
Ярмарки стали прообразом будущих универмагов и «современного» способа потребления. Японцы привыкли покупать нужные им вещи в специализированных лавках. Там тобой одним занимался приказчик, который носил со склада требуемые вещи. Витрин не было, выставлять весь товар напоказ считалось неприличным. Самый лучший товар следовало держать подальше и приберегать напоследок. На ярмарках все обстояло иначе, там клиенты сами подбирали и покупали себе нужную вещь из числа тех, что были выставлены на всеобщее обозрение. Или не покупали. В отличие от лавок, куда ходили непременно с целью совершить покупку, по ярмарке можно было бродить просто для удовольствия. Тамошний продавец уже не знал клиента в лицо, теперь понятия «продавец» и «знакомый» переставали быть синонимами[144].
1879 год
12-й год правления Мэйдзи
В январе главный инспектор полицейского управления Кавадзи Тосиёси (1834–1879), считающийся «отцом-основателем» японской полиции, подал докладную записку, в которой он ратовал за возрождение искусства фехтования мечом (кэндзюцу). Во время войны с Сайго Такамори «отряд обнаженных мечей», составленный из мастеров кэндзюцу, проявил себя наилучшим образом. И дело было не столько в их выучке, сколько в несгибаемом духе. Роль холодного оружия в современной войне с каждым днем становилась все меньше, но это отнюдь не отменяло необходимости воспитания смелых и мужественных воинов. Держа в руках меч (даже если это был учебный деревянный меч), человек ощущал связь со знаменитыми воинами древности и средневековья. Предложения Кавадзи приняли, все полицейские стали заниматься фехтованием на мечах. Запрещение самураям носить мечи было преодолено – в сознании служивого человека он продолжал сохранять огромное значение. И не только служивого – «Движение за свободу и права народа» также практиковало воинские искусства для воспитания своих активистов. Самураев в стране официально не существовало, но их воинский дух овладевал все новыми и новыми людьми.
В начале этого года статус Рюкю был определен окончательно. Японское правительство все время требовало, чтобы король Рюкю Сётай (1843–1901) прекратил даннические отношения с Китаем. На практике это означало: не посылать посольства при восхождении нового китайского императора на престол. Однако король ослушался и такое посольство все-таки отправил (в январе 1875 г. императором Китая стал четырехлетний Дэ-цзун). Кроме того, несмотря на приказ вести такое же летоисчисление, как в Японии (т. е. сообразуясь с девизом правления Мэйдзи), Сётай продолжал использовать китайский календарь. Он также неоднократно просил сохранить двойное подчинение, называя Японию – отцом, а Китай – матерью. Японцы отвечали тоже с применением метафоры родства: это все равно как если бы у жены было два мужа.
Политическая элита Рюкю была вполне довольна прежними порядками, когда налоги составляли две трети крестьянского урожая. Но по этой же причине она была лишена поддержки снизу. Видя свою опору в Китае, король и его окружение пытались сохранить свое положение за счет консервации даннических отношений с Китаем.
Однако японское правительство, в котором после убийства Окубо главную партию исполнял Ито Хиробуми, заняло жесткую позицию по отношению к «непослушанию» короля. Правительство, где тон задает министр внутренних дел, вряд ли может действовать по-другому.
Ситуация с Рюкю развивалась быстро. Отказавшись ранее от нанесения удара по Корее, что вызвало настоящий раскол в стране, на сей раз японское правительство действовало с редким единодушием. 25 января первый секретарь Министерства внутренних дел Мацуда Митиюки (1839–1882) прибыл в город Наху и уже на следующий день перед политической элитой в столице Сюри зачел послание (правильнее было бы назвать его ультиматумом), подписанное главным министром Сандзё Санэтоми. Его смысл сводился к тому, чтобы король Рюкю немедленно признал Японию своим единственным сюзереном. На размышления была отпущена неделя. Сётай отвечал в том духе, что если он откажется от посылки регулярных миссий в Китай, то его страна будет жестоко «наказана».
Мацуда уехал в Токио. Потом снова вернулся – на сей раз с 560 военными и полицейскими. Привез он и указ Мэйдзи об учреждении на месте бывшего княжества-королевства Рюкю префектуры Окинава. Мэйдзи приказал Сётай и его наследникам прибыть в Токио. Ни сам Сётай, ни его приближенные ехать никуда не желали. Поскольку король сказывался больным, из Токио прислали врачей, которые сказали, что здоровью короля ничто не угрожает. Длительные переговоры, сопровождавшиеся «выкручиванием рук», закончились тем, что в июне Сётай приплыл в Иокогаму. Мэйдзи дал ему и его старшему сыну аудиенцию. Сётай пожаловали 3-й младший ранг, его сыну 5-й младший – они стали японскими аристократами. Подданные Сётай из числа крестьян и рыбаков отнеслись к отъезду своего короля вполне спокойно, никаких бунтов не случилось, протесты Китая закончились ничем.
Перспектива. В 1884 году бывшему королю Сётай разрешили посетить родину. Ему дали на это целых 100 дней. В 1893 году Окинаву посетил принц Китасиракава. На устроенный им прием не пришел ни один местный аристократ. В отличие от крестьян, потерю короля они переживали тяжело.
Японские врачи оказались правы относительно здоровья короля: после переезда в Токио Сётай прожил еще двадцать лет и благополучно скончался в полном забвении. Операция по присоединению к Японии архипелага, который не хотел присоединяться, была проведена успешно, однако до сих пор многие местные жители считают себя не совсем японцами.
С присоединением Рюкю Япония внесла свой вклад в разрушение китайской империи Цин и организованного ею дальневосточного международного порядка. Пока что, по сравнению с европейскими державами, этот вклад был небольшим, но все-таки Япония сделала шажок по дороге в клуб «цивилизованных» стран. Цивилизованных в том смысле, который подразумевался тогдашним международным правом – правом нападения на того, кто слабее тебя.
Китай не признал присоединения Рюкю к Японии. Острова не имели для него никакого экономического значения, но потеря вассального королевства изменяла привычную картину мира, в которой Китай был окружен варварскими странами, приносящими регулярную дань. Важность Рюкю для Японии тоже определялась идеологией. Объявляя архипелаг своим, Япония встраивалась в европейскую картину мира: цивилизованная страна должна нести цивилизацию туда, где ее пока что нет. Китайцы стремились удержать рюкюсцев в орбите своего влияния в качестве иностранцев и варваров, для японцев была актуальна другая метафора – «воссоединение с последующим окультуриванием».
21 июня в Нагасаки на военном корабле «Ричмонд» прибыл герой войны между Севером и Югом, бывший президент Америки генерал Грант, который несколько лет назад принимал в Белом доме миссию Ивакура. Грант совершал длительное кругосветное путешествие, чтобы избиратели имели время забыть про громкие коррупционные скандалы в его правительстве. Во время путешествия он временами вел себя так, как и положено американскому генералу того времени – швырял окурки сигар в саду, напивался и приставал к женщинам.
Утагава Кунисада III. Гейши, приветствующие генерала Гранта
Генерала и его супругу встречали в Японии с исключительной помпой. 72 гейши танцевали для него на сцене театра Кабуки, обернутые в подобие американского звездно-полосатого флага. Расчувствовавшийся генерал отдарил театр занавесом.
Грант удостоился аудиенции у императора, они даже обменялись рукопожатиями. Церемониймейстеры с содроганием ожидали, что Грант своими манерами ненароком «оскорбит» августейшую чету. Например, вознамерится поцеловать Харуко руку. Обошлось. Мэйдзи даже отправился вместе с четой Грантов в парк Уэно, где их приветствовали толпы народа. Генерал с супругой посадили в парке два дерева на память о своем пребывании. Верный императорскому обыкновению делать руками возможно меньше, Мэйдзи своего дерева не посадил. Все это действо было приурочено не только к визиту генерала: в этом году исполнялось 12 лет со времени переезда Мэйдзи в Токио. 12 лет – это своеобразная круглая дата, Мэйдзи находился здесь уже в течение полных двенадцати зодиакальных лет, и токийцы попросили императора доставить им радость увидеть его. В прошении говорилось, что деяния его подобны благодатному дождю и восходу солнца. Грант, возможно, полагал, что энтузиазм публики вызван его персоной, но был прав только отчасти.
Мэйдзи и Грант провели и неофициальную беседу. Гранту было 57 лет, Мэйдзи – 27. Грант был американцем, Мэйдзи – японцем. Грант советовал, Мэйдзи, похоже, помалкивал. Тон беседы был назидательным. Грант дал японскому истеблишменту ряд советов: не делать внешних долгов, не занимать слишком жесткую позицию по отношению к Китаю, не торопиться с учреждением парламента, не увольнять иностранных преподавателей из учебных заведений[145].
Никто ему не возражал, но будущие события показали, что отношение к советам оказалось крайне избирательным. И если японское правительство и вправду старалось не брать взаймы за границей, а также совсем не торопилось с созывом парламента, то количество иностранных преподавателей неуклонно снижалось, а на Китай Япония напала пятнадцать лет спустя.
31 августа наложница Янагихара Наруко принесла Мэйдзи третьего сына, принца Ёсихито. Появившись на свет, младенец не закричал. Он перенес пренатальный менингит, много болел, но выжил и стал следующим императором – Тайсё. Сама роженица, напротив, так кричала и впала в такую истерику, что больше ее не допускали в императорскую спальню.
Мэйдзи впервые увидел сына только 4 декабря. В императорской семье непосредственному контакту между отцом и детьми традиционно не придавалось большого значения.
В этом году на груди Мэйдзи появился первый иностранный орден. Германский принц Генрих наградил его от имени своего правительства. До сих пор германское правительство не удостаивало ни одного азиатского монарха такой чести. Несколько позже высший военный орден Италии вручил Мэйдзи принц Генуэзский. Миланский художник Джузеппе Уголини прислал императору его бюст. Все свидетельствовало о том, что в Европе Мэйдзи окончательно признали «за своего».
Читающая публика увлекалась романами из современной жизни, научной и научно-популярной литературой. Особенно хорошо продавались переводы с западных языков. Для любителей отечественного антиквариата это было благословенное время. Западный наблюдатель зафиксировал: ксилографическое издание буддийской сутры конца XIII века стоило значительно дешевле модных книжных новинок[146]. Доктор Бёльц, оказавшийся в ноябре в Киото, наблюдал там процессию из традиционных повозок-платформ. На таких платформах было принято возить переносные синтоистские святилища. Бёльц с удивлением отметил, что некоторые повозки были украшены вышивками, изображавшими прощание Гектора и Андромахи, бегство Энея из Трои, Ревекку у источника[147]. И это в Киото – цитадели японских традиций!
В этом году Министерство обороны приняло постановление о компенсациях, выплачиваемых в случае смерти военнослужащих, находившихся при исполнении своих обязанностей. Конфуцианская Япония пришла в возмущение: пенсия выплачивалась вдове и детям! Согласно же установлениям традиционной морали, пенсия должна была причитаться родителям. Нарушение этого принципа свидетельствовало о том, что власти оторвались от «народа» на немыслимую дистанцию.
Контакты с заграницей приносили свои плоды. В том числе и в виде болезней, которых Япония раньше не знала. Открытые порты были рассадниками сифилиса. В этом году разразилась ужасная эпидемия холеры, унесшая около 100 тысяч жизней. Большая открытость миру означала и большую беззащитность перед его болезнями. Это была плата за вестернизацию. Случаев массового голода во время правления Мэйдзи не случалось, но смерть не соглашалась отступать и нападала с другой стороны. Состояние тогдашней медицины не позволяло справиться с болезнью, крестьяне обращались к привычным обрядам, призывая заразу уйти в соседние деревни, что, естественно, вызывало недовольство тамошних жителей и даже столкновения. Газеты советовали омывать свое тело слабым раствором карболовой кислоты. О случаях заболеваний следовало немедленно извещать полицию, дома больных огораживали веревками, трупы сжигали.
1880 год
13-й год правления Мэйдзи
30 марта было объявлено, что в июне император собирается посетить префектуры Яманаси и Миэ, а также город Киото. Пожалуй, это была первая поездка Мэйдзи, которая вызвала дискуссию в прессе. В Японии этого времени фактически отсутствовала антимонархическая оппозиция, однако действия правительства, предпринимаемые им в отношении императора, не всегда вызывали единодушное одобрение.
Писали, что жители не в состоянии платить «налог», которым их облагали местные власти, взимая деньги на ремонт дорог и подготовку встречи Мэйдзи. Уже во время поездки репортер обнаружил, что один аристократ из императорской свиты прихватил с собой гейшу из Токио. Неизвестно, последовали ли санкции по отношению к аристократу. Зато известно, что полиция обязала репортера все свои будущие статьи представлять на просмотр. Газета «Токё Ёкохама майнити симбун» («Ежедневная газета Токио и Иокогамы») подвергла сомнению саму целесообразность поездки. Признавая необходимость путешествий императора по стране в начале правления (поскольку еще не все жители знали, чьими подданными они являются), передовица утверждала, что ныне каждый знает, кому поклоняться, а потому императору следует спокойно пребывать в своем дворце и не подвергать себя испытанию свирепствовавшей в этом году жарой. Что до стандартной мотивации правительства (император желает поближе познакомиться с жизнью своих подданных), то об этом можно с успехом узнать из газет[148].
Газетное дело развивалось стремительно, крупнейшие города страны были связаны телеграфом, с помощью которого новости достигали читателя все быстрее и быстрее. В этом году японцы отправили 2 223 216 телеграмм.
Мэйдзи покинул Токио 16 июня в сопровождении 360 человек. В процессии участвовали принц Садахару, главный министр Сандзё Санэтоми, министры, генералитет. Впервые в свите находился и фотограф. Но его целью было вовсе не увековечивание образа самого императора. Он запечатлевал исключительно пейзажи.
Из-за жары Мэйдзи вставал еще до рассвета. Он посещал школы и больницы, молился в Исэ и наблюдал за учениями своего воинства. Из Оцу до Киото Мэйдзи добрался на поезде. Только что уложенная железнодорожная ветка пролегла через горы, поезд проходил по первому в Японии железнодорожному туннелю. Помимо всего прочего, Мэйдзи показывал подданным: им нечего бояться. Ведь пронесся слух, что в туннеле обитает привидение.
В Киото Мэйдзи посетил множество буддийских храмов, дал аудиенцию буддийским иерархам. К этому времени стало окончательно ясно, что проводившаяся в первые годы правления политика гонений на буддизм была ошибкой. Да, культы синто должны составлять ритуальную основу функционирования «сильного» государства, но даже это государство не было в состоянии отменить традиции и историю, существенная роль в которой принадлежала буддизму. Посмотрел Мэйдзи и на тот колодец, который вырыл в своем саду его дед Накаяма Тадаясу в такую же ужасную жару далекого 1853 года. Тот колодец, который носил детское имя Мэйдзи – Сати.
Этот год значил очень много для будущего страны, потому что в декабре Гэнроин (сенат) пересмотрел закон об образовании. Этому событию предшествовала длительная дискуссия, в которую вовлекся и сам Мэйдзи. Поездки по стране и знакомство со школьным делом убеждали, что нынешняя школа не обеспечивает послушных подданных. Участие в еще совсем недавних восстаниях множества молодых людей говорило о недостаточном почтении юного поколения к властям. «Движение за свободу и права народа» набирало силу. Рост социалистического и рабочего движения в Европе, разгул политического терроризма в России также свидетельствовали, что западная система формирования личности не обеспечивает подготовку законопослушных подданных. Цели, провозглашенные в преамбуле указа об образовании 1872 года, подчеркивали важность образования для достижения личного успеха в жизни, что казалось теперь неверным. От «западных» прав следовало переходить к «японским» обязанностям.
В. Крестовского также смущала чересчур прозападная атмосфера школьного дела. Вот как он описывает посещение гимназии в Нагоя: «Директор – еще молодой человек в европейском костюме и, по-видимому, большой франт – пригласил нас в конференц-залу, где, по обыкновению, тотчас же были предложены нам миниатюрные чашечки с чаем и японские папиросы. Стены этой комнаты были увешаны географическими картами и иными пособиями для наглядного обучения исключительно на английском языке, а книжные шкафы наполнены исключительно английскими изданиями. Мы не встретили на полках не только французской или немецкой, но даже ни одной японской книжки»[149].
Разумеется, далеко не все японские школы были такими. Однако проблема существовала – молодежь явно относилась к властям и родителям с меньшим почтением, она полагала, что целью жизни является личное «счастье», с легкостью вовлекалась в политическую деятельность, по каждому вопросу молодые люди имели собственную точку зрения, они ничего не принимали на веру и задавали провокационные вопросы. Чиновник Министерства образования Эги Кадзуюки (1853–1932) с ужасом передавал сцену, свидетелем которой он был. Учитель рассказывал историю о китайском мальчике Ван Сяне. Его злой мачехе в лютую зиму захотелось отведать свеженькой рыбки. Подойдя к реке, он разделся, растопил жаром своего тела лед – из полыньи выпрыгнули две рыбины, которыми он и накормил мачеху. Ученики недоумевали – ведь мальчик должен был замерзнуть и умереть! Учитель стал толковать им про волю Неба, но они отвечали: мы не понимаем, что это такое[150].
Было от чего прийти в ужас: для юного поколения язык науки оказывался понятнее древнего языка морали и долга. Нравы самого Запада казались традиционалистам чудовищными. Чего стоят их законы, согласно которым жена может подать в суд на мужа, а дети – на родителей? Мораль и долг в сознании ревнителей старого стояли выше науки и закона.
Мэйдзи поручил своему наставнику Мотода Накадзанэ изложить его августейшие взгляды на проблему. Конфуцианец Мотода правильно понял поставленную задачу. В соответствии с его докладами было решено усилить моральную составляющую школьных программ. Под «моралью» же понималась прежде всего преданность императору и почитание родителей. Недаром во время своих путешествий местные власти подавали Мэйдзи списки людей, которые исправно исполняют свои семейные обязанности. Награждать таких людей было древней традицией. Еще в VIII веке перед их домами ставили таблички с перечислением их заслуг, освобождали от налогов.
Однако Мотода был конфуцианцем японским, а потому он никогда и нигде не упоминал, что следует применять мудрость Китая в полном объеме. А центральной политической доктриной Китая является неизбежность смены правящей династии. Когда династия растрачивает свой запас энергии-добродетельности (кит. дэ, яп. току), тогда основатель новой династии получает от Неба мандат (приказ) на правление. Нет, японские конфуцианцы вслед за приверженцами официального синто твердо стояли на том, что японская императорская династия – вечна. Книги Фукудзава Юкити, в которых делался упор на правах человека, были исключены из школьных программ, теперь в школах использовались только те книги и учебники, которые были завизированы Министерством образования.
3 ноября во дворце справляли день рождения Мэйдзи. Он ознаменовался повторным появлением национального гимна. Дело в том, что сочиненную прежде англичанином Фентоном музыку сочли в результате «недостаточно величественной», и с 1876 года гимн исполнять перестали. Но сама идея гимна не умерла, и в этом году придворный музыкант Хаяси Хиромори предложил новую музыку, учитывавшую традиции – древнее стихотворение следовало тянуть возможно дольше. На самом деле музыку написал не Хаяси, а его подчиненный, но композитором считается именно Хаяси. Немец Ф. Эккерт, служивший музыкальным инструктором на японском флоте, аранжировал ее применительно к духовым инструментам.
Теперь у страны снова появился славящий императора гимн, но «народ», похоже, до сих пор все-таки еще не проникся идеей о том, что он должен любить своего императора без всякой подсказки со стороны властей. Немец Бёльц с досадой отмечал в своем дневнике: «День рождения императора. Так жаль, что народ этой страны не испытывает большого интереса по отношению к своему монарху. Следует сделать так, чтобы полиция заставляла вывешивать государственные флаги в каждом доме. По своей воле это делают совсем немногие»[151].
Власти как бы услышали призыв врача, и теперь гимн зазвучал часто, может быть даже чересчур часто. В том числе на парадах и на военных смотрах. Мэйдзи не упускал случая поприсутствовать на каждом из них, демонстрируя единство армии и императора, победу симметрии над аморфностью, порядка – над хаосом. Один из таких смотров довольно подробно описал В. Крестовский. Смотр был приурочен к визиту принца Генуэзского и состоялся 27 декабря.
Описав ожидавших приезда Мэйдзи членов дипломатического корпуса и японский генералитет, Крестовский отмечает, что для микадо была приготовлена «маленькая, смирная буланая лошадка под зеленою шелковою попоной с вышитыми на ней большими золотыми астрами (хризантемами. – А. М.)… Ровно в десять часов на плацу показались две парадные кареты цугом, в английских шорах и обитые внутри драгоценной парчой. В первой сидел микадо, во второй принц Генуэзский. Оба экипажа были окружены густым конвоем скачущих улан, один взвод которых следовал в авангарде, а другой в замке, имея по сторонам боковые патрули с опущенными и обращенными назад пиками. Назначение патрульных состояло в том, чтобы отгонять чересчур любопытных подданных его величества и ребятишек, неразумно в ослепленном своем любопытстве кидавшихся чуть ли не под копыта конвоя. Вся военная свита, ожидавшая у палаток с принцем Арисугавой и прочими принцами, прибывшими ранее, а также с военным министром и начальником генерального штаба во главе, мигом сели на коней и выстроились по правую сторону от палаток. Принц Арисугава, как главнокомандующий японской армией, поскакал со своим штабом к войскам и принял командование над парадом. По его команде полки взяли „на караул“ и знамена преклонились, а оркестр заиграл японский гимн, очень своеобразное произведение какого-то капельмейстера из немцев.
Выйдя из экипажей, микадо, одетый в общегенеральский военный мундир, с принцем Генуэзским, присутствовавшим в итальянской военной форме, вошли в первую палатку и сели с двух сторон у стола, в креслах. Здесь его величеству были представлены министром двора Беккер-паша и я. Тотчас после этого микадо сел на подведенного ему коня и начал объезд войск с правого фланга.
Объезд делался шагом. Впереди всех, предшествуя шагах в тридцати самому микадо, ехал его знаменосец-улан с императорским штандартом. Рядом с его величеством следовал принц Генуэзский, а несколько позади принц Арисугава и далее – смешанная и пестрая толпа свиты. Оркестр все время играл японский гимн, а горнисты каждого батальона и трубачи артиллерии и конницы при приближении к их частям императора начинали играть ему „встречу“. Объезд совершался в полном молчании. Микадо, проезжая мимо частей, не здоровался с ними, и войска не провожали его никакими кликами вроде нашего перекатного „Ура!“, и не скрою, мне было как-то странно не слышать могучих радостных кликов войска в такую минуту, при таком военном торжестве, при виде своего царственного повелителя, когда, казалось бы, крик, как выражение внутреннего чувства, невольно, неудержимо просится из груди солдата.
Объехав войска, микадо рысью вернулся к палаткам, и тогда, по знаку командующего парадом, части с правого фланга левого фаса двинулись церемониальным маршем.
Не знаю, на этот ли только раз или всегда оно так бывает, но церемониальный марш показался мне как-то вял. Шаг пехоты был замедленный, узкий, безо всякого намека на ту энергию и лихость, какие русский военный глаз привык встречать в нашем строевом шаге.
Равнение пехоты большею частью было недурно, некоторые роты выдерживали его даже блистательно. К сожалению, нельзя того же сказать о кавалерии, где почти нет никакого равнения…
Микадо, сидевший все время несколько согнувшись корпусом на переднюю луку, ни одной из парадировавших частей не выразил словами своего одобрения; вероятно, здесь это не принято, и, быть может, именно вследствие этого японские парады проходят безо всякого оживления, вяло, монотонно.
Весь парад с момента прибытия микадо и до минуты его отъезда продолжался около часа»[152].
Парады и смотры войск в Европе напоминали о прошлых победах и выражали грозную готовность к победам новым. Японская армия еще не успела поучаствовать в сколько-нибудь серьезных сражениях с внешним противником, но настойчивость и частота, с которой проводились эти устрашающие мероприятия, свидетельствовали: такая подготовка ведется. С этого года официальный фотопортрет Мэйдзи стали рассылать по армейским частям. Это должно было лишний раз напомнить о том, кто в стране главнокомандующий.
Соседи Японии пристально следили за ее развитием. Корейская элита была удивлена тем фактом, что Япония не стала колонией. Подобно тому, как несколько лет назад на Запад отправилась миссия Ивакура, в этом году для приобретения ценного опыта король Кореи отправил миссию в Японию. Было принято решение пригласить в следующем году группу японских офицеров, чтобы они помогли модернизировать корейскую армию.
1881 год
14-й год правления Мэйдзи
Для Мэйдзи этот год выдался хлопотным. Ему пришлось присутствовать на 66 заседаниях кабинета министров. Заседания начинались в 10 утра, Мэйдзи обычно уходил в 12, когда наступало время обеда. Если в прошлом году он занимался верховой ездой 144 раза, то в этом году – всего 54.
1 января, как обычно, было отдано ритуалам и церемониям. Сначала Мэйдзи привычно исполнил ритуал почитания четырех направлений. Потом его поздравляли принцы крови и высокопоставленные чиновники. Впервые они прибыли во дворец вместе со своими женами. Мужья были одеты в европейское платье, а жены – в японское. Однако большинство женщин воздержались от визита. Реставрация нарушила прежнюю строгость семейных нравов, и многие чиновники брали в жены (или сожительницы) женщин «низкого» происхождения, включая гейш, актрис и проституток, которые испытывали естественный трепет перед императором.
5 января состоялся новогодний банкет, на который были приглашены дипломаты с женами и знатные иноземцы, волею судеб занесенные в Токио в это время.
По свидетельству В. Крестовского, который присутствовал на этом банкете, Мэйдзи сидел за отдельным столом, обернувшись лицом к гостям. Столы для гостей были расставлены рядами – подобно рядам кресел в театре. Сходство увеличивалось тем, что приглашенные сидели только по одну сторону столов – так, чтобы видеть главное «действующее лицо» – самого Мэйдзи. И чтобы ни в коем случае не предстать перед Мэйдзи со стороны спины. Запрет поворачиваться к императору спиной был очень давним установлением. Именно поэтому во время аудиенций, устраиваемых в древности, после окончания церемонии присутствующие не покидали залу «обычным» способом – они пятились.
Из этого запрета для гостей вытекало одно существенное неудобство. Во время банкета было устроено представление. Но, сколь это ни удивительно, сцена находилась за спинами гостей. А поскольку присутствующие не желали нарушить придворный этикет и не смели хоть на секунду отвернуться от Мэйдзи, то только сам император имел возможность насладиться представлением[153]. В определенном смысле это был театр не только одного актера – Мэйдзи, но и одного зрителя.
Раньше нельзя было смотреть на императора. Теперь нельзя было отвернуться от него. Если учесть, что разговоры в присутствии императора тоже не поощрялись и званый обед проходил в полном молчании, то легко себе представить, что, несмотря на изысканные кушанья, гости вряд ли могли получить от еды и общения адекватное удовольствие. В качестве компенсации после окончания приема в дома присутствовавших на нем было принято посылать судки с полным набором пиршественных блюд, чтобы и их семьи, и они сами могли бы спокойно насладиться яствами, не будучи скованными никакими ограничениями.
В. Крестовский посетил и Дом приемов Энрёкан, где губернатор Токио развлекал своих высоких гостей. Там присутствовало полторы тысячи человек. Крестовский был настроен по отношению к японцам чрезвычайно благожелательно, но ему хотелось, чтобы японцы сохраняли свой национальный колорит. А потому прием в Энрёкан ему не слишком понравился: «Ах эти ужасные, убийственные фраки! И зачем только понадобились они японцам, имеющим свой, веками выработанный костюм, в котором есть что-то солидное, сановитое. Представьте себе какого-нибудь даймио, каких мы теперь знаем – увы! – только по картинкам, – ведь он был просто величествен в своем одеянии, которое сидело на нем так красиво и так гармонировало с этой типичной прической, с этими двумя саблями за поясом. Точно таков же был и самурай в шелковом киримоне (кимоно. – А. М.) с гербами и накрахмаленными воскрыльями. Представьте же себе теперь того же самурая в куцем фраке с жалостными фалдочками, в белом галстуке из японского крепа, с туго накрахмаленным пластроном, который с непривычки к нему упрямо топорщится и лезет вон из жилета, с шапокляком под мышкой, с английским пробором на затылке, о, этот бедный самурай кажется мне еще жалостней своих фалдочек!»[154]
Правда, европейцы на этом балу произвели на Крестовского еще более отвратительное впечатление: «Мы были самоличными свидетелями, как многие из этих безукоризненно одетых джентльменов, не успев раздобыть себе ни ножа с вилкой, ни хлеба, рвали мясо куропаток и фазанов и целые куски кровавого ростбифа просто зубами и руками, освободив их от перчаток. Словом сказать, что воистину было генеральное кормление зверей, и я полагаю, что японцы, у которых выработаны для еды особые, весьма деликатные приемы, не могли не чувствовать внутреннего омерзения при виде столь бесстыдно проявляемой алчности и жадности своих „цивилизаторов“, благодаря коим не более как через полчаса пришлось уже закрыть буфет, потому что он весь был истреблен и расхищен. Лишь очень немногие из японцев успели воспользоваться каким-нибудь сладким пирожком…»[155]
4 марта в Иокогаму прибыл король Гавайев Калакуа, совершавший кругосветное путешествие. В Японии его принимали по первому разряду – это был первый действующий монарх, с которым повстречался Мэйдзи.
Мэйдзи принимал вместе с Калакуа парад, обменялся с королем рукопожатиями, наградил орденом, шел не впереди него, а вровень. Словом, вел себя как с ровней, хотя Гавайи были крошечным государством с армией численностью всего в 75 человек. На неофициальной встрече Калакуа высказал грандиозные предложения: для противовеса империалистическому Западу учредить лигу восточных стран во главе с Мэйдзи, проложить подводный кабель между двумя странами, учинить династический брак между принцем Садамаро и своей племянницей Каиулани, которой предстояло стать королевой Гавайев (Калакуа был бездетен). В. Крестовский утверждает даже, что король убеждал Мэйдзи принять христианство, раз уж Япония встала на путь европейской цивилизации[156]. Кроме того, Калакуа высказал живую заинтересованность в японских сельскохозяйственных рабочих, которые могли бы обрабатывать гавайские плантации, – местное население стремительно вымирало, работорговля была уже, к сожалению, запрещена.