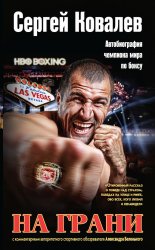Город не принимает Пицык Катя
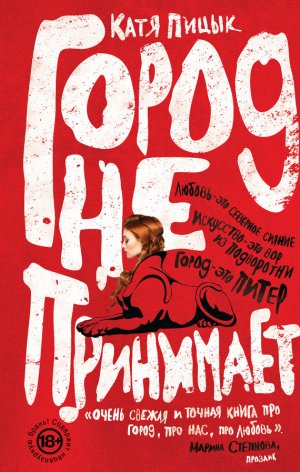
В эту секунду, когда она назвала его по имени, вот так запросто – Гарик, будто он был мальчиком из рок-группы, а не богом, я его и увидела. Увидела, как он стоял. В профиль к студентам. Глядя в пространство. Вислорукий, как обезьяна. Крепкий, тяжелый – не толстый, не оплывший, не раскачанный, а тяжелый. Высеченный из камня. Костоправ. Гоплит. Мясник. Осмирид. И горящие из него два лакированных глаза – две переспелые вишни в античном черепе, сочащиеся медовой слезой, – два бликующих глаза кого-то того, кто смотрел на мир из тяжелой туши, одетой в потную футболку с широкой горловиной.
В этот момент я уже знала, что пересплю с ним. Он не понравился мне. Да и как мог понравиться? Человек в резиновых сапогах. За сорок, яйцеголовый, живущий в дельте реки, обвязанный фартуком, выпачканным гипсом и пластилином. Когда он мылся? Кто знает. Раздеться? Вдохнуть его запах? Разве это возможно? Представить такое я не могла. Но в чем-то неназванном, в чем-то вроде пластов времени произошел тектонический сдвиг, и слой прозрачного будущего слегка наполз на непроницаемое настоящее – ощущение физической близости между нами уже находилось здесь. Оно пришло в эти комнаты раньше, чем секс. Я понимала, что видимое мною сейчас, включая козлов, битые конечности и колбы с пигментами, – картина, привычная глазу той Тани Козловой, которой я стану. И испытала влечение. Влечение не к мужчине, а к собственному будущему, к собственному пути, нащупанному вот так вот вдруг, без всякого труда, просто пойманному вслепую, даже не наугад, а случайно! – вечно ускользающий в небытие, горячий, жирный и изворотливый хвост судьбы просто так вляпался в мои без дела растопыренные пальцы, и я сжала их прежде, чем поняла зачем. Такие накладки случались в моей жизни еще, но к тридцати все реже и реже, а после совсем перестали – видимо, за некоторой гранью человек теряет способность ловить скользкую рыбу руками и вступает в эпоху будильника, сетей и труда. Но тогда, в двадцать лет, я посмотрела на Гарика и поняла, что мы – будущие любовники. Про это понял и кот, подвизавшийся при мастерской крысоловом. Старый, бородатый, прокуренный и засаленный, как гимнастерка, он прошел мимо, запрыгнул на козлы, заваленные кистями и шпателями, лизнул лапу, приуселся и посмотрел мне в глаза. Будучи представителем мира живущих во времени, устроенном как-то иначе, чем линейно, он узнал меня. И высокомерно не поздоровался.
Зандер попросила спуститься и подождать у парадной. «Парадная» была разбита в хлам. Ступени крыльца проедал могильный лишай. В эмалированную миску, оставленную для собак, падал жидкий снег – прямиком в почерневшие остатки еды. В сугробе размокали бычки. Мокрый угол вмерзшей цветной газеты, высвободившись из-под стаявшего льда, трепался на ветру. Между окнами второго этажа зияло несколько четких выбоин, пять или шесть. Военных времен или нынешних – оставалось только гадать. Традиционный охристый желтый, которым закрашивают весь нелицевой Петербург, на доме Строкова почему-то зацвел зеленцой. Местами стены опаляла ржавчина. То есть здание выбивалось из общего ряда, как мертвый зуб, хранящий в себе мумию нерва, захлебнувшегося гноем еще лет сорок назад. Это было слишком даже для человека, привычного к питерским подворотням. Дом стоял буквой «Г». И впечатление усугублялось тем, что левую границу двора образовывала стена соседнего дома, которого, собственно, больше уже и не было. От него осталась только эта одна стена. Толщиной не более метра. Облупленная особенно откровенно – желтый слой кожи, отпав большими кусками, обнажал мышечную массу красного кирпича.
Просто стена. Как в кино про бомбежку. Даже с какими-то нишами для нимф или муз. С дырами под окна и дверь. Она торчала остро, вторгаясь в бессознательное напролом, через лобную кость, должно быть используя энергию и силу инерции той бомбы, которая при неизвестных обстоятельствах поддала ей когда-то с высоты прямо в самый хребет. Стена грубо разламывала интимный компромисс между бесконечной грудой несостоявшейся пока любви и куцей, как двадцатисантиметровая линейка, дистанцией жизненного пути. Стена могла бы разбередить в душе панический страх. Но нам, молодым, разве что было немного не по себе. Мы чувствовали себя детьми, подглядывающими без разрешения мамы в окно на оркестр и соседа в гробу.
Шилоткач выбила сигарету из пачки.
– Пиздец, – сказала она, рассматривая стену. – Просто пиздец. Если б я здесь жила, я бы повесилась.
– Если бы, Светлана, вы здесь жили, вы бы продали квартиру и открыли бы в Архангельске ночной клуб.
Олег дал Шилоткач прикурить, прикрывая зажигалку от ветра.
– Им в Архангельске не нужен ночной клуб, – сказал Юра. – У них там есть краеведческий музей.
Мы засмеялись.
– Валим, – сказал Олег.
– А Настасья? Она же просила подождать.
– Потом спросим, чего она хотела. Пусть они подождут, – Олег кивнул в сторону кучки отличников и тех, кто всегда подмыливался к ним в актив.
Мы подошли сказать, что уходим. Еромче всех выступала Надя Косых.
– Буэ-э-э, буэ-э-э… – Надя сгибалась, хватаясь за живот, изображая безудержную рвоту. – Какой-то маньяк. Хочется помыться. Меня тошнит.
– Некоторых тошнит от правды, – заметил кто-то.
– От правды? Какой правды? В чем?! В том, что человек садист и ему нравится представлять издевательства над животными? – ответил кто-то за Надю.
Все стремительно перевозбудились и захотели обижать друг друга. Зандер никак не спускалась. Поднялся спор на повышенных тонах.
– Отвращение – это такая реакция на искусство у ограниченных людей! Все, что ума не хватает понять, сразу отвратительно…
– А что предлагается понять? Человек не любит животных. И растрачивает талант на выражение своей ненависти. Несчастный мужик…
– Ага. Мог бы не растрачивать талант, хуярить садовые фонтанчики и процвести.
– Да вы же!.. – Женечка сделала шаг вперед и с силой швырнула на землю рюкзак. Он вляпался в февральскую жижу. Женя гневно потрясла кулаками. – Да вы же… Вы же все носите кожаную обувь!
– Псс… Господи, а это к чему?
– К тому, что каждую минуту на бойнях умирают животные! Их поливают из душа, потом оглушают молотком или током, а потом подвешивают за ноги и сдирают кожу. Они едут в конвейере, как в концлагере, и их никто не спрашивает, хотят ли они умирать! А потом вы покупаете в магазине ботинки из кожи и почему-то вам ботинки не отвратительны, а эти статуи – отвратительны. Вы едите мясо и не считаете себя маньяками… А этого человека считаете…
Мы растерялись. Марина Зуйкович подняла Женин рюкзак и протянула ей.
– Успокойся, малышка, – Марина обвела нас взглядом. – Вы глупые, что ли, совсем? Вы вообще понимаете, что такое техника исполнения? Мастерство? Вы не чувствуете, насколько это мощно и точно? Вы не чувствуете, что за таким знанием анатомии годы титанического труда? Вас это не потрясает? Вы не понимаете, что для того, чтобы так лепить, надо отказать себе во многом? Надь, ты не беременна? Тебя слишком часто тошнит. Проверься.
Чтобы как-то ускорить прощание, я решила уйти.
– Подожду вас на набережной, – сказала я, дотронувшись до Регининого рукава.
У парапета было холоднее и ветренее. Двое мужчин стояли на нижней площадке спуска к воде и разливали водку в домашние рюмочки.
– Я ему говорил сразу, чтоб он четыре брал, – сказал один из них.
Я глянула вниз и увидела крысу. Она покоилась внутри льда. Заморожена в белом, как бабочка в янтаре. Даже пятнышко выдавленных кишок не утратило красноты. Конюшенное ведомство было изношено до предела. До мелового привкуса во рту. Просто пожрано герпесом, как какой-нибудь молочный павильон одесского привоза. Наверное, Стасову, лежащему в Некрополе мастеров, часто снился гнусный кошмар про то, как во рту часами крошатся зубы.
Порывом ветра с центральной башни сорвало жестяной лист. Он с дребезгом полетел в сугроб. Тут же в истерике чайка взвилась над рекой и заорала, как мать, получившая похоронку. Я вздрогнула.
– Так он так и должен был, изначально, – ответил второй мужчина, хотя со времен реплики первого прошла уже целая вечность.
Они опять замолчали. Второй аккуратно наполнил стопки, завинтил пробку и убрал бутылку в карман куртки, по-родственному припрятав поглубже от ветра, чтобы она не простыла. Я вернулась к воротам. Натянула рукава свитера на перчатки, взялась руками за прутья и, раскачиваясь, стала смотреть на однокурсников. Они курили и кричали. В стороне безучастно, молча, ковыряя носком сапога ледяную кашу, стояла только одна девочка. Имя которой я постоянно забывала. В ту минуту про себя я назвала ее Саббет, из-за «конского хвоста». Правда, он был не рыжим, а белым. Но все равно – тем самым, «конским», длинным и развевающимся на ветру, метавшимся как шелковый флаг на рее. Я поймала на себе ее взгляд. Странный. Мрачный. Как будто она знала, что сейчас меня сметет пьяная машина, но нарочно не говорила, полагая дело решенным. Зандер уже спустилась и что-то объясняла, держа руки в карманах.
– Что она сказала? – спросила я у Регины.
– Ну, там, сначала она сказала, что можно будет взять творчество маньяка темой курсовой, по современному искусству. Вот… И Зуйкович, и вот эта Оля… сразу захотели.
– Какая Оля?
– Ну, такая, с белым длинным хвостом.
Значит, Саббет звали Олей.
– Странная, кстати, баба, – заметила Шилоткач.
– Она из детдома, вы знаете? – Регина сморкалась в нежный платочек, расшитый пасхальными яичками.
На Конюшенный мост поднялась черная открытая карета. В ней сидели иностранцы в заячьих шапках и пили «Арарат». Кучер пропускал автомобили. Лошади срали в снег. Мы остановились у фонаря, чтобы скинуться на пиво.
– Из детдома? Оля с хвостиком? – спросила Женечка, выскребая из кошелька деньги вместе с какой-то кедровой шелухой, тут же подхваченной ветром и разметенной в прах. – На, купишь мне сок, пожалуйста, – она протянула Юре мятую бумажку.
– Да. Ее воспитывали приемные родители, – ответила Регина. – Вы заметили, она такая спокойная-спокойная, скромная-скромная. За два года почти ни слова не сказала. Представляете, может быть, она девственница.
Мы перешли на другой берег и двинулись в сторону Невского.
– Ну и что? – Женечка возмутилась на свой обычный манер – по-пионерски, сдвинув брови. – Я тоже девственница.
– Вам это мешает? – спросил Олег, элегантно подав Женечке руку, чтобы ей легче было переступить лужу. – Евгения, если эту проблему надо будет решить, то вы всегда можете рассчитывать на меня. Я гарантирую вам компетентную помощь…
Мы свернули во дворы капеллы. Темнело. Под аркой между вторым и третьим двором пахло жареной мойвой. Там мы и встали. Где-то была открыта форточка. Потому что мы слышали живую песню. На стихи Рюккерта.
– Ну где этот олень? – Шилоткач нервно оглянулась.
Юра как раз бежал, позвякивая пивом. Олег открыл бутылки зажигалкой. Два маленьких мальчика гоняли мяч в проеме арки, шаркая ногами. Мяч стукался о тени в сгущавшихся сумерках. Зажглись фонари. И слякоть заблестела.
– Но вообще-то… – Олег запрокинул голову и сделал несколько больших глотков из горла. – Вообще-то, – сказал он, вытирая губы тыльной стороной ладони, – козлы с хуями – это, признаюсь, кхе… не отплеваться.
– От глиняных хуев не отплеваться, а твой, наверное, мироточит, – сказала Шилоткач.
– Я, простите, Светлана, свой в Гамбургском вокзале и в Британской библиотеке не выставляю.
– Ха! – Света ткнула пальцем в плечо Олега. – Слышишь, ты в библиотеке по три телки в неделю снимаешь. Жениться обещаешь. А потом эти дуры чисто на телефоне, ждут твоего звонка, вместо того чтобы жить свою жизнь. А ты не помнишь, как их звать и сколько их было. Живешь как во сне.
– Параллели, которые вы проводите, э… Светлана, не успеваю уследить за вашей логикой.
– Логика простая. В музее хуй каши не просит. Деньги заплатил, посмотрел, не нравится – ушел, нравится – подрочил. Сам выбираешь.
– Интересно, – Олег затянулся. – Я, кажется, никого насильно в койку не укладываю. Момент выбора присутствует.
– Ну да, – Шилоткач втянула сопли. – Только если б ты говорил им сначала: «Любезные, отсосите у меня бесплатно, я проститутками брезгую, хочу девочку из библиотеки», то они могли бы выбирать.
– Светлана, мне кажется, вы не вполне понимаете, что такое ситуация отсутствия выбора. Слава богу, жизнь вас, наверное, пощадила.
– Знаешь, брат, меня мать моя пощадила. Когда аборт не стала делать от такого же баклана, как ты.
Стоять стало холодно. Мы вышли на Конюшенную.
– Ой! – воскликнула Регина. – Смотрите!
К скамье был привязан алый гелиевый шар, весь мокрый от снега. Регина отвязала его, продела веревочку под погоном на кожаной куртке Олега и затянула двойной узелок. Мы вышли на Невский. И нас оглушил час пик. Света продолжала беседу.
– Никогда не понимала этого! – кричала она, раздирая горло. – Почему если двое оказываются в постели, то ответственность за это несет женщина?! Если это ее инициатива, то она виновата в том, что мужик согласился. Если это инициатива мужика, то она, сука, виновата в том, что она согласилась! – Остальное поглощал грохот машин, разверзающих волны грязи. Шарик рвался над нашими головами.
– Не выбрасывай его, – сказала Женечка, когда мы прощались у Гостинки.
– Не волнуйтесь, Евгения. Я высажу его в горшок. У меня как раз на днях скончалась герань. Умерла от старости. Освободилось место, – заверил Олег, целуя Женечкину маленькую руку, перемазанную чернилами. Индийские колечки блеснули, поймав огонь фонаря.
Перед тем как спуститься в переход, я последний раз посмотрела на город. Невский – широкий, мокрый и плоский, гранитный блин, оплеванный и облеванный, обтекающий пивной пеной, – с одной стороны, вроде бы лежал под ногами, но, с другой стороны, двигался, как скатерть, стягиваемая за угол. Он засасывал сам себя, во всю свою ширину, вместе с горячими ресторанами и билетными кассами, витринными сервизами и свадебными платьями, толпами гопников и напомаженными нищенками, навьюченными тюками, – засасывал в Аничкову перспективу и тут же с треском разрывающегося фейерверка выхаркивал обратно бенгальские искры – выплевывал в лица идущим ослепительные огни дальнего света.
Я даже не позвонила. Я просто пришла. Спустя месяца полтора. Сказала подругам, что влюбилась. Съела на дорогу плавленый сырок. Надела черный берет. Вышла на Сенной. И отправилась вниз по реке. Это была первая неделя апреля. Лед уже сник и треснул. Глыбы начали отделяться, заголяя участки бурой воды, но еще особенно не расплылись и местами стояли густо. На них валялись пивные банки, пластиковые бутылки из-под колы, попалась даже одна канистра. Под Певческим мостом выделялась длиннющая льдина с идеально ровным левым краем – тем, что всю зиму прилегал к стене канала и теперь отклеился сразу пятью десятками метров. Край этот был черен, как подступы ада. Его в два слоя покрывали бычки. Вот так, глядя на реку, можно было многое понять о людях: газированные напитки, сигареты, нечистоплотность. Вечная молодость, легкомыслие, безродность. Беззащитность, злоба и суицид. Северная Венеция. Я шла и думала, что хоть какой-нибудь студент консерватории мог бы хоть раз в жизни швырнуть с берега нотную тетрадь! – но нет. Он предпочитал не творить историю. Революционный шаг держали ценители фанты и пепси-колы.
У парапета стояли три старшеклассника. Они плевали в канал и любовались на полет тяжелых харчков. Я остановилась напротив дома. Страшно ли это – прийти к мужчине без приглашения? Страшно ли это – заявить о своих желаниях? Страшно ли это – остаться непонятой, отвергнутой, посрамленной? Страшно ли это на самом деле, или все-таки это страшно потому, что должно быть страшным? Я посмотрела вниз. И увидела два голубиных крыла, замурованных во льду. Они были вморожены симметрично, прямо как в магазине на продажу – как могли бы изображаться на схеме крепежа к спинке новогоднего костюма. И даже перышки были распущены веером. Я вспомнила о том, что в прошлый раз здесь выставлялась крыса. Я подумала, что это хороший знак, и сделала первый шаг к воротам. Так что же все-таки страшного в том, чтобы прийти к человеку и сказать ему: я не могу тебя забыть, я каждый час думаю о тебе – что? Ничего. Страшно дать руку на отсечение. Страшно оказаться в тюрьме. А прийти к мужчине – не страшно. Даже если он плюнет в лицо. Не может быть страшно. Не должно. В конце концов, плохо кончил Онегин. За Татьяну не приходится волноваться.
Я просто пришла. За полтора месяца я могла бы что-то придумать, зайти на кафедру, попросить телефон, родить какой-то учебный предлог. Но я просто пришла. Поднялась на последний этаж, обтирая полами голубиный помет. Сжала кулак и постучала костяшками по твердому краю, заголившемуся от дерматина. Ленточка Мойки еще держала меня на привязи – не поздно было вернуться на землю, броситься вниз, ломая ноги, упасть в прохладный апрельский воздух, добежать до ларька и купить бутылочку фанты, чтобы остаться со всеми, а не стоять здесь под самой крышей в полной изоляции – в полном одиночестве: только я и мои мокрые ботинки. Но я осталась. И дверь открылась.
– Привет, – сказал он запросто, будто жене, вернувшейся из магазинов. И, отирая руки замаранной тряпочкой, добавил: – Рад, что ты пришла.
Я ощутила эту радость. Определенно. Как ощутила бы запах разломанного в полуметре мандарина. Можно сказать, скульптор очистил эмоцию от обязательного здесь недоумения или неловкости, и свет оголенной радости пролился в меня с размаха. Ну кто бы еще из мужчин оказался способен? «Рад, что ты пришла». Он просто оставил свое чувство как есть – в первоначальном виде. Великий человек был велик во всем.
С точки зрения логики на тот момент в мире вряд ли существовала хотя бы еще одна женщина, способная заявиться к гениальному художнику спустя полтора месяца после того, как побывала на сорокаминутной экскурсии в его мастерской в числе еще пятнадцати человек – побывала, не обмолвившись ни единым словом. Но Строков встретил меня так, будто знал, о чем я думаю все эти полтора месяца. Предвидение было взаимным? Я расстегнула пуговицу. Он помог снять пальто, принял его со спины, в дореволюционной манере, и повесил на крюк, поверх груды сросшихся со стеною окаменелых с войны бушлатов, досыта напитанных минералом, потом и перегаром. Денег на химчистку у меня не было. Многократное заражение местным издохшим воздухом через пальто стало теперь неизбежным. Но углубляться в брезгливость не имело смысла, раз уж я все равно решила раздеться тут догола и где-нибудь даже лечь.
Коридор был до одури тесен. Не коридор, а щель. Проросшая внутрь хламом живая щель, которая сплющивала вошедшего, и тот чувствовал себя вобранным в некое окончательно больное нутро, загроможденное гроздьями тромбов.
– Я тебя ждал, – сказал он на вздохе.
В зал с козлами мы не прошли, а свернули в оказавшуюся сбоку маленькую комнату, комнатку, такую же кишкообразную, облегающую человека с головы до пят, но обжитую с тщанием, как вагончик с видом на океан. Справа стояла кровать, покрытая по-солдатски, без складочки. Слева – квадратное море книг. От пола до потолка. От угла до угла. Только ряды корешков, пригнанных плотно, на совесть, не хуже, чем чешуя леща. И прямо – треснутое окно. На подоконнике – облезлая жестяная банка – осколок империи, грузинский чай. Первый сорт. Чаеразвесочная фабрика имени Ленина. Я села. И натянула подол до колен.
– Сейчас кофе заварим, – он взял с подоконника банку и тряханул. Внутри что-то глухо, нехотя шлепнулось. – Армейский приятель привез, из Африки… Сейчас… Чайник… Кипятил уже, только вот снял с огня, и ты постучала… А?! Как знал, – он рассмеялся. Очень заразительно, трогательно. И, торопясь, вышел.
На полке, по центру моря, пред жмущими друг на друга спинами книг, стояла черно-белая фотография. Женщина. Лето. Малинник. Пестрое платье. Вьющиеся волосы. Височные пряди сколоты сзади. Спутанная челка. Счастливая улыбка. Комсомольское сердце. Спортивная кофта.
– Все, сейчас закипает, и можно будет залить, – он появился в проеме. – Потому что только крутым кипятком можно заваривать, иначе ничего не случится. Иначе просто щепка взойдет в холодной воде и это уже не кофе, а сплав бревна по реке.
– А у вас что, не растворимый?
– Ну, милая, обижаешь. Растворимый – для одиноких барышень. Мы же с тобой все-таки не смотрительницы Петродворца, можем себе позволить…
Он поднес к моему лицу открытую банку. Африканский кофе с виду походил на грязную муку.
– Вот, Степа, болтался на экваторе с легионом: в Афгане не навоевался. Поймал пулю, и, видимо, так понравилось, что захотелось еще.
От удивления я приоткрыла рот и глотнула воздуха.
– А что ты думаешь? – сказал он, с вызовом вздергивая подбородок. – И пуле пара нужна.
Вкус кофе устрашал. Чашка обжигала. На пальцы пришлось натянуть рукава. Исходившая паром мутная хлябь. Может быть, мы пили цикорий. Может быть, глину. Может, пыль. Или молотые кости бездомных собак. Скульптор ушел за вином. Я осталась одна. В принципе, счастье и так достаточно меня опьянило. Голова перевешивала туловище. Запаха – полный нос. Выпитая дрянь обволакивала песком горло и пищевод. Я прилегла. Треснутое оконное стекло было еще грязнее, чем кофе. Где я? Что там? Вид на Мойку или на смежный двор? Или там нет ничего, холод и пар? Стоит ли тогда уходить? Может, остаться здесь навсегда? Функцию окна взял на себя линялый снимок женщины, через который открывался вид на солнечный Советский Союз, зелень, юг, взморье, пионерские лагеря, полет стрижей, классики на асфальте и горячий хлеб. Сердце выбивалось из тела. Барабанные перепонки пульсировали в такт каждому удару. Лежать больше не было сил. Я встала и пошла посмотреть на козлов.
Очень крупный беляк сидел на заднице. Длинные уши опущены к полу и заведены за спину. Передние лапы – два понурых отростка, имевших недоношенный вид, – безвольно висели над брюхом. Между задними лапами, разваленными по сторонам, зияли лепестки гениталий, во всем их блеске взорванной мякоти апельсина или раскрытых веером жабр. Причем левую заднюю лапу заяц (или уж тогда зайчиха?) подобрал под себя. Внимание привлекал коленный сустав. Он был явно увеличен. Гипертрофирован? Я уставилась на это надутое колено. И вдруг, в один миг, меня пронзила трезвость. Боже, я вспомнила, где я его видела: везде. Так выглядело любое человеческое колено подогнутой человеческой ноги – обыкновенная коленная чашечка под кожей, натянутой до глянца. Я огляделась. По плоскости видимого беззвучно прокатилась рябь с эффектом стерео. Человеческие черты полезли из зверей – колени, локти, ягодицы, предплечья. Они всплывали на поверхность зримого, как пузыри на воде, – пивные животы, обвисшие щеки, сухие старческие щиколотки, характерно стекающая ткань икры с острой женской голенной кости. Из животных проступили люди. Господи, люди. Вот что казалось нам тогда странным. Это были люди, тщательно замаскированные под животных. То есть это были, конечно, козы, и, конечно, зайцы, и, конечно, шакалы, волки, олени, да, да, и они на первый взгляд были точными копиями – слепками с самой природы, ведь даже головки половых членов не бросались в глаза, вернее, бросались, но только во вторую очередь – в первую бросалось сходство: животные как живые, гиперреализм, черт, черт, черт.
Я пошла по залу. Теперь я увидела их. Мне удалось то, что не удалось в первую встречу. Я увидела их. И они ответили мне взаимностью: животные со мною заговорили. Та самая козочка, с кронштейном в жопе, в «березке наоборот», сказала: «Я на грани. Но я делаю вид, что это норма. Потому что так принято». Заяц с расколотым пузом сказал: «Я люблю пить. Я лопнул от того, что выпил слишком много. Но я не мог остановиться. У меня нет воли. Моя любовь оказалась сильнее меня. Но я не делал ничего плохого. Я просто любил пить». Козлы-геи сказали хором: «У нас вечный стояк. Двадцать четыре часа в сутки. От этого мы страдаем бессонницей. Женщина быстро кончается. У нее слишком хрупкое влагалище. После того как влагалище ломалось, мы пробовали трахать женщину в мозги. Но и это не помогло. Мы решили трахать друг друга, представляя, что кто-то из нас двоих – женщина». Заяц, пробитый чугунным ломом, сказал: «Я истекаю кровью. Я умру через десять минут. Но я не могу в это поверить. Я никогда не смотрел реальности в лицо. Не могу посмотреть и сейчас. В любом случае смерть лучше, чем прощание с иллюзиями». Олениха с повязкой на глазах сказала: «Те, кто ослепил меня, сильнее. Их много. Они диктуют. И если они попросят меня раздеться на сорокаградусном морозе догола, мне придется сделать и это». Заяц, зажатый в каменной коробке, сказал: «Я проснулся в гробу. Я всю жизнь боялся этого. И теперь, когда это произошло, я спрашиваю себя: это произошло потому, что я этого боялся? Или я боялся этого, потому что чувствовал, что это обязательно произойдет?» Постепенно их голоса слились в гул, от которого воздух плавился и дрожал, как над огнем. Я закрыла рот руками. Африканский кофе скребся наружу, расцарапывая мне пищевод. Дверь хлопнула. Строков принес бутылку красного водянистого мерло, впрочем, теперь, на отдалении, мне кажется, что в те времена мы пили только такие – кислые, худые соки отечного винограда, всходящего из неведомых, малых и небогатых, набрякших от дождей земель.
Строков заметил, что я посматриваю на фотографию советской женщины.
– Красивая?
Может, это была его мать? Допустим, в молодости. Я неуверенно кивнула.
– Ну… Да. Красивая.
– А то! – он взял снимок правой рукой, а левой сделал народно-сценический замах с оттяжечкой и понарошку приударил по женщине тыльной стороной ладони. – А! Красотка?! Скажи? Эх! Это она на картошке.
Он наполнил бокалы.
– Раньше художников тоже на картошку, как и всех, посылали черпать вдохновение в полях. И вот, мухинцы целыми днями на четвереньках… копаешь землю, дышишь землей, к вечеру – уже на сорок процентов состоишь из земли, потом в сельпо за водкой, потом танцы, потом мордобой. Счастливое время. А это с моего потока, Наташка Орловская, жена друга моего, ей тут восемнадцать. Сейчас ей, как Настьке, за сорок. Она на пару лет меня помладше, я-то в Муху пришел после Афгана, а они после школы… Но вообще, я тебе скажу, она сейчас выглядит точно так же. Вот точно. Богом клянусь. Никакой старости, никакого увядания, только одно цветение, только краше и краше.
Строков сунул фотографию мне в руки. Ничего не оставалось, как взять.
– Ни капли не изменилась. Вот то, что ты видишь, вот то и сейчас, – он посмотрел в окно. Будто Орловская ждала нас на улице. Из вежливости я пялилась на фотографию с минуту.
– Это ваша любовь?
Он рассмеялся.
– Милая моя, мы так хорошо знаем друг друга… Любовь между нами невозможна. Любовь живет там, где остается место для домысла. Или для вымысла, если угодно. Человек любит то, что придумывает сам. Кто угодит тебе лучше тебя самого? Не родился на свете еще ни один мужчина, который был бы краше того, которого ты придумаешь там, – он легонько ткнул пальцем в мой лоб.
Африканская кошка опьянела и устроила в моем пищеводе пожар.
– А у вас водички нет?
Строков вышел из комнаты. Наконец-то я поставила фотографию на место и от нечего делать взяла с полки книгу, которая выделялась тем, что стояла не спиной ко мне, как положено, а обложкой, как Наташка Орловская. То есть книга занимала особое положение – того, кто, как и Наташка, слишком хорошо узнан. Сероватая, она имела дряхлый, слоящийся вид. Буквы на обложке до смерти исшелушились. Мне захотелось посмотреть внутрь. Приоткрытые свету страницы затрепетали. Они выглядели трухляво – хрупче бабочек и сыроежек, как письма с фронтов, найденные в земле вместе с костями солдат. «Наука». 1968. Книге не исполнилось и тридцати, а выглядела она на все триста. «Рукопись, найденная в Сарагосе». Название возбуждало какие-то тонкие, практически неуловимые, безымянные чувства, редко приводимые в действие (наподобие мелких спинных мышц), – нечто вроде детского благоговения перед медицинскими энциклопедиями или динозаврами. Переплет хрустнул. Где-то в недрах его текущего предсмертия порвалась еще одна нить. Я чертыхнулась и резко захлопнула старую устрицу, но не успела поставить на полку. Скульптор уже вошел со стаканом воды.
– О… – пропел он сладко. – Это фантасти-и-и-ческая вещь. Сам не верю, что владею! Ян Потоцкий, «Рукопись, найденная в Сарагосе». Тебе даже смотреть не дам, ты еще маленькая.
– Почему?
– Потому. Некоторые книги надо заслужить. Заслужить, ценой собственной жизни.
– Она что, антикварная?
– Антикварная.
– Так там же написано: 1968 год издания.
– Так ты уже открыла и посмотрела?! Ну ни на минуту вас, барышень, нельзя оставлять.
– А что? Я аккуратно. Просто открыла… я ей ничего не сделала…
– Ты ей нет. А она тебе? Откуда я знаю?!
– И чего теперь будет?
– Ну… Увидим. Завтра проснешься, а на голове рожки.
– А про что там?
– Хм, ты что, думаешь, я сейчас вот так просто возьму и расскажу?
– Ну, так, в общих чертах.
– Ты не поймешь. Эта книга для тех, кто готов. Ее написал человек, которого персонально пригласили в мир иной. Это человек избранный. Он присутствовал… Он пережил минуты, максимально наполненные смыслом… Отважнейший из отважных. И потом он написал об этом. Но явно не для того, чтобы юные барышни в студенческом общежитии баловались его знанием в перерыве между стишками и мальчиками.
Мы допили мерло и пошли гулять. Весна выветривала граниты. Между льдинами рябила вода. Она была желтой, такой яблочно-желтоватой, будто в кубок темного вина слили мочу больного, а потом, соответственно, опрокинули в небо – сгущались тучи. Над землей взметало целлофановые пакеты и обрывки газет. Глаза колол песок. Начинало темнеть. Скульптор повел меня «короткой дорогой». Ни до, ни после я больше не встречала человека, настолько хорошо знающего старый город. Собственно, мы просто шли через стены. Строков знал каждый двор, каждый пролет, каждую сквозную парадную. «Знал» – мягко сказано. Не то чтобы знал – постиг. Он вник в нагромождение разновеликих дворов, то и дело смыкающихся перед пешеходом в глухих тупиках, полных черной мерцающей слизи. Он вник в то, что простому смертному представлялось саморастущим каменным хаосом, рассеченным меридианами улиц и скудными параллелями рек, и, вникнув, извлек из разваливающегося на крупные кварталы песочного торта скрытую между слоями времени тончайшего плетения паутину лабиринта, через который научился протекать, как жидкость.
Окна цокольного этажа были выбиты подчистую. Из глубины помещений светился маленький опрокинутый стульчик. На детской площадке гнили деревянные ящики. Рядом стояли парни в гондонках. Вздутые ветром куртки, сутулые спины, поднятые воротники, нервный тик, красные руки, семечки под качелями. Мы шли через двор диагональю, в дальний угол, который не предвещал продолжения. Трое парней смотрели оценивающе, а четвертый, стоящий спиной, оглядывался на нас, брезгливо подергивая головой. Мальчики мерзли от скуки. Обмирая в праздности, их души, как последнего спасения, алкали и брани и боя.
– Здесь раньше детский садик был, неплохой, – сказал Строков.
– А вы вообще не боитесь так ходить?
– Как?
– Ну, такой двор… Сомнительный, какой-то нежилой, вон гопники жуткие.
– Чего это жуткие?
– Вы что, не видите, как они на нас смотрят?
– Ты боишься, что ли?
– Конечно. И зачем мы туда идем? Там же нет прохода. Вы… Как отсюда выйти? Знаете?
Он остановился. Уж совсем некстати. Мне казалось, впору бежать.
– Со мной можешь забыть о страхе. Будешь гулять с другими кавалерами – будешь бояться. Со мной можешь отдыхать. Вот уж что-что, а бояться – это точно не со мной.
– Да я…
Он перебил меня:
– Милая моя, у меня черный пояс.
Я прыснула:
– Прикалываетесь?
– Послушай, – он положил мне руку на плечо, – я человек военный. Барышни, которые меня хорошо знают, когда со мною на прогулке, если что, бросаются хулиганам в ноги с криками: «Миленькие, не надо! Только не трогайте его! Иначе кости переломает и имени не спросит! Миленькие, бегите, умоляю!» Я семь человек раскидаю за минуты. Отставить бояться!
Это было смешно. Хотя интонация казалась неоднозначной, а шутка вовсе не очевидной. Кто знает, может, он не шутил. Да и шутят ли такими вещами? Хвастовство? Тогда не слишком ли грубо? Как я должна была реагировать? Отказаться от предложения ощутить себя в безопасности? Вечер проходил божественно. Мне было весело. Все представлялось сказкой. Будто бы я проникла в собственный сон. Или в ночной Париж. Будто бы грудь жгла запазушная золотая рыбка. Одно желание определенно исполнилось: мужчина, которого я задумала, стал явью, шел по улице рядом, живьем, во плоти, дышал, источал тепло, говорил и даже держал руку у меня на плече. Дело оставалось за малым. Два желания в запасе. Лучшее впереди. На носу эпическая любовь. Мир недозавоеван на каких-то две трети. Чудо. Вот как все это называлось. Чудо, явленное мне персонально, как медаль за отвагу. Так сказать, Тане Козловой, наравне с Яном Потоцким, выпал знак из мира иного. Стоило ли в этот блистательный момент придираться к словам? Черный пояс так черный пояс. Я взяла под козырек и крикнула:
– Есть!
Мы прошли до упора, угол растянулся, раскрылся, вытек в щель, раздулся нишей, Строков взял меня за руку, потащил внутрь, в сгущение тьмы, и в две ступени мы упали под землю, оставив на улице бледный вечер. За горящей спичкой мы прошли, пригнув головы, под лестницей, на изнанке которой я успела прочесть бордовые буквы: «Воронина – my love».
– Хорошее название для романа, – сказал он.
Под ногами хрустели стекла. Огонь погас. Строков навалился на темноту. Скрипнули петли. Пахнуло свежестью. И вдруг передо мною открылась просторная набережная, вышина неба и глянец черной воды.
– Где это мы?
– На Пряжке.
– Ого! Да как же?! Как мы сюда попали?! Блин, не понимаю! – я смеялась. Восторгу, как воздуху, не было предела.
Мы прошли еще немного, Строков потянул на себя тяжелую дверь и завел меня в ухоженную парадную.
– Мы в гости идем?
– В гости, – ответил он, поднимаясь по лестнице. – Уже пришли.
Скульптор встал у окна, на площадке между этажами. Я осталась на первой ступени и смотрела на него снизу вверх, ожидая разъяснений. Мне мерещилось, что я вижу себя его глазами и что мои глаза сверкают от влаги.
– В гости к Блоку.
– О! Он здесь жил?
– Тихо. Чего кричишь? – скульптор приложил палец к губам. – Он здесь и сейчас живет.
Дверь в музей-квартиру была приоткрыта. Самую малость. Внутри горел свет.
– Пойдем? – спросила я.
– Вот дурочка, куда пойдем? Поздно уже. Закрыто сто лет. Ночь на дворе.
– Так свет же горит!
– Так что ему, без света сидеть? Как ему, по-твоему, в темноте стихи писать?
Я села на подоконник. Пошел дождь. Первый дождь в году. Строков присвистнул.
– С весной тебя.
– Спасибо, – я приложила лоб к стеклу. – Наверное, он здесь курил, – сказала я. И почему-то именно эта фраза запечатлелась в сознании по-настоящему навсегда: весь остальной роман со Строковым раскрошился на невнятные, мутноватые смальты, а эта фраза встала в памяти сросшимся из четырех слов холодным камнем. Именно в ней максимально точно выразились приметы юности: сигареты, скудная фантазия, позерство. И сегодня, много лет спустя, именно в ней для меня сконцентрирован весь тот стылый ужас, в котором, как в околоплодном киселе, мы плавали, лгав и расточая, принимая собственную ограниченность за естественное проявление родственной нам материнской, единственно возможной среды. Наверное, он здесь курил. Иногда эти слова настигают меня, отвлекают внимание от повседневности, ослабляют контроль над мышцами и, раскрывшись, как непрошеные цветы, проливаются из архивов в центральный канал спинного мозга бесцветной мерзлотой. В такие моменты я цепенею и спрашиваю себя: как я выжила?
– И слушал шум крушения старого мира, – добавил Строков.
Из, как мне тогда казалось, сухого, чистого, белокаменного подъезда, светлого, как дворцовый холл, приютного, как полость елочного шара, мы шагнули на тротуар под самый ливень. Мне сразу затекло за шиворот. Стемнело. Город блестел от воды. Скульптор проводил меня до общежития.
Я шла по коридору, как обычно, полная решимости. Шла, дожевывая на ходу сосиску в тесте, и, перед тем как постучать, слегка, как бы и невзначай, отерла руки о юбку.
– Войдите.
Я приоткрыла дверь и просунула голову в щелку.
– Можно?
– Да-да, Козлова, пожалуйста, проходите.
Чтобы не показаться невежливой, я все-таки потопталась на пороге, изображая стеснение. Тимаков сидел за столом, проверял конспекты. Я осмотрелась. На кафедре философии все было не так, как у нас. Никакой толкучки, бардака, никаких наваленных книг, свертков, корреспонденции, стенгазет, ничего. Тишина. Покой. Пустые столы. Прибранные тетради. Электрический чайник. Строго выметенные ковры. Комнатные цветы. И пластмассовая леечка в пупырышках.
– Присаживайтесь, – сказал Дмитрий Валентинович, не поднимая головы от работы.
Я выдвинула деревянный конторский стул и села.
– Вы по поводу семинара?
– Нет, – я прокашлялась. – По личному вопросу.
– Слушаю вас.
– Дело в том, что я влюбилась.
Дмитрий Валентинович потряс шариковой ручкой, которая, очевидно, перестала писать.
– Я познакомилась с мужчиной, ему сорок четыре года.
Профессор начал поочередно доставать из стаканчика разные видавшие виды ручки и расписывать их на уголке страницы.
– Пока что у нас ничего с ним не было.
Одна ручка упала и покатилась по полу. Я вскочила, подняла ее и подобострастно шлепнула на середину стола.
– Благодарю, – кивнул Дмитрий Валентинович.
– Ну так вот. Мне очень нравится этот мужчина. И мне хотелось бы… То есть у меня чувства, а чувства – это целая веха.
– Да. Пожалуй.
– В общем, я хотела бы найти с ним общий язык. Понять, что он за человек. Я так… я просто сама по себе не смогу его заинтересовать… Короче говоря, я была у него дома и там видела книгу. Он придает ей большое значение, говорит, что она – особенная.
Дмитрий Валентинович окончил проставлять подписи в конспектах и отложил пачку тетрадей в сторонку.
– Вы не голодны?
Я помотала головой.
– Пить только хочется.
– Тогда включите, пожалуйста, чайник. Откройте вон ту дверцу, возьмите чашки, прямо берите, доставайте, доставайте оттуда все, и заварку тоже, и сахар…
– Димочка! – послышалось из смежной комнаты, дверь в которую была открыта. – Будьте так любезны!
– И третью чашку, – сказал Дмитрий Валентинович.
Продолжая болтать, я выставила из тумбочки кружки и отметила про себя, что вымыты они были прилично, как могли быть вымыты только очень умной женщиной.
– «Рукопись, найденная в Сарагосе»? – Дмитрий Валентинович откинулся на спинку стула. – Это же Ян Потоцкий, польский романтик, путешественник, археолог… это какие-то сказки, вроде авантюрные новеллы, честно говоря, я уже не помню… Типа «Тысячи и одной ночи». Истории в историях. От лица офицера. Ну, там, да, есть какая-то ирония, он был блестяще образован, лез в политику… А собственно, в чем проблема? Возьмите в библиотеке, прочтите, если уж так… хотя… Пакетики сразу выбрасывайте, сразу, там под этим, да-да, урна, вон там, правее…
– Понимаете, может, я и прочту ее. Только я ведь могу не понять.
– Не понять чего?
– Он сказал, что в этой книге содержится какое-то знание. Свидетельство. Она редкая и доступна только избранным. Вернее, ее смысл открывается только тем, кто готов.
Дмитрий Валентинович недоуменно поднял брови.
– Козлова, послушайте, я два года наблюдаю за вами. Вы производите впечатление человека, не тонущего в воде и не горящего в огне. Думаю, через медные трубы тоже пройдете, если что, – он подул на кипяток. – Неужели вы не видите? Не чувствуете каких-то простых вещей? Мужчина, демонстрирующий сверхъестественные книги! Господи, фиглярство, и ничего более. Смехотворно, – Дмитрий Валентинович энергично помешал в чашке ложечкой.
Из смежной комнаты к нам вышел заведующий кафедрой философии. Так близко я видела мэтра впервые. На перекурах поговаривали, ему исполнилось сто два года. Дедушка в лощеном костюме, в ослепительно чистой рубашке, при галстуке густых кровавых тонов, седой, как сахар, двигался осторожно, словно боясь разломиться дорогой. Хрипло дыша, он добрался к столу Тимакова и поставил перед нами изящную коробочку печенья. Руки заведующего дрожали от старости.
– Угощайтесь, – сказал он, переводя дух.
– Александр Ефимович, – обратился к нему Тимаков, – в тот день, когда, кроме книг, мне нечего будет предложить женщине, убейте меня.
Дедушка засмеялся.