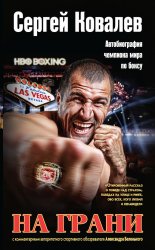Город не принимает Пицык Катя
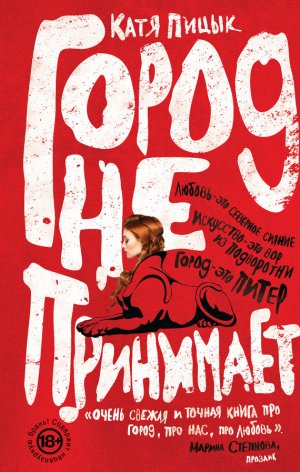
– Куда?
– Ой, ну просто, так, вообще куда-нибудь. Понимаешь, нельзя просто сказать ей: приди туда-то во столько-то, она не придет.
– Почему?
– Никто не знает почему. Она же ничего не может объяснить!
Валю вырвало снова. Еще и еще. Затем снова начался приступ удушья. Она хрипела, гудела, таращила на меня глаза, хватала ртом воздух, но воздух нашего мира исчез для нее, как будто передо мной изнемогала не реальная женщина, а голограмма женщины, находящейся в бункере, из которого откачали кислород. Валя вышла в открытый космос. Но она продолжала видеть меня. Возможно, кусочек рвоты попал в дыхательное горло, я не понимала. Пару раз Строков хлопнул Валю по спине. Мы наклоняли ее. Просили дышать носом. Это не очень-то получалось. Я поймала себя на мысли, что точно-то и не помню: возможно ли в принципе дышать носом в такие моменты? Валина юбка спуталась. Ноги заголились. Безукоризненная детская кожа вся перепачкалась. Волосы совсем расплелись. Горловина чужого свитера съехала вбок, обнажив плечо и лямку майки. Наконец невидимый демон разжал тиски. Валя прокашлялась. Гортань раскрылась.
Строков отогнул штору, и мы пролезли непроторенной до сих пор мною тропой в чулан, именуемый кухней. Пока Строков придерживал штору, я подвела Валю к раковине. Потом стало темно. Вместо окна – форточка, почти под потолком. Я слышала: Строков набирает в кружку воды. Я чувствовала: Мойка за стеной. Улица – там. Близко. Мы не провалились под землю. Вечеринка закончится. Все мы выйдем отсюда. Воздух пробьет нутро. Валя заснет в своей пижаме. Этот кошмар закончится. Мы отдохнем. Я не понимала только – возьмут ли Валю когда-нибудь в жены? Сможет ли кто-нибудь выстоять перед красотой? Найдется ли хоть один человек на земле, способный не искуситься и не сожрать ее на месте, чавкая и трясясь, не пытаясь превозмочь неистовство собственной утробы? Поймет ли кто-нибудь, что умопомрачающий облик – это только большая кукла, оболочка, внутри которой живет неведомый кормчий, управляющий изнутри этими ногами и руками, – бесполый, неопознанный, непредсказуемый, существующий автономно не только от собственной внешности, но даже от естественных для нас земных законов? Найдется ли человек, столь сильный, столь мужественный и суровый, способный не наделять красоту душой, а наоборот – наделить красотой даже очень странную душу? И если он найдется, то где? Должны ли мы идти на поиски? Или же предназначением сам он явится пред очи: наше дело – ждать? А если он опоздает? Тогда? Валя состарится и умрет в приюте для душевнобольных?
– Дай ей воды, – Строков сунул мне мокрую кружку. И вышел, заткнув напоследок штору так, чтобы к нам попадал свет из прихожей.
Иссяклое, желтовато-дымчатое марево чуть рассеяло мглу. Проявились детали интерьера. Валя качалась над краном. Края раковины были обглоданы. На тумбочке валялся пакет. Шиповник, ссохшийся с песком. Остатки. На полу стояли разные пластиковые бутылки, наполненные то ли известью, то ли кефиром.
– Прополощи рот.
Она не реагировала. Мы стояли в тишине. Стояли медленно, как мертвецы. За окном проехала машина. У меня ныли колени. Вдруг Валя сказала:
– Город не принимает.
– В смысле?
– Город не принимает.
– Слушай, ты можешь просто прополоскать рот и выплюнуть? А потом попить, побольше.
Она посмотрела на меня. Под ее глазами проступила чернильная тьма – алкоголь подтопил шлюзы, и внутренний космос пролился под кожу век.
– Мы – ничто. Он сам решает, когда принять нас и принять ли вообще.
– Черт, – я вздохнула.
И тут ее снова вырвало. Мне брызнуло по ногам. Поразил неожиданный, какой-то алюминиевый звук. Я посмотрела вниз. Сточная труба обрывалась на половине. Под раковиной стоял таз. Туда все и стекало. То есть Строков жил как в деревне. На седьмом этаже, в центре Петербурга, но как на даче. Жил не ради себя. А ради того, чтобы жить. Я завязала Валины потухшие волосы узлом, кое-как умыла ее губы, руки. Вытираться было нечем. Я подула Вале в лицо. Она улыбнулась. И заморгала. Почерневшие веки смыкались, как павлиньи крылья нимфалид. Самая красивая женщина планеты никому не принадлежала. Но моя некоторая причастность к ней давала возможность почувствовать себя сотрудницей музея, ответственной за Джоконду. Мы вернулись в зал. Было чертовски накурено. На остатках колбасы серебрился пепел. Увидев пропавшую музу, мужчины возликовали. Муза, не дойдя до насиженной прежде коробки, упала на мешок с какой-то белой мукой, наверное каолином. Вспыхнуло облако меловой пыли. Валя стала гречески-белой, как кондитерское изделие, обвалянное в сахарной пудре, а шанкры винной рвоты, залипшие на подбородке и за ухом, – розовели, как вишни.
– Зачем тебе эта хуйня? – спросил Иванов Строкова, снимая с головы корону.
– Так отличная обечайка, стекло просеивать, – Строков нервно вырвал из рук Иванова железку и с силой повесил обратно на гвоздь.
Иванов, я и дедушка Паша ждали на улице. Белая ночь находилась в жемчужной фазе. Брандмауэр дома, относящегося к соседнему двору, ощерился кирпичной кладкой. На колотых ступенях строковской парадной время образовало корки гроздевидной наружности – кладбищенские мхи, из растровых точек которых от всматривания в ночи проступали трехмерные изображения Девы Марии. Кто-то рассыпал при входе таблетки. Они светились, как выпавшие рыбьи глаза. Разрушенная стена торчала в полный рост. В темноте она обрела силуэт: на подступах к вышнему черная ткань стены рвалась, и кое-где через дыры просвечивали вялые перламутровые северные звезды. Запрокинув голову, дедушка патетически прошептал:
– Величественно.
Город поднимался к небу. Хладнокровно. Безэмоционально. Полагая себя самозачатым и самородным. Отрясая от ног всякое болото, всякую золу, тлен, битую тару, собачий кал, бензин, ларьки, любовный плач, жар тесных пирожковых и лед круглосуточных аптек. Он, город, столь угнетенный токами и испарениями вод, возносился молча. Бескровный. Не чувствующий собственных незарастающих ран. Высокомерно отрицающий собственную гибель. Восставал, головой окунаясь в небо и охлаждаясь в бессмертии, при тихом непрерывном истлевании и размывании корней.
– Вы знаете, – Паша обратился ко мне, – я живу в Бруклине… И там, знаете ли, сломалась изгородь…
Дверь парадной открылась. Строков вынес Валю на руках, словно невесту.
– Ты что, потащишь ее до дома?
– Она спит.
– Но тут минут пятнадцать идти.
– Через Марсово поле – пятнадцать. А тем, кто с головой дружит, – семь минут.
Валя была белой, как Баядерка в третьем акте. С болтавшихся на весу ног сползали туфли. Тело источало мраморный свет. Длинные щиколотки в узине своей напоминали пармиджаниновские суставы – вытянутые донельзя – прямо две струйки тугого клейкого меда в самых своих тонких местах. Я сняла с этих бледных вычурных ног затоптанные лодочки. Чтоб понести в руках. Дедушка Паша сказал:
– Какой красивый город…
– Да пиздец, – ответил Иванов по-хозяйски.
– Ага-ага, – подтвердил Строков. – У нас даже поребрики некоторые напилили из гранитных плит капища двенадцатого века, это вам не виды Венеции, не открытки для барышень.
Дедушка не унимался:
– Ты обрати внимание, Игореша, какой город у нас красивый.
Строков нес Валю, посапывая, как Винни-Пух. Не поднимая глаз, он пробормотал:
– Да, нарядный город, нарядный. Конфетно. Отрадно.
– Удивительно! – продолжил Паша. – Человек здесь упакован в архитектуру! Упакован в шедевр! У нас в Бруклине нет такого, – у нас вот в понедельник изгородь сломалась… А здесь – нет щелей. Пешеход идет через искусство, как через воду по дну океана!
Мы шли через искусство по Мошкову переулку. Заложив лодочки под мышку, я толкнула калитку кованых ворот и придержала свободной рукой, чтобы дать Строкову пронести Валю во двор.
– Куда?
– Прямо, – я указала на арку-нору.
Строков вступил в Аид первым. Мы – следом.
Иванову пришлось пригнуть голову. Чиркнув зажигалкой, он осветил путаные ряды проводов, густо-густо положенных поверху. Крысы, отпрянув к стене, посматривали раздраженно, полагая час слишком поздним для визитов. Выйдя из туннеля к подножию брандмауэра, Строков оглянулся.
– Дальше? – спросил он шепотом.
– Направо, – ответила я.
Строков без колебаний выбрал точный вектор – шагнул в темноту, безошибочно попав в черную гущу второй арки-норы. Судя по всему, и этот мошковский, самый глубокий и витиеватый карман Петербурга был им вполне изучен. Ему пришлось двигаться боком. Иначе с Валей в руках было бы не пролезть. Мы шли по дуге бетонной трубы, друг за другом, в свете зажигалки. Проволочные волоски Пашиной давинчиевской бороды норовили уцепиться за стены.
– Что происходит? – спросил он. – Ваша сильфида проживает в бомбоубежище?
– Тсс! Люди спят, – огрызнулся Строков.
Мы вынырнули во двор.
– Налево, – я махнула рукой.
– Боже правый, мы еще не пришли? – Паша изумился. – Это невероятно… Фантастика…
Строков положил Валю на матрас. Вытер пот рукавом. И, пятясь, начал торопливо раскланиваться. Я поняла, что он протрезвел и взалкал работы: пора к козлам. Происходящее уже давно тяготило его. Слишком (по его меркам) тягучей была вечеринка.
– Мне еще Пашу провожать, – сказал он раздраженно. И досадуя, и чувствуя вину. – А тебя Клим доставит.
Шагнув за порог, Строков тут же бросился вниз по ступеням. Деревянная лестница содрогалась под ним, как висячий мост. Иванов ждал у окна, между этажами. Скрестив руки. Опершись о перила, как раз в том месте, где было выломано подряд штук пять балясин. Это зияние под тонкой планкой в сочетании с кривизной лестницы придавало Иванову какую-то дополнительную зыбкость и неоправданность: блондин в глуши. Творец. Аполлон. Семьянин. Вундеркинд. Осколок мира, провалившийся к нам в преисподнюю. Я спустилась вниз, ступенек на десять, и встала рядом.
– Все в порядке? Уложили? – спросил он. Я кивнула. – Пошли?
– Нет. Я здесь останусь.
– Почему?
– У нас завтра дело. Там парень один, музыкант, в Израиль уезжает, на ПМЖ. И ноты раздает бесплатно, всем, кому надо. Мы завтра утром забираем, мне все равно за ней заезжать пришлось бы, остаться удобнее… Мы там Шумана забили, сонаты Моцарта и Брамса.
На Иванове был серый свитер с горлом, шерстяной, затасканный инженерами из советских производственных кинодрам. Под свитером обозначались широкие плечи, немного вздернутые, как у балетных танцоров. Я не помню, почему это произошло. Но мы с Ивановым поцеловались. Ни по чьей инициативе. В таких случаях говорят: получилось само собой. Именно это место – сближения, первого соприкосновения – вытерто из моей памяти. Как будто на пленке с записью событий гвоздем зацарапали двадцатиминутный отрезок. Что послужило толчком? Я силюсь, я в сотый, в двухсотый, в трехсотый раз ковыряю эту слипшуюся на краях сознания ветошь – эти полумертвые, окислившиеся и выдохшиеся файлы с молочной ночью, деревянной лестницей, серыми колючими нитками, но ничего не могу найти на отрезке между Брамсом и чувством. Вот этим безымянным, ни с чем не сравнимым чувством попадания в центр круга: когда безотчетное отчуждение от жизни вдруг преодолевается, так просто и так мгновенно. Ты просто прикасаешься губами к губам другого человека, и там, внутри, все тот же скользкий, обжигающий и изворотливый хвост судьбы, но только не бегущий от тебя в туман – достающийся не в погоне, развивающей мускулатуру, а загнанный в ловушку. Ты просто оказываешься во рту у другого. И все. Секунды времени перестают, отрываясь, падать в братскую могилу, перестают отсекаться от жизни вместе с твоими родными клетками тела, а складываются вовнутрь, оседая на сердечной мышце, облепляя ее силой веры.
Я даже прослезилась. Но, вернее будет сказать, не от счастья, конечно, а от великолепия, производимого точностью соответствия поцелуя Иванова тем желаниям, к которым я была пожизненно приговорена.
– Это когда-нибудь произойдет? – спросила я.
– Не знаю. Я связан клятвой. У нас с женой договоренность. Если я изменю ей, то ослепну. И не смогу больше писать.
Я сглотнула. У меня даже онемели руки.
– Это… шутка?
Он не ответил.
– А как же… Она же все время уходит от тебя…
– Понимаешь, она честна со мной. Она никогда мне не изменяет. Она просто уходит к другому.
– Не понимаю.
– Мы храним друг другу верность, э… никто не нарушает условия договора; верность можно хранить только друг другу, понимаешь? Иначе нет смысла. Если верный хранит верность неверному, значит, кто-то из двоих болен. Либо тот, либо другой. Либо оба. У нас дети. Половина – маленькие. Дети не должны расти в нездоровой обстановке. Это вопрос гигиены.
– Не понимаю… Не понимаю. Если женщина уходит, бросает своих детей, это здоровая обстановка? Гигиена?
– Во-первых, никто никого не бросает. Во-вторых, гигиена – это процесс. Это – работа. Это не цветные картинки из букваря.
Все показалось чушью. Высокопарной чушью. Плодами воспаленного воображения двух несчастных, дурно воспитанных психов. С одной стороны. С другой стороны, не поверить Иванову не представлялось возможным: а кому тогда верить? Внутри, под кожей, стало жарко. Я оттянула горло кофты.
– Слушай, а кто этот дед бородатый? – спросила я злобно.
– Такой американо-русский художник. Павел Дрон. Знаешь, триптих «Подаяние»? Самая известная его работа, такая, масштабная.
– Черт, не знаю я никакого «Подаяния».
– Забей.
Валя спала не дыша. Над Невой проявлялся рассвет. Голову тяжелили и туманили кошмары. Страшные сны о сектантской клятве. О муже и жене, смыкавших перерезанные запястья. Под утро я просто лежала, пялясь в потолок. Уснуть не получалось. Изнутри тело разрывало томление. Опаляла изжога. Хотелось пить. Но страшно было вставать. По набережной зачастили машины. Поцелуй с Ивановым был подлинным чудом. Точнее, знамением. Как встреча с Папой Римским во сне Регины. Может быть, знак новой жизни? Может быть, прямо сегодня и начнется? Может, уже началось? Я сбросила одеяло и побежала к окну – обозреть новый Петербург. Дворцовая имела свой самый обыкновенный вид: непреклонный, монументальный, до смешного не расточивший державности при давно ушедших вперед обстоятельствах. Плоский и протяженный пейзаж. Визуальное воплощение длиннот адажио Сэмюэля Барбера. Кино на широком экране. Валя зашевелилась. Выпроставшись из постели, она села поперек матраса, вытянув ноги перед собой, и уперлась руками в колени. Длинные волосы свесились, заслонив лицо.
– Доброе утро, – сказала я. – Ты как? Тебе плохо? Я сейчас сделаю чай.
Она подняла голову. Волосы рассыпались, открыв заспанные, припухлые, желтоватые веки.
– Ты вчерашний вечер до какого места помнишь? – спросила я, прекрасно, однако, зная, что любые разговоры с Валей сводились к типу разговоров с телевизором.
– Главное, что мы вместе, – ответила она. И нежно улыбнулась. – Главное, что мы вместе.
– Угу.
– Никому не удавалось изменить мир в одиночку. Мир меняется, когда двоим удается договориться.
Я взяла электрический чайник и пошла за водой. В коммунальном коридоре еще не рассеялись остатки ночи. У меня немного плыло в глазах и подкашивались ноги. Шнур в нитяной оплетке волочился за мной по дощатому полу, гремя вилкой. Окно кухни было зашторено. Через ситцевые худые растения прорастал набиравший соки свет дня. Проходя через штору, как через церковный витраж, свет вбирал в себя краски узора и наполнялся серо-розовым тоном. Хозяйка Валиной комнаты протирала ваткой листья алоэ. На чьей-то плите варился кофе. Аромат растравлял нутро. Я подставила чайник под кран и резко открыла воду. Струя шибанула по дну. Началось утро.
– Чего такая невеселая? – спросила ведьма язвительно. – Голова болит?
– Нет, – ответила я сухо. – Душа болит.
– А там есть чему болеть?
Я закрутила кран.
– В смысле?
– Ладно, что у тебя стряслось?
– Ничего особенного. Хочу переспать с мужчиной. А он женат. И жене не изменяет.
Я подняла шнур и забросила себе на плечо, чтоб не гремел. Ведьма снимала турку с огня. В столь ранний час птичьи, когтистые, скорченные артритом пальцы старухи уже облагались серебряными перстнями царского периода. Разминая папиросу, она сказала:
– Настанет день, и ты возблагодаришь свою блядскую судьбу за каждого женатого мужчину, с которым тебе не удалось переспать.
Мы сели в трамвай где-то в районе набоковского дома. Солнце блестело. В вагоне было жарко. Мы заняли два последних свободных места у окна, друг напротив друга. Валя расплывалась в блаженной улыбке. На стекле хорошо просматривались отпечатки пальцев. Я смотрела на улицу. Сказать, что я чувствовала то, что мы называли «влюбленностью», или нечто похожее, было нельзя. С самой первой минуты знакомства с Ивановым я очень четко, очень определенно ощущала его недосягаемость. Нельзя же было быть влюбленным в Моцарта или, например, в Иосифа Бродского. Собственно, Иванов давно уже умер. В каком-то смысле. Он умер для будущего тысяч женщин. Питать к нему чувства представлялось делом бессмысленным и нелепым. Иванов являлся частью петербургского мифа. Сам по себе факт нашего знакомства уже казался невообразимым жизненным успехом! А что если мы вчера вовсе не целовались? Что если это придумано мною? Я как следует ощупала ноги и руки.
– Валь, ты когда-нибудь влюблялась в голливудских артистов? Может, в детстве. Ну, там, Кларк Гейбл?
– Иногда, одиночество и люди – это одно и то же, – ответила Валя.
Я попыталась было от нечего делать внедриться в коан, но бросила почти сразу, отчасти по лености ума, отчасти подозревая Валю в полнейшем отрыве от какой-либо сути, и снова уставилась в окно. На третьей остановке в переднюю дверь вагона вошли человек пять. Трамвай качнулся и поплыл вперед. Вдруг надо мною крикнули:
– Во молодежь! Ты посмотри на них!
Я испугалась. От неожиданности сердце подпрыгнуло и больно ударило в ребра. Повернувшись, я увидела нависающего над нами мужчину: мясистое пористое лицо, красная кожа, расстегнутый жилет с накладными карманами на заклепках, серенькая футболка, облегающая шар живота.
– Оборзели, откормыши! – гаркнул он с апломбом. И мякоть его богатого салом тела колыхнулась.
– Это вы мне? – спросила я, еще до конца не придя в себя.
– Тебе-тебе, чего развалились? Ни в одном глазу! Не видите, женщине пожилой надо место уступить?
Действительно, за жирдяем виднелась мелкая старушка в шейном платке и канонических буклях. Она стояла у противоположного окна, держась за поручень обеими руками. Я приподнялась, но Валя, выбросив руку вперед, отчеканила:
– Сядь.
Я плюхнулась на сиденье, совсем уже потерявшись.
– Чего-чего? – Жирдяй искривил лицо, затопляя свинячьи глазки желчью.
Знаком Валя показала мне: «Молчи».
– Таня, – добавила она хладнокровно, – не вздумай вставать.
За два года общения с Валей я впервые слышала от нее абсолютно связный, приуроченный к текущему моменту ясный текст. К тому же она назвала меня по имени! Ни с того ни с сего бес освободил ее от своего присутствия, и Валя вступила в настоящий, стройный диалог с окружающим миром.
– Ты, мокрощелка, наркоты объелась? – спросил ее наш собеседник.
– Дома жену и дочь свою будешь называть мокрощелкой, – отрезала Валя.
– Ты ебанулась, сестренка?
– Да нет, – процедила Валя сквозь зубы, – это ты ебанулся, боров. Ты чего к ней пристал? Она – женщина. И будет сидеть. Посмотри вокруг! Одни здоровые молодые мужики на стульях. Чего б тебе к ним не доебаться?!
Когда мы вышли из трамвая, я, совершенно обессилев, рухнула на скамью под навесом остановки. Как будто бы из меня откачали три литра крови. Припав щекой к занозчатым, крашенным в голубое доскам, я лежала и понимала только две вещи: во-первых, двадцать килограммов нот нести я сегодня физически не в состоянии, во-вторых, я совершенно ничего не понимаю в жизни. Абсолютно ничего. Абсолютно. Как будто бы родилась минуту назад.
Глава IX
В коридоре темно. На картине темно. Мадонна в синем плаще, преисполненном кобальтовых глубин. Они испаряются. Наполняя собой весь воздух. Оттого становящийся сизым. Становящийся дым. Марии не привыкать. Прииде заутра, еще сущей тьме. Иисус воротил нос. Не глядел на невесту. Не готовил кольца. А она стояла, возложив руку, как велел фотограф: кисть свободна, большой палец отставлен в пространство средь железных шипов. Она стояла у своего колеса. По венам шло белое молоко. Над головой вращалась голубая пластинка флекси. Господь смотрел не на нее. А на меня. Щекастый и недовольный. Ротик пупком. В точности мальчик с черно-белого снимка, вставленного в центр красной звезды. Смотрел в глаза. Пока другой Господь смотрел в темя, отлагая гнев. А я смотрела на нее. Где ты теперь? В базилике Четырнадцати Святых? В музее холодного оружия? Где твои кости? Там палец, там десница, там голова. А что если я пойду к тебе в Египет, прислонюсь к мраморной раке, остужу горячую щеку и попрошу: хочу иметь женихом своим не иного, как только равного мне. Помоги! Ты слышишь? Вот я иду, ты ждешь? Я иду, я ползу на вершину Синая, гора отвесна, и так нельзя, но я понимаю это, когда уже подо мною бездна, и сразу вспоминаю, что монастырь у подножия, значит – надо обратно, какого черта, почему я не осталась внизу, но теперь неважно, потому что я все равно разобьюсь насмерть, и я падаю на угол Мойки и Невского, в ресторанах тепло, горит мандариновый свет, гламурные женщины из кожи и глаз, золото «Живанши», тяжелый макияж, много пудры, идет охота, они тоже надеются на тебя, а я в черном пальто, мне надо по адресу, где-то здесь его дом, но я захожу в супермаркет, я хочу сладкого, я вижу салаты, селедку под шубой, прошу четыреста граммов и вдруг вспоминаю, что у меня нет денег. Где ты, Иисус?! Ты же только что был здесь, передо мной.
– Не спать!
Глаза открылись. Сначала они открылись, а потом я поняла, что это открылись мои глаза.
– Взбодрись, сестренка, – Шилоткач ткнула меня локтем.
На коленях лежала книга. Разворот: «Мадонна с младенцем и шесть святых». Я вспомнила, где мы. Идет экзамен. В доме у Агаты. Я жду своей очереди. Я готовлю анализ картины. Боттичелли. 1470. Дверь открылась. Юра вышел. Коридор опалило светом. Мы увидели кусок комнаты. Там работал вентилятор. Агата сидела в инвалидной коляске, разодетая, как цыганка.
– Ну что? – спросила Света.
– А… – Юра мотнул головой, немного более нервно, чем приличествовало бы молодости.
Лицо его покрылось красными пятнами.
– На осень, – сказал он.
– Чего? Да ты что? Не сдал?! – изумлялась Света. – По ходу старуха каннибалит.
Юра вышел на площадку, ни с кем не прощаясь. Отличники переговаривались вполголоса, по-стариковски:
– Все, все, она уже устала, все…
– Да-да, шесть человек – ее предел, уже устала.
– Н-да… очень быстро устает, да еще и эта жара, – говорили они кивая, в интонации людей, осведомленных о ситуации особо.
Агата Игнатьевна Калягина читала нам Возрождение. С первого дня учебы студентам внушалась мысль (должная со временем выродиться в святую веру) о том, что возможность получать знания от Агаты – чудо. Счастье. Жизненная удача. «Агата Игнатьевна – искусствовед старой школы», – говорили нам шепотом, толсто намекая на источенье ученым сил за отечество и, конечно, владение тайными знаниями. «Уникальная женщина», – произносил декан с придыханием и прикладывал руку к губам, будто придерживая готовые хлынуть через рот слезы раболепного счастья. Агата была ровесницей Джотто. Ее волосы выпали. Родинки переспели. В глазах скопилась кашица. Она уже не могла ходить. В университет ее привозил ректорский водитель. К черной машине подкатывали инвалидное кресло. И пока кто-нибудь держал наготове (в зависимости от времени года) зонт, плед или веер и бутылку воды без газа, четверо мужчин пересаживали грузное тело горгоны, кишащее слоями юбок, астматическое, в оползнях тканей, опутывающих прислужникам руки. Разум старухи мутился. Она не отличала старшие курсы от младших, не узнавала людей, студенты были для нее однолики и вечно просящи – нахлебники алчущие, нахлебники берущие, нахлебники отнимающие. Себя как человека, способного и призванного отдавать, Агата не представляла. Пребывая в статусе великого ученого и памятника петербургской культуры, Калягина превыше всего блюла собственную сохранность. Иногда в связи с прославленной калягинской мигренью экзаменоваться студенты принуждены были ездить на Петроградскую сторону, к Агате домой. Так случилось и во время нашей летней сессии второго курса.
Квартира была большой. В недрах ее студентам бывать не доводилось. Агата принимала в одной из «передних» комнат. Всего же комнат имелось восемь. В них, кроме хозяйки, проживали четыре няни – женщины, на завуалированных основаниях сдавшиеся в услужение деятельнице искусств. Эти тихие, дородные, грудастые, еще вовсе не старые няни, возможно, имели в миру мужей, детей и внуков, но по какой-то причине предпочли отказаться от любви по родной крови и жить в воздержании и труде на благо чужой им старухи, во всю жизнь не родившей себе ни мужчины, ни ребенка, ни собаки. Няни готовили, вели дом, подстригали Агате ногти, купали. Бодрствовали по-монастырски – в молчании. Их богатые формами, покрытые шалями телесные тени беззвучно появлялись то тут, то там, почти неразличимо в сгустках тьмы, в слишком узких для нянь пространствах, оставшихся не занятыми холстами и книгами, пожравшими пустоты комнат до сердцевины.
Какая-нибудь из нянь выносила к нам поднос с билетами. Мы тянули. Получали на подготовку сорок минут. Пока один человек отвечал, шестеро сидели в коридоре – на полу или на приставленных наскоро с кухни табуретах. Или стояли, прислонясь к стене. Окна в доме Агаты никогда не открывались. Мертвые деревья, лежа вдоль стен, больше не чуяли углекислого газа, а вместо того вбирали в себя запах увядших человеческих клеток: тысячи книг пахли старением.
– Из шести, э… – я не знала, как их назвать, – человек… только двое смотрят на нас: младенец и Екатерина смотрят зрителю в глаза. Это очень контрастирует с тем, что остальные персонажи картины поглощены своими мыслями и смотрят на Иисуса или друг на друга, еще куда-то… На фоне того, что святые и сама Мадонна абсолютно самодостаточны, взгляды Екатерины и младенца создают впечатление контакта…
– Какого контакта? – перебила Агата резко.
– Контакта с нами, – ответила я.
– С нами? – она раздраженно усмехнулась. И обратилась к двум няням, хлопотавшим около. – Извольте радоваться! С нами кто-то контактирует! Вздор.
Ноги Агаты пребывали в тазу с водой. На подоконниках, на полу и на круглом столе, покрытом скатертью ручной работы, стояли комнатные растения. Вращая головой, напольный вентилятор проходился по ним волною ветра слева направо и обратно. Няни растворяли порошки в стаканах с водой. Стучали ложечками по краю, сбивая лекарство до последней капли. Отсчитывали таблетки. Перекладывали подушку под спиною хозяйки. То вносили что-то, то выносили, дверь открывалась, закрывалась, открывалась снова. Цветы то гнулись, как в бурю, то выпрямлялись, возвращая исходную безмятежность. Старуха стонала со слезою в голосе и торопила своих наложниц.
– Поспешите за ради бога! – кричала она. – Шевелитесь! Ну же, пора, уже на глаз сейчас пойдет! Уже идет! Уже идет на глаз!
Агата кричала страшно, артикулируя, открывая каждую гласную, как для последнего ряда партера. И няни оборачивали махровым полотенцем мешок со льдом, чтобы прикладывать к виску Агаты. В какой-то момент возникло ощущение, что меня просто нет в этой комнате. Между тем я не рассказала и третьей части из того, что знала о картине. На коленях лежали исписанные листки. Ответ был выстроен композиционно: мысль раскрывалась в нестандартной последовательности, должной, по моему расчету, пробудить слушателя, усыпленного рутиной.
– Что она там несет? А? Совершенно не возьму в толк… Контакт? – она хохотнула, слегка прыснув, и пожала плечами.
Я даже не сразу сообразила, что речь идет обо мне: Калягина задала вопрос будто бы няням, но даже скорее куда-то за спину, подчеркивая видовое неравенство между мной и остальными присутствующими.
– Я хотела объяснить, почему картина производит такое необычное впечатление…
– Так, хватит. Перечислите фрески Сикстинской капеллы работы Боттичелли, – она выдохнула носом, отвернулась в окно. – Быстрее.
– «Искушение Христа», – ответила я тихо.
– Где? – спросила она, не отводя взгляда от окна.
– Где? – я не поняла вопроса.
– Да-да, господи, где, где, на какой стене, в каком ряду, живее.
– Я не знаю.
– Дальше.
Я опять не поняла, чего хочет Агата. Стекло, в которое она смотрела, очевидно демонстрируя нежелание смотреть на меня, было грязным. По плотному слою пыли засохли дождевые бороздки. Сквозь их усыпительный орнамент к нам проступало лето, стоящее снаружи в великом веселии безразличия. Там, под палящим солнцем, в ожидании очереди, у парадной томились мои однокурсники. Вдруг Калягина швырнула от себя сверток полотенца и по полу с грохотом рассыпались кубики льда.
– Нет, ну ушло на глаз уже! – крикнула она с досадой, злобой, чуть ли не в бешенстве, в манерах кокаиниста, по неловкости просыпавшего в Неву только что купленный на последние деньги порошок.
Две няни бросились собирать лед в четыре руки.
– Просила поторопиться, нет же! Изволите упорствовать! – выговаривала она женщинам, тем временем ползающим на четвереньках. – Последовательность желаете возводить в достоинство, с утра и до ночи проводите рылом в землю.
Тут она указала жестом на дверь:
– Можете быть свободны.
– Я?
– А кто же?
– Но я же не ответила по билету… Дальше не надо рассказывать?
– Зачем? Вы не знаете фрески Сикстинской капеллы. Значит, вы не знаете ни-че-го. Вы не знаете Боттичелли. Вы даже не знаете, что вы не знаете Боттичелли.
Я опешила. И в замешательстве перестала придерживать лежащие на коленях листки. Их тут же разметало по комнате проходящей струей воздуха от вентилятора.
– Свет… – процедила Агата в нарастающем раздражении.
Одна из нянь подскочила и стала закрывать шторы. Собирая с пола листки, я успела увидеть, как уже обе грузные няни, приставив к ближнему к Агате окну стремянку и табуретку, полезли заправлять за карниз шерстяное зеленое одеяло.
Выходя из комнаты, я столкнулась с Олегом. Он так торопился к Агате, что даже слегка задел меня плечом. Постукивая по ноге плотной трубочкой, свернутой из листков, он поклонился и сказал:
– Э… Добрый день. Разуваться?
– О боже, – Агата сипела, закашливаясь, – боже… Вы в Петербурге, а не в мечети.
И за Олегом закрылась дверь.
Мне было так плохо, что, сославшись на боль в животе, я даже не стала ждать Регину и Свету. Я села в троллейбус. Петроградская походила на другой город. В ней не было ничего от оперных декораций. Ничего от вскопанного и брошенного под луной месторождения охры. Город не вставал над человеком, как некто, способный и даже стремящийся остаться человеком покинутым. Петербург – единый и непреодолимый – лежал в стороне, там, за рекой. А это был просто какой-то город, город для жизни и смерти, который мог быть изображенным на любом спичечном коробке или коробке конфет. Сеть проводов. Череда автомобилей. Люди, производящие приятное впечатление массовки восьмидесятых. Они спешили на работу, с работы, несли в руках сумки, обедали, опаздывали в театр или в гости, возвращались домой. Глядя на них, можно было подумать, что на земле есть счастье. И многим оно доступно. Мне было очень плохо. Но я не могла понять почему. Анастасия Дмитриевна посвятила нас в тайный закон: абсолютно любой человек может анализировать абсолютно любую картину. Даже в тех случаях, когда картина человеку неизвестна. Надо просто смотреть и думать. Подбирать коды. Вспоминать детство. Вспоминать вчерашний день. Представлять собственную смерть. Искать среди событий и снов те, что оставляли впечатления, схожие с впечатлением от картины. Никогда не сдаваться. Пытаться взломать сейф, даже не имея инструментов. Если надо – пробивать толстые стены руками. Главное – помнить: эти стены, отделяющие созерцателя от смыслов, находятся не перед картиной, а внутри самого созерцателя. Я пришла на экзамен с открытым сердцем. Я знала о Боттичелли то, что сам о себе он узнать не успел, потому что умер раньше, чем я родилась. Но мои знания оказались шлаком. С этого дня мой интерес к изобразительному искусству медленно угасал. Картины, воспринимаемые ранее как телеграммы из космоса, постепенно высвобождались из красивых панцирных доспехов сверхсмыслов и в итоге, оголившись до предела, превратились в плоские цветные карточки. А музеи – в места, от которых болели спина и ноги.
Понадобились долгие годы, для того чтобы понять – что именно произошло со мной на экзамене у Агаты. Анастасия Дмитриевна учила нас думать. Калягина – обмирать. Анастасия Дмитриевна учила строить новые мысли. Калягина – брать готовые, и отнюдь не об искусстве, а о себе самой. Она не дала нам ничего, кроме практики сотворения кумира, столь заразной и столь порочной. Неспособность Агаты к наставничеству с лихвою прикрывалась ролью авторитета, за которым, как всегда, вместо ожидаемого новогоднего чуда – источника душеспасения – прятались лишь банальные слабость и власть – две головы одного змея, питающегося мясом человека, но в нашем случае принявшего столь не по-военному невинный, обыденный вид естества университетской среды.
Калягина не имела права унижать людей. Но все вокруг вели себя так, будто имела. Я могла выключить вентилятор, швырнуть листки с ответом Агате в лицо и обозвать ее старой коровой. Но я об этом не знала. Потому что в двадцать лет об этом не знает никто. Мы находились в метре от того, чего не понимали. Это нечто (получившее впоследствии убористое и блеклое имя – Выбор) лежало рядом, бескрайне дышало и бескрайне переливалось, но ничем, ни одной черточкой, ни одним звуком или движением не выказывало своего присутствия. Уподобляясь духу умершего, Выбор следил за нами, оставаясь невидимым. Мы были глупы. Но не лишены кожи. И кожей мы чувствовали близость субстанции, в которой блистали наши неролившиеся решения и поступки – блистали тем же блеском, каким блещет мокрое мясо, только что выскобленное из матки, приговоренное к смерти до своего рождения. Вот почему мне было так плохо. В метро я пыталась читать. Но буквы не помещались внутрь. Воздуха не хватало. Тогда я даже и представить себе не могла, что возвращалась с последнего экзамена в этом университете.
Я вышла из трамвая и направилась к общежитию через пустырь. Было жарко. Лето вошло в разгар. Просохнув, земля затвердела. Навстречу мне ехал велосипедист. Он только что выплыл из-под центральной арки главного корпуса и теперь рос, приближаясь. Нечто в этом двухколесном пятне неуловимо напоминало о Строкове. Мысленно я даже успела осмеять собственное параноидальное восприятие мира. Но уже через пару секунд не осталось сомнений: педали крутит мой недавний возлюбленный. Так оно и есть. Просто не верилось.
– Привет! – воскликнул он, спешиваясь. – Чего такая невеселая?
– Экзамен не сдала.
– Ну, братец, бывает.
– Ага.
– А я вот приехал к тебе.
Строков подступил и даже слегка прислонился. Тело его горело: через мягкую, сыроватую, немного липкую, подобную пленке круто взбитого подсыхающего белка и очень бледную кожу шел поток характерного тепла, случающегося при воспалениях. Строков был пьян. Возможно, болен. Запах перегара выедал глаза.
– Я думал, ты пустишь меня… – зашептал он, касаясь губами моего уха.
– Конечно.
– Я думал, мы полежим, я тебя поглажу, сказочку тебе расскажу…
Он развернул велосипед. Медленным шагом мы направились к главному входу. Я не могла воспринять происходящее. Как Строков оказался здесь? Прокатился от Мойки к окраине? Чтобы побыть со мной рядом? До этой минуты я считала, что наш роман бездарно и однозначно окончен. Собственно, даже в период расцвета романа Строков не отдавал предпочтения моему обществу. Иванову, армейским товарищам, паломничествам, пленэру, таинственным заплывам в ночной Петербург – да, но никак не мне и уж тем более не сексу. Мы встречались, потому что я приходила к нему домой. О том, что и он может прийти ко мне, не шло и речи.
Я плелась к общежитию в дремотном состоянии, недоумевая и в то же время пассивно принимая приглашение в некую непредвиденную ситуацию, которая предположительно сулила новую, недостающую краску жизни. Но ничего не случилось. Наше рандеву длилось сорок минут. Потом он вскочил и начал поднимать с пола одежду. Звякнул ремень. Я лежала на боку. За окном над кирпичными корпусами блистало голубое небо. Жарились неподвижные облака. Строков приискивал горловину у майки.
Я могла бы спросить, зачем он пришел. Могла бы спросить, как давно с ним случилось это. И можно ли сделать что-то для того, чтобы его член стоял – руками, ртом, как-то еще. Я могла бы спросить, занимается ли он онанизмом. Нужен ли ему секс без полового акта, и если нужен, то какого черта он ведет себя как корова семейства дюгоневых, выброшенная на сушу. Я могла бы спросить его, что, по его мнению, происходит. Если он не умеет и не хочет заниматься сексом, то не лучше ли было остаться дома с козлами. А может быть, придя ко мне, не помешало бы объясниться, не дожидаясь вопросов. Но я молча смотрела на Строкова, застегивающего штаны. В советском детстве на предмете «Этика и психология семейной жизни» (на коем мальчиков и девочек разводили по разным кабинетам) биологичка рассказывала нам о дезинфекции простынных лоскутов: во многоразовом использовании их наличествовала существенная деталь – прокаливание утюгом после каждой стирки. Биологичка любила «отдыхать левую ногу», вынимая стопу из остроносой туфли, и упоминать лучшую подругу Раису. Потирая левой стопой правую щиколотку, биологичка говорила: «Скажем, Раиса. Зайдет ко мне в гости. А в дороге у нее началось, – последнее она произносила выпучив глаза. – Так у меня в шкафу все стопками. Отглажено, стерильно. Я просто даю ей, и все. О чем вы говорите… Ни одного микроба!» Вопросы же, касающиеся взаимоотношений не то чтобы даже мужчины и женщины, а просто любых двух человек, остались для нас нетронутыми, застыв в том самом невидимом духе выбора, через который мы шли, как через голый воздух. Строков одевался. А я молчала. Потому что не знала о существовании ни одного из резонных вопросов. Я знала другое: дни, подобные текущему, называются «неудачными». Именно они составляют подавляющее большинство дней в году. Такова воля природы.
Вечером я зашла в университет – поесть в столовой горячих сосисок в тесте и забрать свежие экземпляры газеты с моими стихами. На литкафедре сообщили, что меня разыскивает какая-то дама. Она оставила номер. Его записали на клочке бумажки. Лаборант поставила на угол стола телефон. «Только быстро», – сказала она. Но все равно никто не ответил. Я сунула бумажку в задний карман, прихватила пачку газет и вышла. В коридорах было сумеречно и пустынно. Летняя сессия заканчивалась. «Титаник» погружался в межсезонье. Ректор экономил электричество. В полумраке светились сизалевые волосы Регины. Только в ту минуту я поняла, кого она напоминала мне на протяжении двух лет знакомства: Катрин Денев. Конечно. Два кукольных глаза. Белая волокнистая прическа. Tie идеал, а прообраз идеала. Вернее, сама причина его возникновения. Женщина Ева. Мать всего сущего. Я подошла. Регина прижималась к стене. Была грустна. Растеряна. Агата поставила ей трояк. Но дело не в том. Экзамен – пустяк. Беда в другом.
– Я сегодня ходила к врачу, – голос ее дрожал.
– Ты беременна?
– Нет. У меня давно есть проблема… Я просто не говорила. У меня артроз.
– Что это?
– Заболевание суставов, – она подняла кисти рук. – У меня болят пальцы.
– Так надо лечиться.
– Это не лечится. У меня генетическая предрасположенность. Мои суставы будут деформироваться, на пальцах появятся шишки… Это вопрос ближайших лет. Я не смогу больше играть. И тогда, если я не стану искусствоведом, я не смогу устроиться в музыкальную школу.
Регина побледнела и, как будто в попытке удержать пальцами оттекающую кровь, ощупывала лицо.
– Понимаешь, я не смогу найти работу… Не смогу даже частные уроки давать и… – Она перешла на шепот: – Если у меня не будет мужа, мне не на что будет жить.
Я поразилась. Не будет мужа? Работы? Прекрасное будущее казалось тогда неотвратимым. У нас не было ничего стабильнее грядущего счастья. И вдруг такие страхи. У блондинки с огромной грудью, кончавшей в постели одновременно с партнером.
– Ты с ума сошла? Почему ты не станешь искусствоведом?
– Мы ничего не знаем… Все может случиться. С нами, со страной.
– Почему у тебя не будет мужа?
– Кому нужна женщина с наростами на пальцах?
Я совершенно потерялась. В голове открылась распирающая тишина. Регина шмыгнула носом.
– Через неделю мы с Андреем поедем в Старую Ладогу, к целительнице. Говорят, она продает травяной сбор, который поможет. Мы заняли денег… Купим на год.
– Откуда вы узнали о ней?!