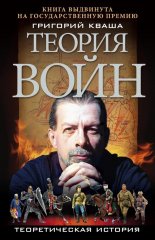Вкус дыма Кент Ханна

Он ехал по северному полуострову, где на горизонте брезжила тонкая полоска моря, а тучи между тем начали рассеиваться, и тропу омыл багряный свет незакатного июньского солнца. Капли воды алмазами заискрились на земле, очертания холмов стали матово-розовыми, и тени скользили по их гребням, передвигаясь вместе с плывущими над головой облаками. Мошкара толклась в воздухе и, попадая в полосы солнечного света, вспыхивала крохотными алыми искрами, а прохладный воздух долин полнился сладким и влажным ароматом травы, уже почти готовой покорно лечь под взмахами косы. Страх, который так прочно стискивал когтями грудь Тоути, отступил, развеялся без следа, и молодой священник молча любовался раскинувшимся перед ним краем.
«Все мы дети Божьи, – думал он. – Эта женщина – моя сестра во Христе, и, будучи ее духовным братом, я должен возвратить ее в лоно семьи». Тоути улыбнулся и пустил лошадь тёльтом[7].
– Я спасу ее! – прошептал он.
Глава 2
3 мая 1828 года
Ундирфедль, Ватнсдалюр
Обвиняемая Агнес Магнусдоттир родилась на хуторе Флага в приходе Ундирфедль в 1795 году. Конфирмовалась в 1809 году, и в том возрасте ее описывали как обладавшую «недюжинным умом, а также глубокими познаниями и пониманием христианства».
Так гласит запись в церковной книге прихода Ундирфедль.
П. Бьярнасон
МЕНЯ ВЫВЕЛИ ИЗ КЛАДОВОЙ и снова взяли в железа. На сей раз прислали судебного офицера, юнца с прыщавой кожей и кривой усмешкой. Это слуга из Хваммура, мне знакомо его лицо. Когда он открыл рот, я заметила, что у него гнилые зубы. Изо рта у него дурно пахло – ну да чем я лучше? Я знаю, что от меня воняет. Я покрыта грязью и следами телесных выделений: крови, пота, кожного сала. Не могу припомнить, когда я в последний раз мылась. Волосы мои превратились в сальную паклю; я пыталась заплетать косы, но мне не давали лент, и я подозреваю, что в глазах офицера выгляжу сущей уродиной. Быть может, поэтому он усмехался, глядя на меня.
Он забрал меня из той омерзительной кладовой, а когда повел по неосвещенному коридору, к нам присоединились другие люди. Они молчали, но я чувствовала спиной их присутствие, чувствовала их взгляды, которые впивались в шею, словно ледяные безжалостные пальцы. А потом, после нескольких месяцев в душной клетушке, густо пропитанной моим смрадным дыханием и зловоньем ночного горшка, меня вывели из коридоров Стоура-Борга на раскисший слякотный двор. И там шел дождь.
Как я могу описать, что значит снова дышать полной грудью? Я словно родилась заново. Едва держась на ногах в море света, я жадно хватала ртом свежий соленый воздух. День клонился к вечеру, и его влажное дыхание омывало мое лицо. Душа моя возликовала в тот краткий миг, когда меня вывели наружу. Я упала на колени, распластав юбки в грязной луже, и запрокинула лицо к небу, словно в молитве. Видеть свет было таким безмерным счастьем, что я едва не разрыдалась.
Кто-то ухватил меня и рывком поднял на ноги – так выдергивают из земли беззаконно выросший на грядке чертополох. Только тогда я и увидала толпу. Вначале я не поняла, чего ради собрались здесь все эти люди, все эти мужчины и женщины, что теперь стоят не шелохнутся, безмолвно сверля меня неотступными взглядами. Потом я поняла, что смотрят они так вовсе не на меня. Меня эти люди не видели. Я – это двое убитых мужчин, горящий хутор, нож… кровь.
Я не знала, как быть, как держать себя под этими взглядами. И тут увидела Роусу – она стояла поодаль, крепко сжимая ручонку своей маленькой дочери. Приятно было увидеть хотя бы одно знакомое лицо, и я помимо воли улыбнулась. Зря я это сделала. Толпа точно сорвалась с цепи. Лица служанок исказились, и тишину разорвал вдруг пронзительный детский вопль:
– Fjandi! Дьявол!
Вопль ударил в небо, точно струя из гейзера. И погасил мою улыбку.
Этот выкрик словно вывел толпу из оцепенения. Кто-то разразился визгливым смехом, какая-то старуха шикнула на ребенка и увела его прочь. За ними один за другим ушли все остальные, вернулись в дом, к своим повседневным делам, и я, окруженная старостами, осталась стоять под дождем – в заскорузлых от пота чулках, с сердцем, рвущимся на части под кожей, покрытой коростой грязи. Оглянувшись, я увидала, что Роуса бесследно исчезла.
И вот теперь мы едем по северу Исландии, этого обширного острова, омываемого волнами, угрюмо покоящегося на лоне моря. Скачем через горы наперегонки с собственными тенями.
Меня привязали к седлу, точно покойницу, сопровождаемую к месту погребения. В глазах своих спутников я и есть покойница, которую ждет могила. Руки у меня скованы впереди. Зловещая наша кавалькада неумолимо скачет все дальше, кандалы впиваются в мою плоть, и я вижу, как на запястьях проступает кровь. Ожидание боли стало привычкой. Иные из тех, кто охранял меня в Стоура-Борге, мелочно издевались над моей потью, словно запечатлевая на ней свидетельства своей ненависти: ссадины, синяки, россыпи кровоподтеков, исчерна-желтые желваки, тут и там вздувающие кожу. Полагаю, некоторые из этих людей знали Натана.
Но теперь меня везут на восток, и хоть я связана, словно ягненок, приготовленный на убой, но счастлива, что возвращаюсь в долины, где бесплодный камень уступает место траве, – пускай даже здесь мне предстоит умереть.
Кони скачут, пробираясь меж травяных кочек, а я гадаю, когда же меня убьют. Гадаю, где будут меня содержать, в каком погребе хранить, точно масло или копченое мясо. Словно труп – в ожидании тех дней, когда земля оттает, когда меня можно будет бросить, как камень, в могилу.
Мне таких вещей не говорят. Просто заковали в кандалы и ведут, куда надобно, и я повинуюсь, точно корова: посмеешь брыкаться – пойдешь под нож. Веревка на шею – и конец. Я опускаю голову, покорно следую предназначенным путем и только надеюсь, что в конце его не могила, пока еще – не могила.
Меня донимают мухи. Они ползают по лицу, лезут в глаза, и я всей кожей чувствую щекотное касание их крохотных лапок и крылышек. Кандалы слишком тяжелы, чтобы отогнать мух. Эти железа предназначены для мужских рук, хотя и мои запястья стискивают так, что не шелохнешься.
И все же приятно хоть куда-то, но двигаться, ощущать ногами тепло лошадиного крупа; чувствовать прикосновение хоть чего-то живого и не мерзнуть, Боже, не мерзнуть. Я так долго прозябала в холоде, что леденящее дыхание зимы словно пропитало меня до мозга костей. Вечность, проведенная в темноте и взаперти, ненавидящие взгляды – одного этого достаточно, чтобы превратиться в ледышку. И даже когда в воздухе роятся полчища мух, лучше ехать куда угодно, чем заживо разлагаться в тесной кладовой, точно труп в гробу.
Помимо жужжания насекомых и размеренного перестука конских копыт мне слышен отдаленный гул. Быть может, то голос моря – мерный рокот волн, набегающих на пески Тингейрара. Или же мне это только чудится. Морю свойственно проникать в душу. Как говаривал Натан, стоит только раз подпустить его к себе – и ты от него уже никуда не денешься. Море, говорил он, как женщина. Изведет и не даст покоя.
То была первая моя весна в Идлугастадире. Она даже не наступила, но ворвалась в мир, словно загнанный, трепещущий от страха заяц. Море было пустынно – Натан греб, с силой погружая весла в его зыбкие бока, и лодка плавно скользила по серебрящейся глади.
– Тихо, как в церкви, – заметил он, усмехаясь. Мускулистые руки его напрягались, преодолевая сопротивление воды. Я слышала, как поскрипывает дерево, как мерно и приглушенно шлепают по воде весла. – Смотри, будь паинькой, когда я уеду.
Не думать о Натане.
Сколько мы уже едем – час, два? Время увертливо, словно кусок масла на горячей сковородке. А впрочем – вряд ли больше двух часов. Я знаю эти места. Знаю, что мы сейчас едем на юг, вероятно, в Ватнсдалюр. Странно, как при этой мысли сердце мое мгновенно сжимается в груди. Давно ли была я здесь в последний раз? Пару лет назад? Больше? Все осталось таким, как прежде.
Я почти дома. Почти – потому что вернуться домой мне не суждено.
Мы проезжаем между незнакомых холмов у устья долины, и я слышу карканье воронов. Их черные силуэты словно зловещие знамения в ослепительной синеве неба. Все ночи, проведенные в Стоура-Борге, на сыром убогом ложе, я представляла себе, как брожу по Флаге под открытым небом и кормлю воронов. Жестокие птицы, но мудрые, а если живое существо нельзя любить за доброту и мягкость, отчего бы не любить его за мудрость? В детстве я часто наблюдала, как вороны собираются на крыше ундирфедльской церкви, и надеялась по их поведению понять, кто вскорости умрет. Сидя на стене, я ждала, когда кто-нибудь из воронов встопорщит перья и я увижу, в какую сторону повернут его клюв. Один раз это случилось. Ворон, усевшийся на деревянном коньке крыши, указал клювом на хутор Бакки – и в ту же неделю маленький мальчик из Бакки утонул в реке; труп его, распухший и посеревший, выловили ниже по течению. Ворон знал, что это случится.
Сигга ничегошеньки не знала о кошмарах и призраках. Как-то вечером, в Идлугастадире, когда мы сидели рядышком и вязали, с моря донесся пронзительный крик ворона, и от этого крика у нас кровь застыла в жилах. Я сказала ей, чтобы ночью нипочем не сзывала и не кормила воронов. Те, что каркают по ночам, сказала я, на самом деле не птицы, а призраки, и едва они завидят тебя, так тут же и убьют. Уверена, я не на шутку напугала ее, иначе она потом не сказала бы того, что сказала.
Знать бы, где сейчас Сигга. Почему ее не оставили со мной в Стоура-Борге? Как-то утром, когда я была в кандалах, ее увели прочь и даже не сказали мне куда, хотя я спрашивала об этом не единожды. «Подальше от тебя, – отвечали мне всякий раз, – и все тут».
– Агнес Магнусдоттир!
У человека, который скачет рядом со мной, на лице читается непреклонность.
– Агнес Магнусдоттир, уведомляю тебя, что до самой своей казни ты будешь содержаться на хуторе Корнсау. – Он что-то читает, поглядывая на перчатки. – Будучи преступницей, приговоренной судом этой страны, ты утратила право на свободу. – Он складывает листок бумаги и прячет его за отворотом перчатки. – И нечего смотреть волком, слышишь? Люди в Корнсау добрые.
Эй, парень! Вот тебе улыбка. Хороша? Видишь, как раздвинулись мои губы? Видишь мои зубы?
Он проезжает вперед, и я вижу, что рубашка у него на спине мокрая от пота. Из всех возможных мест выбрали именно Корнсау – неужели нарочно?
Еще вчера, когда я была заточена в кладовой Стоура-Борга, Корнсау показался бы мне раем небесным. Места, где прошло мое детство, сочная зелень травы, торфяные кочки, по весне пропитанные талой водой… Сейчас, однако, я понимаю, что меня ждет унижение. Люди, которые живут в долине, узнают меня. Вспомнят меня такой, какой я была когда-то: дитя, девочка, молодая женщина, кочующая с хутора на хутор… потом подумают об убийстве – и та девочка, та женщина исчезнет из их памяти. Мне невыносимо больно озираться по сторонам. Я утыкаюсь взглядом в лошадиную гриву, гляжу на вшей, что кишат в жестких волосах, и не знаю, чьи они – кобылы или мои собственные.
Преподобный Тоути стоял, ссутулясь, в низком дверном проеме и щурился от розоватого света полночного солнца. На дальнем краю самого северного угодья Корнсау он различил силуэты приближающихся всадников. Тоути всматривался, пытаясь понять, есть ли среди них женщина. В золотом половодье травы все фигуры казались одинаково маленькими и черными.
Маргрьет переступила порог и остановилась за спиной у младшего проповедника.
– Надеюсь, хоть кого-нибудь оставят за ней присматривать, чтобы, упаси Бог, не перерезала нас во сне.
Тоути обернулся, взглянул на ее жесткое лицо. Маргрьет тоже щурилась, вглядываясь в далеких всадников, и лоб ее прорезали глубокие морщины. Седые волосы она заплела в две тугие косы, уложила венцом вокруг головы и надела свой лучший чепчик. И сменила засаленный фартук, в котором встречала Тоути нынешним вечером.
– Ваши дочери присоединятся к нам?
– Они с ног валятся от усталости. Я отправила обеих в постель. Не понимаю, с какой стати везти сюда эту злодейку посреди ночи!
– Думаю, для того чтобы не побеспокоить ваших соседей, – деликатно отозвался Тоути.
Маргрьет прикусила нижнюю губу, и щеки ее пошли красными пятнами.
– Не по душе мне жить под одним кровом с отродьем дьявола, – проговорила она, понизив голос до шепота. – Преподобный Тоути, мы должны во всеуслышание заявить, что не желаем держать эту женщину в нашем доме. Если уж ее не могут оставить в Стоура-Борге, так пускай перевезут на какой-нибудь остров.
– Всем нам надлежит исполнять свой долг, – пробормотал Тоути, наблюдая за тем, как цепочка всадников свернула на ближнее поле, которое примыкало к дому. Извлек из нагрудного кармана рожок с нюхательным табаком и выудил из него небольшую щепотку табаку. Аккуратно положив ее во впадинку у костяшки большого пальца левой руки, он наклонил голову и втянул ноздрями понюшку.
Маргрьет закашлялась и сплюнула./p>
– Даже если это означает, что нас среди ночи зарежут как свиней? Вы-то, преподобный Тоути, хотя бы мужчина, пускай совсем еще молодой, но зато слуга Божий. Вас она, я думаю, не решится тронуть… а как же мы с мужем? И наши дочери? Господи, да ведь мы теперь глаз не сможем сомкнуть!
– В вашем доме оставят офицера, – вполголоса заметил Тоути, всматриваясь в одинокого всадника, который легким галопом ехал к ним.
– Пускай только попробуют не оставить – я не поленюсь самолично доставить ее назад в Стоура-Борг!
С этими словами Маргрьет сцепила пальцы на животе и устремила взгляд на нескольких воронов, беззвучно летевших над горным хребтом Ватнсдальсфьядль. Издалека стая походила на облако пепла, невесомо кружащее в высоте.
– Преподобный Тоути, вы следуете старинным обычаям? – вдруг спросила Маргрьет.
Тоути обернулся к ней, помолчал, обдумывая ответ.
– Только если они благородны и не расходятся с устоями христианства.
– Знаете, как обычно называют стаю воронов?
Тоути покачал головой.
– «Сговор», преподобный. Сговор! – Маргрьет подняла брови, словно призывая его оспорить это утверждение.
Тоути смотрел, как вороны чинно рассаживаются вдоль по карнизу крыши хлева.
– Разве, госпожа Маргрьет? Мне казалось, что их называют «бессердечие».
Прежде чем Маргрьет успела найтись с ответом, всадник, который направлялся к ним, одолел ближнее поле.
– Comi i sl og blessu! – приветствовал он хозяйку хутора. – Будь счастлива и благословенна!
– Drottin blessi yur! Благослови тебя Господь! – в один голос отозвались Маргрьет и Тоути. Они дождались, покуда всадник спешится, и только тогда подошли к нему. По обычаю все трое обменялись краткими приветственными поцелуями. Вновь прибывший взмок от пота, и от него резко пахло лошадью.
– Она здесь, – проговорил он, переводя дух. – Сами увидите, как ее измотало путешествие. – Приезжий смолк, стянул с головы шляпу и провел ладонью по влажным от пота волосам. – Думаю, хлопот она вам не доставит.
Маргрьет фыркнула.
Приезжий холодно улыбнулся.
– Нам было велено задержаться здесь на ночь, чтобы об этом позаботиться. Мы встанем лагерем на ближнем поле.
Маргрьет мрачно кивнула.
– Как угодно, только траву не потопчите. Принести вам молока? Ячменя и воды?
– Да, спасибо, – ответил он. – Мы возместим вам хлопоты.
– Вот уж незачем. – Маргрьет поджала губы. – Следите только, чтобы эта дрянь не добралась до моих кухонных ножей.
Приезжий сдавленно хохотнул и двинулся вслед за Маргрьет в дом. Тоути успел ухватить его за руку.
– Заключенная пожелала, чтобы я побеседовал с ней. Где она?
Приезжий указал пальцем на лошадь, которая остановилась дальше всех от дома.
– Вон та баба с кислой рожей. Старшая. Другая служанка, та, что моложе, осталась в Мидхопе. Говорят, ждет ответа на прошение о помиловании.
– Помиловании? Я думал, что все трое уже обречены.
– Многие жители Ватнснеса надеются, что король помилует Сиггу. Слишком она молода и мила собой, чтобы умереть. – Приезжий скорчил гримасу. – Вон та – совсем другое дело. Когда на нее находит – просто бешеная.
– Она тоже ждет помилования?
Приезжий рассмеялся.
– Сомневаюсь я, что дождется. Блёндаль благоволит младшей. Вроде бы она напоминает ему жену. Что до этой… Блёндаль намерен всем показать, что с правосудием шутки плохи.
Тоути не сводил взгляда со всадников, собравшихся на краю ближнего поля. Прибывшие уже спешились и теперь возились с седельными вьюками. И только одна фигура все так же неподвижно маячила в седле.
– Каково ее полное имя? Как мне следует обращаться к…
– Просто Агнес, – перебил приезжий. – Она откликается на «Агнес».
Мы прибыли в Корнсау. Люди из Стоура-Борга спешиваются неподалеку от покосившего усадебного дома. Перед домом стоят двое, мужчина и женщина, и всадник, который объявлял о лишении меня прав, подходит к ним. Женщина возвращается в дом, кашляя и плюясь, точно старая овца, но мужчина остается поговорить с офицером из Стоура-Борга.
Слева от меня слышен смех – двое офицеров мочатся на землю. Я чую в теплом воздухе запах мочи. Как обычно, никто не заметил, что я за весь день не съела ни крошки, не выпила ни глотка воды; губы мои пересохли и растрескались, как хворост. Я ощущаю себя так же, как в голодном детстве, – словно кости мои разрастаются внутри иссохшей от голода плоти и вот-вот вылезут наружу. У меня прекратились крови. Я больше не женщина.
Один из мужчин направляется ко мне, быстрыми широкими шагами преодолевая ближнее поле. Не смотри на него.
– Здравствуй, Агнес. Я… я – преподобный Торвардур Йоунссон. Младший проповедник из Брейдабоул-стадура в Вестурхоупе. – Он говорит, задыхаясь.
Не поднимай глаз. Это он. Это его голос.
Он покашливает, затем подается ко мне, словно для традиционного приветственного поцелуя, но тут же замирает, отступает на шаг, едва не запнувшись о травяную кочку. Наверняка ему ударила в нос вонь мочи, засохшей на моих чулках.
– Ты хотела встретиться со мной? – В голосе его звучит неуверенность.
Я поднимаю глаза.
Он не узнал меня. Даже не знаю, радоваться этому или огорчаться. Волосы у него такие же рыжие, пламенно-рыжие, как полуночное солнце. Словно его шевелюра впитала солнечный свет, как моток шерсти впитывает краску. Вот только лицо у него стало старше. Осунулось.
– Ты хотела встретиться со мной? – повторяет он.
Я смотрю ему прямо в глаза – и он отводит взгляд, нервно смахивает с верхней губы капельку пота, оставив на коже россыпь темных крошек. Нюхательный табак? Ему неуютно и хочется уйти.
Язык распух во рту и не в силах шевелиться, не в силах складывать слова. Да и что я могу сказать ему сейчас, когда все обернулось вот таким образом? Я сдираю струпья на запястьях, натертых кандалами, и в ранах вскипает кровь. Он замечает это.
– Что ж, я должен… я рад был познакомиться с тобой, но… сейчас уже поздно. Ты, наверное… словом, я еще загляну к тебе. Вскорости.
Он неловко кланяется, разворачивается и идет прочь, спотыкаясь в спешке. Он уходит прежде, чем я успеваю сказать, что все понимаю. Размазывая по руке свежую кровь, я смотрю, как он торопливо и неуклюже шагает к своей лошади.
Теперь я одна. Я наблюдаю за воронами и слушаю, как кони хрустят ячменем.
Когда люди из Стоура-Борга поели и разбрелись по палаткам спать, Маргрьет собрала грязные деревянные миски и вернулась в дом. Она расправила одеяла, которыми были укрыты спящие дочери, и медленно прошлась по тесной комнатушке, то и дело наклоняясь, чтобы подобрать клочья сухой травы, осыпавшиеся с дерна, которым были заделаны просветы между балками. Пыль, наполнявшая комнату, приводила ее в отчаяние. Раньше стены здесь были обшиты норвежским деревом, но потом Йоун снял деревянную обшивку, чтобы расплатиться за долги с одним хуторянином, живущим на другом конце долины. Теперь с голых дерновых стен летом обильно сыпалась на постель сухая трава и торфяная пыль, а зимой стены плесневели, источая сырость, которая сочилась на шерстяные одеяла и проникала в легкие хозяев и домочадцев. Дом неотвратимо разрушался, превращался в ветхую лачугу, и эта ветхость неизбежно сказывалась на жизни обитателей. В минувшем году двое слуг захворали и умерли от этой сырости.
Маргрьет, вспомнив о собственном кашле, машинально поднесла ладонь ко рту. С того самого дня, как их дом посетил сислуманн, ее больные легкие давали о себе знать с пугающей частотой. Каждое утро она просыпалась с тяжестью в груди. Маргрьет не знала, что тому причиной – страх перед скорым прибытием убийцы или скопившаяся за ночь мокрота, но эти приступы невольно наводили на мысль о смерти. Все рушится, подумала она. За что ни возьмись – все движется к гибели.
Один из офицеров ушел за Агнес, которую так и оставили привязанной к седлу. Маргрьет успела увидеть ее лишь издалека, мельком, когда покинула полумрак дома, чтобы отнести приезжим ужин, – смазанное синее пятно, краешек юбки, свисавший бока лошади. Теперь ее сердце тяжело и глухо стучало. Скоро, очень скоро убийца окажется перед ней. Маргрьет взглянет в лицо этой женщины, неизбежно ощутит вблизи тепло ее дыхания. Что ей надлежит сделать? Как повести себя в присутствии преступницы?
«Если б только здесь был Йоун, – с тоской подумала Маргрьет. – Он бы растолковал мне, что следует ей сказать. Только мужчина, настоящий мужчина знает, как управиться с женщиной, которая натворила столько бед».
Маргрьет присела, рассеянно перебирая в пальцах стебельки сухой травы. Почти четыре десятка лет на четырех разных хуторах она успешно управлялась со всеми слугами и работниками, которые трудились в хозяйстве ее мужа, – и все же сейчас словно оцепенела, мучаясь неуверенностью и тревогой. Та женщина – как ее? – Агнес? – не служанка, не гостья, не нищенка в поисках милостыни. Она недостойна милосердия… но ведь ее приговорили к смерти. Маргрьет содрогнулась. Ее тень в зыбком свете лампы то и дело пускалась в причудливый пляс.
От входной двери донеслись глухие шаги. Маргрьет стремительно встала, разжала стиснутые кулаки, разроняв собранную траву. Из полутьмы коридора гулко раскатился низкий голос офицера:
– Госпожа Маргрьет из Корнсау! Я привел заключенную. Можно нам войти?
Маргрьет сделала глубокий вдох и выпрямилась.
– Ступайте сюда, – повелительно бросила она.
Офицер вошел в бадстову первым, широко улыбаясь Маргрьет, которая смущенно застыла посреди комнаты, вцепившись обеими руками в фартук. Краем глаза она глянула туда, где мирно спали дочери, и ощутила, как бьется в горле жилка, наполненная кровью.
Секунду царило молчание – офицер моргал, привыкая к неяркому свету лампы. Затем он рывком втащил в комнату свою спутницу.
Маргрьет не ожидала, что убийца окажется настолько жалкой и грязной. Платье на ней было, какие обычно носят служанки, – простое, из грубой шерсти, но до того перепачкано и покрыто заскорузлой грязью, что его изначальный синий цвет едва удавалось различить на засаленных почти до черноты горловине и рукавах. Выцветшие синие чулки промокли насквозь и сползли до лодыжек; один чулок порвался, и в прорехе просвечивала бледная кожа. Башмаки, судя по всему, из тюленьей кожи, явно лопнули по швам, но под слоем грязи было не разобрать, в какой мере они изорваны. Голова узницы была непокрыта, спутанные сальные волосы кое-как заплетены в две черные косы, откинутые за спину, несколько выбившихся прядей прилипли к шее. Маргрьет подумалось, что вид у женщины такой, точно ее волокли из Стоура-Борга пешком. Лица видно не было; она упорно глядела в пол.
– Посмотри на меня.
Агнес медленно подняла голову. Маргрьет невольно содрогнулась при виде засохшей на губах крови, грязных разводов, которые оставила на лице дорожная пыль. На подбородке, захватывая и часть шеи, желтел большой застарелый синяк. Агнес, оторвав взгляд от пола, быстро, исподлобья глянула на Маргрьет, и той стало не по себе от пронзительной синевы этих глаз, так ярко сверкавших на покрытом грязью лице.
Маргрьет повернулась к офицеру:
– Эту женщину избивали.
Офицер вглядывался в лицо Маргрьет, явно ожидая увидеть в нем злорадство, но, обманутый в своих ожиданиях, опустил глаза.
– Где ее вещи?
– Только то, что на ней надето, – ответил он. – Остальное забрали чиновники, чтобы покрыть расходы на пропитание.
Прилив гнева придал Маргрьет сил, и она выразительно ткнула пальцем в кандалы, которые стягивали запястья женщины.
– Так ли нужно держать ее в путах, как овцу, приготовленную на убой? – осведомилась она.
Офицер пожал плечами и выудил ключ. С привычной ловкостью он избавил Агнес от наручников. Ее руки бессильно, как плети, упали вдоль тела.
– Теперь ступайте, – сказала Маргрьет офицеру. – Можете прислать кого-нибудь, когда я соберусь спать, но сейчас я хотела бы побыть с ней наедине.
Глаза офицера округлились.
– Вы уверены? – осторожно спросил он. – Мало ли что может случиться.
– Я уже сказала: ваша помощь понадобится, когда я пойду спать. Можешь подождать за дверью, коли охота, в случае чего я позову.
Офицер поколебался, но все же кивнул и, отсалютовав, вышел. Маргрьет повернулась к Агнес, которая так и стояла, не шелохнувшись, посреди комнаты:
– Ступай за мной.
Маргрьет вовсе не хотелось прикасаться к женщине, но в доме было так темно, что пришлось ухватить Агнес за руку, чтобы отвести в нужную комнату. И ощутить под пальцами костлявое исхудавшее запястье, липкие следы крови. От женщины крепко несло застоявшейся мочой.
– Сюда. – Маргрьет, медленно ступая, прошла в кухню, наклонив голову, чтобы не задеть низкую притолоку.
В кухонном очаге, обложенном камнями, краснели угли, в торфяной, укрепленной соломой крыше зияло небольшое отверстие дымника. Сочившийся сквозь него розоватый сумеречный свет падал на земляной пол, пронизывая клубы расползавшегося повсюду дыма. Маргрьет ввела Агнес в кухню, развернулась и взглянула ей в лицо.
– Снимай одежду. Чтобы спать под моими одеялами, тебе нужно как следует вымыться. Нечего притаскивать в этот дом новых вшей, здесь и старых хватает.
Лицо Агнес не выразило никаких чувств.
– Где вода? – прохрипела она.
Маргрьет на миг замялась, затем повернулась к большому котлу, который стоял на углях. Запустив руку в котел, она выудила замоченную на ночь посуду и с усилием отставила ее на пол.
– Вот тебе вода, – сказала она, – и притом теплая. А теперь поторапливайся, время уже за полночь.
Агнес поглядела на котел – и вдруг рухнула на пол. Маргрьет вначале почудилось, что женщина лишилась чувств, но тут же она поняла, что ошиблась. И смотрела, как Агнес, перегнувшись над краем котла, черпает горстями жирную воду, пьет, захлебываясь от жадности, точно скот у поилки. Вода текла струями по ее шее и подбородку, впитывалась в заскорузлые от грязи складки платья. Недолго думая Маргрьет нагнулась и оттолкнула голову Агнес от котла.
Женщина упала на локти и вскрикнула, захлебываясь непроглоченной водой. От этого звука у Маргрьет сжалось сердце. Глаза Агнес были полуприкрыты, губы так и не сомкнулись. Она напоминала того, кто лишился рассудка от пьянства, от встречи с привидением или от горя, когда в семье один за другим умерли близкие.
Женщина заскулила, провела тыльной стороной ладони по рту, затем по платью. И, с усилием оторвавшись от пола, попыталась встать.
– Я хочу пить.
Маргрьет кивнула, чувствуя, как неистово колотится в груди сердце. И с трудом сглотнула.
– В другой раз, – сказала она, – ты хоть кружку попроси.
Когда преподобный Тоути вернулся в усадьбу своего отца у брейдабоулстадурской церкви, он весь взмок от пота. Из Корнсау он скакал что есть духу, молотя пятками по бокам лошади, и ветер хлестал его по лицу, да так, что щеки горели от прилившей крови.
Перейдя на шаг, Тоути направил взмыленную лошадку к столбику недалеко от входа в усадьбу. Спешился, опустив на землю дрогнувшие в коленях ноги. Усилившийся ветер прохватывал плотную одежду насквозь, и Тоути, мокрого как мышь, пробрал ледяной озноб. Он изо всей силы стиснул зубы. Когда он наматывал поводья на столбик, руки у него мелко тряслись.
Ветром принесло с моря тяжелые тучи, и сейчас неотвратимо смеркалось, хотя с летнего солнцестояния времени прошло всего ничего. Тоути поднял отсыревший воротник, надвинул шляпу поглубже. И, похлопав лошадь по крупу, двинулся по пологому подъему к церкви. Тоути ощущал себя мокрой ветошью, которую выжали досуха и бросили бесформенным комком валяться на земле. Эти северные дни, насквозь пропитанные неотвязным светом, эти вечные светлые сумерки изрядно донимали его. Он не в состоянии был определить время суток – не то что на юге, где проходила его учеба.
Начался дождь, и порывы ветра усилились. Ветер хлестал по высокой траве, то прижимая стебли к земле, то позволяя вновь выпрямиться. В темнеющих сумерках трава казалась серебристой.
Тоути широко шагал вверх по холму, разминая затекшее от езды тело, и размышлял о своей встрече с женщиной. Той женщиной. Убийцей. Агнес.
Первым делом он заметил, как широко она, привязанная к седлу, растопырила ноги, чтобы не скользить по крупу коня. Затем почуял, как от нее пахнет – едкая острая вонь немытого тела, заношенной одежды и обильного пота, засохшей крови… и еще какой-то запах, рожденный между этих широко расставленных ног. Присущий только женщинам. При мысли о нем Тоути залился краской.
Однако же отвращение вызвала в нем вовсе не эта вонь. Просто женщина походила на вырытый из могилы труп. Всклоченные черные волосы, похожие на сальные веревки, и бурые точки забитых грязью пор на коже. Как у прокаженного.
При виде ее Тоути испытал жгучее желание развернуться и броситься наутек. Отпраздновать труса.
Согнувшись под натиском дождя и ветра, Тоути мысленно порицал себя. Что же ты за мужчина, если готов обратиться в бегство при виде изуродованной плоти? Каким же ты станешь священником, если не в силах вынести вида страданий?
Более всего смутил его душу явственный синяк на подбородке женщины. Насыщенно-желтый, словно засохший яичный желток. Тоути гадал, что могло оставить на ее лице этот след. Грубая мужская рука, ухватившая женщину за горло? Веревка, которой ее привязали к кандалам? Простое падение?
Мало ли обо что человек может стукнуться! Тоути дошел до церкви и принялся отпирать ворота.
Может, то была простая случайность. Может, женщина ушиблась сама.
Преподобный торопливо прошагал по мощеной дорожке к церкви, стараясь не смотреть на утонувшие в сумраке могилы, на деревянные кресты. Достав из кармана грубо скованный ключ, вошел в церковь. И вздохнул с облегчением, заперев за собой дощатую дверь и отгородившись от глухих завываний ветра. Здесь, внутри, царила безупречная тишина. Ее нарушал только тихий постук дождя в единственное окно церкви – отверстие, затянутое рыбьей кожей.
Тоути стянул с головы шляпу и провел рукой по волосам. Поскрипывая половицами, подошел к кафедре. С минуту он стоял неподвижно и разглядывал, щурясь, алтарную картину. Тайная вечеря.
Фреска была уродлива – громадный стол, во главе его приземистый Иисус. Иуда, затаившийся в тени, выглядел комично и смахивал на тролля. Фреску написал сын одного местного купца, который был женат на датчанке и обладал значительными связями в правительстве. После одной воскресной службы Тоути подслушал разговор купца с преподобным Йоуном: купец сетовал на то, что с предыдущей фрески, дескать, осыпается краска. И упомянул своего сына, чей художественный дар обеспечил ему стипендию в Копенгагене. Если преподобный Йоун дозволит ему, купцу, выразить свою исключительную преданность приходу, он с радостью закупит все необходимые материалы и оплатит работу сына, не ввергая в расходы церковь. Само собой, отец Тоути, будучи склонным к бережливости, дал согласие на то, чтобы поверх старой фрески написали новую.
Тоути сожалел о гибели прежней картины. То была великолепная иллюстрация к сюжету из Ветхого Завета – Иаков, борющийся с ангелом. Мужчина уткнулся лицом в плечо противника, и в кулаке его был зажат пучок ангельских перьев.
Тоути вздохнул и медленно опустился на колени. Положив шляпу на пол, он прижал сомкнутые ладони к груди и начал молиться вслух:
– Отец Небесный, прости мне мои грехи. Прости мне мою слабость и страх. Помоги мне побороть трусость. Укрепи мои силы выдержать вид страдания, дабы мог я исполнить волю Твою и принести облегчение страждущим.
Господи, я молю за душу этой женщины, которая совершила ужасный грех. Пошли мне слова, дабы я мог склонить ее к раскаянию.
Я признаюсь в страхе своем. Я не знаю, что ей сказать. Я не чувствую уверенности, о Господи. Молю – охрани мое сердце от… ужаса, который пробуждает во мне эта женщина.
Тоути долго не поднимался с колен. Только мысль о лошадке, которая так и осталась, оседланная, стоять под дождем и ветром, в конце концов побудила его встать и выйти, заперев за собой церковную дверь.
На следующий день Маргрьет проснулась рано. Офицер, улегшийся спать в кровати напротив, чтобы охранять ее от убийцы, громко храпел. Клокочущий звук ворвался в сон Маргрьет и разбудил ее.
Она повернулась лицом к стене, заткнула уши уголками одеяла, но надсадный храп все равно проникал в голову. Сон ушел бесследно. Маргрьет легла на спину и в темноте комнаты вглядывалась в спящего напротив офицера. Его жесткие светлые волосы торчали сальными клоками, над подушкой виднелся приоткрытый рот. Маргрьет заметила, что его подбородок усыпан прыщами.
«Так-то они защищают меня от убийцы, – мрачно подумала она. – Посылают на это дело прыщавого мальчишку, который дрыхнет без задних ног».
Маргрьет бросила взгляд в дальний конец комнаты, где стояли кровати для слуг – одну из них отвели той самой убийце. Женщина лежала смирно и, судя по всему, спала. Крепко спали и дочери Маргрьет. Она приподнялась на локтях, чтобы присмотреться как следует.
Агнес.
Маргрьет мысленно повторила это слово.
Неправильно это, подумалось ей, называть эту женщину христианским именем. Интересно, как звали ее в Стоура-Борге? Заключенная? Осужденная? Приговоренная? Или же вовсе никак не называли, обращались к ней, оставляя на месте имени зияющую пустоту?
Маргрьет содрогнулась, натянула одеяло повыше. Глаза Агнес были закрыты, губы плотно сомкнуты. Чепчик, который дала ей Маргрьет, за ночь развязался, и черные волосы женщины выбились на волю. Сейчас они распластались на подушке, словно чернильное пятно.
Было так странно наконец увидеть эту женщину вживе после целого месяца ожидания. Ожидания и страха. Тугого, как натянутая леска, подцепившая в глубине нечто, которое неизбежно придется вытащить на поверхность.
Какой должна быть женщина, способная убивать?
До сих пор Маргрьет знала только одну разновидность женщин-убийц – то были героини саг, но даже они несли смерть с помощью слов – отдавали слугам приказания расправиться с любовником или отомстить за гибель родичей. Эти женщины убивали на расстоянии, и руки их при этом оставались чисты.
Однако же, думалось Маргрьет, времена саг давно миновали. Эта женщина – вовсе не героиня саги, но безземельная работница, взращенная на похлебке из мха и нищеты.
Снова улегшись на кровать, Маргрьет припомнила Хьёрдис, свою любимую служанку. Теперь она мертва, похоронена на церковном дворе в Ундирфедлье. Маргрьет попыталась представить Хьёрдис убийцей. Попыталась вообразить, как Хьёрдис вонзает нож в нее, спящую – именно так были убиты Натан Кетильссон и Пьетур Йоунссон. Тонкие пальцы, крепко обхватившие рукоять ножа, бесшумно крадущиеся шаги в ночи.
Нет, это немыслимо.
Лауга допытывалась мнения Маргрьет – не окажется ли у этой женщины какой-нибудь приметы, которая безошибочно указывает на склонность к смертоубийству? Отметина дьявола: заячья губа, торчащий зуб, родинка диковинной формы – словом, некий мелкий порок. Должно же быть в ее внешности нечто, предостерегающее добрых людей держаться от нее подальше. Маргрьет категорически отвергла это измышление, объявив его чистой воды суеверием, но Лаугу ее слова не особенно убедили.
Сама Маргрьет гадала, окажется ли эта женщина красива. Ей, как и всем жителям северных земель, было хорошо известно, что Натан Кетильссон славился своим умением находить в подруги настоящих красавиц. Люди втайне считали его колдуном.
Ингибьёрг, соседка Маргрьет, считала, что именно Агнес послужила причиной разрыва между Натаном и Роусой-Поэтессой. Обе женщины задавались вопросом – означает ли это, что служанка красивее Роусы? Красивую женщину, подумала Маргрьет, не так уж трудно представить убийцей. Как говорится в сагах, opt er fag i fgru skinni – «нередко за красивой личиной кроется нечисть»[8].
Однако эта женщина оказалась ни уродлива, ни красива. Ее облик скорее поражал – но не в том смысле, что заставлял пылких юнцов пожирать ее голодным взглядом. Она была необыкновенно хрупкого сложения, как сказали бы южане, сущая аульва[9], – и притом вполне заурядного роста. Минувшей ночью в кухне Маргьет решила, что лицо у этой Агнес вытянутое, отметила высокие скулы и прямой нос. Кожа – если не считать синяков и кровоподтеков – была довольно светлая и казалась еще белее на фоне темных волос. Необычных. В здешних краях, подумалось Маргрьет, женщина с такими волосами – настоящая редкость. Такие длинные, такого темного смоляного оттенка, что кажутся почти черными.
Маргрьет подтянула одеяло к подбородку, вслушиваясь в неумолчный храп офицера. Точно лавина рокочет, с неудовольствием подумала она. Усталость навалилась на нее, грудь распирало от скопившейся за ночь мокроты.
Под сомкнутыми веками Маргрьет замелькали образы. Вот Агнес с животной жадностью пьет воду из котла. Вот безуспешно теребит тесемки платья – пальцы распухли и не желают ее слушаться. Маргрьет вынуждена была прийти на помощь, кончиками пальцев соскребла с платья присохшую грязь – иначе тесемки было бы не развязать. В тесной, пропахшей дымом кухне смрад от одежды и тела Агнес оказался так силен, что Маргрьет едва не вывернуло. Она задержала дыхание, стягивая с Агнес вонючую ткань, и отвернулась прочь, когда платье сползло с худых плеч и упало на пол, роняя хлопья сухой пыли.
Маргрьет припомнились лопатки Агнес. Острые, как ножи, они распирали грубое полотно нижней сорочки – с пожелтевшим вырезом и грязными бурыми пятнами в подмышках.
Надо будет перед завтраком сжечь всю ее старую одежду. Прошлой ночью Маргрьет свалила ее в углу кухни, не желая тащить это тряпье в бадстову – оно так и кишело блохами.
Каким-то чудом ей удалось почти отмыть Агнес. Вначале та пыталась мыться сама, вяло водила мокрой тряпкой по рукам и груди, но грязь так заскорузла от времени, что, казалось, приросла к коже. Наконец Маргрьет, закатав рукава и стиснув зубы, выхватила у нее тряпку и принялась скрести до тех пор, пока ткань насквозь не пропиталась грязью. Обмывая Агнес, она поймала себя на том, что помимо воли ищет пороки, в существовании которых была так уверена Лауга: приметы убийцы. Такой приметой можно было счесть разве что глаза женщины. Маргрьет подумалось, что они слишком уж необычные. Ярко-голубые, чистые, но чересчур светлые, чтобы их можно было признать красивыми.
Тело женщины носило следы бесчисленных издевательств. Даже Маргрьет, привыкшей к ранам и увечьям, неизбежным следствиям тяжелого труда и несчастных случаев, – даже ей сделалось не по себе.
Быть может, она переусердствовала, отскребая грязь с кожи Агнесс, – размышляла Маргрьет, засунув голову под подушку в безуспешной попытке укрыться от раскатистого храпа. Ссадины кое-где открылись и начали кровоточить. Вид свежей крови доставил Маргрьет некое тайное удовлетворение.
Она заставила Агнес вымыть заодно и голову. Вода в котле стала уже слишком грязной, а потому Маргрьет послала одного из офицеров с ведрами к горному ручью. Пока они ждали его возвращения, Маргрьет обработала раны Агнес мазью из серы с топленым свиным жиром.
– Ее изготовил собственноручно Натан Кетильссон, – заметила она и быстро глянула на Агнес, желая увидеть ее реакцию. Та ничего не сказала, но Маргрьет почудилось, что жилы на шее женщины напряглись. – Упокой Господи его душу, – пробормотала Маргрьет.
Отмыв волосы Агнес, насколько позволяла ледяная вода, и покрыв кровоточащие ссадины слоем топленого жира, Маргрьет выдала ей нижнее белье и постельные принадлежности Хьёрдис. Сорочка, в которой сейчас спала Агнес, была на Хьёрдис, когда та скончалась. Если на сорочке и остались следы заразы, то это, подозревала Маргрьет, не так уж важно. Все равно ее новая владелица долго не проживет.
До чего же странно думать о том, что женщина, которая спит на кровати шагах в десяти от нее, очень скоро сойдет в могилу.
Маргрьет вздохнула и опять села на кровати. Агнес не шелохнулась. Офицер все так же храпел. Маргрьет заметила, как он во сне запустил руку в пах и шумно почесался. Она отвела глаза, усмехаясь и злясь, что вот этот человек – ее единственная защита и опора.
Можно бы уже встать и приготовить офицерам из Стоура-Борга завтрак, подумала она. Скир, быть может… или сушеную рыбу. Маргрьет прикинула, хватит ли ей масла и когда слуги с покупками вернутся из Рейкьявика.
Снимая чепчик, она напоследок глянула на спящую женщину.
Сердце Маргрьет едва не выпрыгнуло из груди. Агнес лежала на боку и из темного угла бадстовы невозмутимо наблюдала за ней.
Глава 3
О преступлении известно следующее: Фридрик Сигюрдссон при пособничестве Агнес Магнусдоттир и Сигридур Гвюндмюндсдоттир проник около полуночи в дом Натана Кетильссона и нанес Натану, а также Пьетуру Йоунссону, его гостю, смертельные удары ножом и молотком. Затем, желая избавиться от окровавленных трупов, они подожгли хутор, дабы скрыть в огне следы своего преступления. Фридрик совершил сие злое дело из ненависти к Натану, а также из желания его ограбить. В конце концов убийство стало достоянием гласности. У сислуманна возникли подозрения, и, когда были обнаружены два обгорелых трупа, он уверился, что эти трое действовали в преступном сговоре.
Из книги слушаний Верховного суда за 1829 год
В КЛАДОВОЙ СТОУРА-БОРГА Я НЕ ВИДЕЛА СНОВ. Когда я сворачивалась клубком на струганых досках и укрывалась, силясь согреться, заплесневелой лошадиной шкурой, сон подступал ко мне, точно волна на мелководье. Он плескался вокруг меня, но ни разу не накрывал с головой. Погружая в забытье. Всякий раз что-нибудь будило меня: звук шагов или плеск ночного горшка, который пришла опорожнить служанка, муторный смрад мочи. Порой, если я лежала неподвижно, зажмурив глаза и старательно отгоняя любые мысли, сон ручейками возвращался в мое бытие. Разум мой то погружался в беспамятство, то вновь пробуждался, и так длилось до тех пор, пока в кладовую не проникал на долю секунды клочок света и грубая рука служанки не совала мне кусок сушеной рыбы. Порой мне думается, что с той самой ночи, когда сгорел хутор, я ни разу не спала по-настоящему и что эта бессонница, быть может, и есть возмездие, посланное Богом. Или даже Блёндалем: сны отобрали у меня со всем прочим имуществом, чтобы возместить расходы на мое содержание под стражей.
И однако же прошлой ночью, здесь, в Корнсау, мне приснился Натан. Он варил травяное питье, а я наблюдала за ним, водя руками по дерновой стене кузницы. Стояло лето, и свет, сеявшийся с неба, отливал розовым. Травы, отобранные для отвара, источали сильный аромат, и он окружал меня облаком. Я вдыхала горьковато-сладкий запах, чувствуя, как поднимается волна счастья и постепенно захлестывает меня. Наконец-то я покинула долину! Натан обернулся ко мне и улыбнулся. В руках он держал стеклянный мерный стакан с накипью, которую собирал с поверхности варева; над стаканом курился пар. В черных шерстяных чулках, с поднимавшейся из ладони струйкой пара Натан походил на колдуна. Он переступил через пятно солнечного света на полу, и я открыла ему объятья, смеясь, изнемогая от любви… но тут стакан выскользнул из его руки и разбился об пол, и в комнату маслянисто-черной струей хлынула тьма.