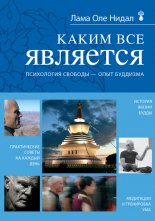Загадочная Коко Шанель Эдрих Марсель

«Все это в изнуряющей жаре. А в комнатах ледяной холод. С их кондиционерами я тут же схватила насморк. Все это так хорошо устроено, что ничего невозможно выключить. У меня было пять телевизоров. Я пользовалась тем, что в ванной комнате. Постоянно переходят от фильма к рекламе, и ты никогда не знаешь, что на экране — фильм или реклама, так они похожи друг на друга. Все это перемешивается, это отвратительно».
Ей хотелось встретиться с «добряком, читающим Библию», Билли Грэмом[270], имя которого стоит вслед за президентом Никсоном[271] в списке самых известных американцев. Один из директоров «Шанель и К°» пытался повести ее послушать Грэма. Но тщетно, все вокруг было блокировано, рассказывала Коко, на которую это произвело большое впечатление. Она говорила:
«Он очень умный. Он понимает свое время, живет в нем и заставляет людей понять его. Он говорит им: посмотрите на меня, я улыбаюсь, у меня прекрасные зубы, я привел их в порядок, чтобы у меня была красивая улыбка, потому что ничему нельзя научить людей, если ты безобразен. По той же причине он играет в гольф: посмотрите, я современен и если говорю вам о Библии, это вовсе не значит, что я старик».
Она посмотрела на меня: «Почему вы смеетесь?». По поводу путешествия в Даллас вздохнула: «Меня больше не возьмут на роль звезды».
Одиночество Коко
Она, за очень редким исключением, не любила своих манекенщиц. Что находила она для себя в ежедневной конфронтации с ними? Еще одну причину быть одной.
Она говорила:
«Манекенщицы подобны часам. Часы показывают время. Манекенщица должна показать платье, которое на нее надевают».
Было любопытно наблюдать, когда она была со своими девушками, и слушать, как она говорит о них, потому что в них узнавала себя двадцатилетнюю.
«Они красивы, — бормотала Коко, — поэтому они и могут заниматься этим ремеслом; если бы они были умны, то уже не занимались бы им».
Ее жизнь, ее выбор в этих двух фразах. Иногда она их презирала:
«Они алчны, — ворчала она, — думают только о деньгах, вы им нужны, как прошлогодний снег». Иногда она позволяла себе умиляться:
«Я все же думаю, что они немного восхищаются мной, это мило с их стороны. Они хотят получить мои старые костюмы. Чем больше они поношены, кажется, тем больше им хочется их иметь. Это льстит им. Мари-Элен просила меня раз десять: «Вы не продадите этот костюм, Мадемуазель, мне так хочется носить его». И десять раз я должна была ответить: «Я не могу отдать его тебе, Мари-Элен, у меня нет другого».
В течение нескольких лет (в конце 50-х — начале 60-х годов) ее манекенщицы вербовались среди титулованных особ. Она всех их звала на «ты»: Мими, графиню д'Арканг, принцесс, светлейших княжен, как Одиль де Круа. Она говорила:
«Они скучали. У их матерей и бабок было другое занятие: любовь. Мужчины их круга не работали. Они всегда имели время для любви, как герои Анри Бернстайна[272]. Кому можно внушить сейчас столь поглощающую страсть? И эти бедные девушки звонят друг другу, чтобы болтать о глупостях: а что если мы поступим к Шанель? Там встретишься с подружками и заодно оденешься».
И Коко добавляет:
«Они приходят посмотреть коллекцию и остаются работать, а любви так и не находят».
Любовь… любви так и не находят. Надо было слышать, как она говорила это, она, которая отказывалась от любовных свиданий из-за своего Дома.
Ее интересовали любовные похождения ее девушек, хоть она и притворялась раздраженной. Одна прекрасная испанка увязла в сложном романе с женатым (это еще куда ни шло) и не имеющим состояния (ну и ну! она сумасшедшая!) человеком.
— Что ты будешь делать, если он бросит тебя, идиотка?
— Уйду в монастырь, Мадемуазель!
В монастырь, в двадцать лет, когда ты красива… В Мулене ей ничего подобного не приходило в голову. Глядя на манекенщиц она вновь проживала Мулен и Компьен. Эти девушки обладали теми же козырями, что и она в ту пору. Но они плохо ими распоряжались. Никак их не использовали. Идиотки, они желали счастья, они любили, хотели быть любимыми. Что-то сокровенное в Коко протестовало против этого. Не безумие ли — предпочесть счастье деньгам? Прошу прощения: не деньгам — независимости! Оставаться бедной, пленницей, рабой счастья, когда обладаешь капиталом, который надо заставить приносить плоды: красотой! Счастье или монастырь — какая путаница. «Возьмите богатого любовника», — говорила она своим манекенщицам, не слишком настаивая; она не всех их любила. Толкая их на путь, какой сама выбрала, она оправдывала себя. Все красивые девушки делали, делают или сделают то, что сделала я. И тут же открещивалась от этих красивых девушек. Нет, я сделала другое, сделала лучше, никому из них не удастся то, что удалось мне. Значит… Значит, она, Коко, не сделала того, к чему побуждала своих манекенщиц. Бедные, они не умели ничего другого, в лучшем случае продать себя с аукциона, за деньги. Она говорила:
«У женщин нет честолюбия. Они хотят иметь деньги. Это не одно и то же! Честолюбие — научиться чему-нибудь… Это их не интересует, за исключением американок, которые все время спрашивают:
— Что вы думаете об этом художнике?
— Ничего!
— Скажите, он вам нравится?
— Мне на него наплевать!
— Каких писателей вы любите?
Скучища! Надоело! И так постоянно с американками, они хотят все знать. Это утомительно, но трогательно. Поэтому им еще случается выходить замуж за европейцев, которым нравится просвещать их. Но все реже и реже. Французы становятся подобны американцам, они интересуются только своими костюмами, ходят только туда, где их увидят. Таково время. Почему женщины мирятся со всем этим?
— Мы живем, как приятели, — сказала мне одна девушка.
— И тебе этого достаточно — провести жизнь с приятелем?
Какое печальное существование! Это конец многих вещей.
Женщины получают пощечины и смиряются с ними. Я бы ревела, как корова, если бы со мной говорили, как сегодня молодые люди говорят с девушками.
И всегда начинают женщины! Зачем бегать за мужчинами? Почему не подождать, пока они придут сами? Женщины становятся безумными. Они хотят быть мужчинами. Мужчины живут за их счет. Женщины работают, платят! Можно умереть со смеху. Женщины превращаются в монстров. Какие ничтожные мужчины! Женщины — жертвы. И они жалуются… Беснуются, стучат каблуками и хлопают дверью. Они не знают, что такое быть любимой. Живут с мужчинами, которых больше занимают складки на брюках, чем их подруги. Я бы не позволила таким мужчинам чистить мне туфли. Они даже не способны на глупости ради женщины.
Женщины идут навстречу своему несчастью. Работать, много работать, все время бежать, не рожать детей, чтобы преуспеть в жизни, несутся вскачь за деньгами, уверяя, что все делают лучше мужчин… Скоро от них потребуют делать решительно все, потому что они выносливее мужчин. Китайцы это хорошо знают. И русские. Вы видели? (Мы только что узнали, что космонавтка находилась на орбите.) Они запустили наверх женщину, эти русские! Женщина перенесет все. Вообразите мужчину, рожающего ребенка! Он уже никогда не оправится после этого. Мужчина пропадает, если у него насморк».
Сознавала ли она, что во многом ответственна за то, как изменилось положение женщины? Нисколько. Ее случай казался ей уникальным. Но на что могли надеяться эти несчастные?
«Знаете ли вы женщин, которые не гонялись бы за заработком?»
Это было время, когда в моде были острые каблуки. Их постукивание отдавалось у нее в голове.
«Они возвращаются домой измученные, и им надо приготовить обед, и эти идиотки считают, что они счастливее своих матерей».
И заключение:
«Сегодня пчелиная матка — мужчина».
Ей случалось, как каждому человеку, спросить себя: правильно ли я поступила, выбрав независимость? Дом Шанель? Хорошо ли я сделала, не став женщиной? Так как знала, что она не настоящая женщина и никогда ею не была.
Никогда она не заканчивала демонстрацию коллекции подвенечным платьем. Может быть, потому, что это было принято у других модельеров, а она отказывалась подражать им. Но скорее, потому, что ставила брак вне закона.
Она вышла замуж за свой Дом, который иногда казался ей пустым, особенно к концу жизни, когда она погружалась в одиночество, произнося монологи для метрдотеля, менявшего тарелки, к которым не прикасалась. У нее вырывался вздох:
«Жизнь вдвоем — это все же совсем другое дело. Как это страшно, быть одной!»
Чтобы убедить себя, что она не ошиблась в своем выборе, Коко неистово старалась разъединить благополучные супружеские пары в своем окружении. Среди многочисленных упреков, адресованных ею своей ближайшей сотруднице Лилу Грюмбах, — с которой она не переставала ссориться, но без которой не могла обойтись, — один был постоянным. Коко высказывала его с все возрастающим озлоблением. Почему Лилу и ее муж усыновили двух детей? Подсознательно она воспринимала это как вызов. Благополучный брак, дети… То, чего она не имела и чем, как уверяла, пренебрегла.
У ее племянника Палласа от первого брака с красавицей голландкой было две дочери. Старшей дали ее имя, Габриэлль. Коко называла ее Тини; она была ее наперсницей, подругой, ей она отдавала свои поношенные платья. Выйдя замуж за художника Лабрюни, Тини стала счастливой матерью двоих детей, которых Коко обожала, не переставая ворчать:
«Я сказала Тини: девочка, ты покажешь мне твоих детей, когда они начнут ходить, будут чистыми, потому что для меня, ты знаешь, сосание, отрыжка, слюни…»
И продолжала:
«Я их увидела, когда им исполнилось два и три года. Настоящие маленькие мужчины, коротко постриженные, в американских штанишках (так она называла джинсы), совсем не кривляки, это мне доставило большое удовольствие».
Все эти речи, которые я слушал довольно равнодушно, конечно, сильнее затронули бы меня, если бы я знал тогда, что Коко сама сделала все, чтобы иметь ребенка от герцога Вестминстерского. Может быть, и не от него одного?
Нельзя было ждать от нее признания, что жизнь не удалась, потому что она не сумела удержать около себя мужчину, который спас бы ее от одиночества и которого ей порой недоставало. Она говорила: «Мужчины не так сильны, как о них думают. Женщины более хитры и находчивы, они способны все вынести. Они также способны быть злыми, но иногда даже приятными, милыми. Мужчины гораздо более наивны и уязвимы, чем женщины».
Я должен был бы подробнее расспросить ее, что она об этом думает. Но она не ответила бы на мои вопросы.
В этот вечер она говорила:
«Я готовлю коллекцию, которая внушит оптимизм. Люди обеспокоены, озабочены. Я работаю в цвете; использую все, что смогу найти самое веселое, самое забавное. К несчастью, не все в Доме делают то, что я хочу. Манекенщицы всегда усталые. Отвечают мне таким тоном! Вот уже не думала, что смогу стерпеть, когда со мной так говорят. Я отступаю с терпением, какого за собой не знала. Не люблю жить, когда нет дисциплины. С тех пор как я работаю, никто никогда ничего не делал через мою голову».
Она была поглощена конфликтом с очень красивой Мари-Элен Арно; в нее как будто перевоплотилась очаровательная Давелли, лицо которой для Коко оставалось связанным с ее первыми триумфами.
«Я занялась ею, когда она могла погибнуть, — утверждала Коко, намекая на дебют Мари-Элен, как cover girl[273]. — В журналах вас используют, изнашивают, изнуряют, а потом выбрасывают! Я была для нее добрым гением. И немного привязалась к ней».
Бесспорно, искусством understatement Коко была обязана англичанам. На самом деле она не могла обойтись без Мари-Элен, и совершенно естественно начали думать, что она видит в ней свою преемницу.
Отец Мари-Элен был назначен директором Дома Шанель. Со своей стороны Вертхеймеру, вернее администрации «Духов Шанель», следовало подумать о преемниках Коко. Все это происходило в 19601961-м. Она приближалась к восьмидесяти годам.
«Мари-Элен надоело быть манекенщицей, — заметила Коко в тот вечер. — Я ее понимаю. Но, может быть, она не права».
В трех фразах сказано все: девочка воображает, что способна заменить меня. Не всякий, кто хочет, может стать Шанель.
Как только одна из ее манекенщиц проявила честолюбие, к которому, по ее же словам, обязывала красота, Коко почувствовала, что ей бросают вызов.
«Моя дочь заслуживает большего, чем то, что она делает», — сказал ей месье Арно.
— Я, Мадемуазель Шанель, — ворчала Коко, — если вижу свет в уборной, мне случается открыть дверь и проверить, спустили ли воду, и я вовсе не чувствую себя обесчещенной этим.
Да, если бы Дом Шанель нуждался в Мари-Элен, она бы капитулировала. Но что принесла она Дому Шанель? А получила от него все.
«Ее всюду приглашают, чтобы доставить мне удовольствие», — считала Коко.
Ее ссора с Мари-Элен, по сути незначительный инцидент, приобретает важность, так как помогает познать Мадемуазель Шанель. Он раскрывает механизм защиты, который срабатывает, когда Коко считала, что ее Дом в опасности.
Она постоянно представала перед собственным трибуналом не чтобы обвинить, а чтобы защитить себя (что все же говорило и об осуждении). Когда она произносила свои монологи, она говорила и за прокурора, и за адвоката, и за председателя суда.
В чем мог упрекнуть прокурор очаровательную Мари-Элен?
Перед тем как отправиться на зимние каникулы, Мари-Элен спросила Коко:
«Как вы обойдетесь без меня, Мадемуазель?»
Преступление — в оскорблении ее величества: бедняжка, дорогая моя, вы считаете себя настолько важной, что ваше отсутствие может затруднить Мадемуазель Шанель? Она очень легко обойдется без вас.
Прокурор Шанель обвиняла:
«Что они воображают? Что я существую благодаря ей?»
Разница местоимений, безусловно, имеет значение, они — это двое Арно, отец и дочь, которые жаждут ее трона (считала Коко), а она — это незаменимая Мари-Элен.
«Со мной, — ворчала Коко, — эти номера не пройдут. Мари-Элен не так много значит в моей жизни, ее уход не станет катастрофой».
После чего она предоставляла слово Шанель-адвокату, но для того, чтобы защищать не Мари-Элен, а себя, так как Мари-Элен все же была нужна Дому.
«Я научила ее многому, — доказывала она. — Беспокоилась, когда поздно вечером она должна была возвращаться к родителям на окраину Нейи. Я ей сказала: поселись в отеле на рю Камбон. Мне не нравится и то, что ты ешь в одиночестве в маленьком ресторане. Приходи ко мне, я всегда завтракаю одна или с друзьями, которые будут рады тебя видеть».
И Коко-адвокат настаивает:
«Я люблю просвещать людей, обожаю объяснять, не теряю терпения, если меня не сразу понимают. Я была бы хорошим преподавателем. К тому же Мари-Элен слушала меня с интересом. Думаю, она была все же привязана ко мне».
А Шанель-председатель отрезала:
«С некоторого времени, потому что ее настроили, она стала вилять, и как раз перед коллекцией».
Как раз перед коллекцией! Это явное осуждение, и без смягчающих обстоятельств. В момент, когда в ней нуждались.
Прокурор воспользовался раздражением председателя, чтобы возобновить атаку:
«Она мне говорила: Мадемуазель, я охотно пообедаю с вами сегодня, но мне придется уйти сразу после обеда, потому что у меня занят вечер».
Что же она, бедняжка, воображала, что Мадемуазель Шанель нуждается в ней?
«Я ей говорила: детка, я приглашаю тебя не для того, чтобы доставить удовольствие себе, а чтобы тебе не было скучно одной. Я-то предпочла бы, чтобы ты не приходила, тогда я могла бы вернуться в отель и пообедать в постели. Ела бы овсянку, единственное, что ем с удовольствием».
Она старалась убедить себя, что поступила правильно, порвав с Мари-Элен. Но ей это не удавалось. Не одобряла она и того, как вела себя с другими друзьями, которых несправедливо обижала, и только потому, что могла царствовать лишь в одиночестве, не слушая ничьих советов. Только уйдя в пустыню, она осознавала свою исключительность. Но пустыня ее леденила.
«Мари-Элен, стало быть, жила так несколько лет, с моими слугами, говорившими ей: надо обедать с Мадемуазель, иначе она ничего не будет есть».
Можно ли говорить злее о том, к кому испытываешь большую привязанность?
Она реагировала как бульдог: нельзя трогать ее кость — Дом Шанель. Она не могла больше ни от кого ничего принимать. Чтобы убедить себя, что она не одна-одинешенька на свете, требовала зависимости от себя.
«Если Мари-Элен не хочет больше быть манекенщицей, я возьму другую. Всем можно найти замену».
Всем, кроме Мадемуазель Шанель. Она уже нашла замену Мари-Элен:
«Малышке семнадцать лет, и это сразу видно, она действует как витамин. Она не перестает улыбаться от счастья, что работает у Шанель, и это веселит людей. Той другой (Мари-Элен) слишком кадили, главным образом чтобы доставить мне удовольствие. А эта через год затмит всех. Сейчас она еще робка до смерти. Не умеет ходить, вертит задом и втягивает живот. Я говорю ей: ходите как будто танцуете, вы ведь не втягиваете живот, танцуя. Я научу ее ходить».
Она прошлась, как бы демонстрируя свой костюм, который носила с черными сапогами.
«Я уже преобразила ее. Она начала двигаться как следует. Я сама всему учу моих девушек. Внушаю им: главное, будьте веселыми! Американки восхитительны, они все время улыбаются. В Нью-Йорке я слышала, как молодая женщина объявляет по радио об эпидемии полиомиелита. Чувствовалось, что она улыбается во весь рот. Там хорошие дантисты».
Она продолжала стоять: «Я бы уставала, как и все, если бы опиралась на ноги, но я опираюсь на таз, это немудрено, и я научу этому малышку. Если я это делаю, сможет и она».
Период манекенщиц-аристократок сменила «немецкая эпоха»: «Я очень люблю этих высоких немок, у них от природы хорошая походка. Они выбрасывают сначала бедро, как хищные звери, а потом уже икру и стопу. Француженки и американки наоборот, начинают со стопы, это не грациозно».
Манекенщицы носили большие сумки через плечо.
«Мне хотелось узнать, что у них там, — говорила Коко смеясь. — Я посмотрела: ничего! А теперь вдобавок у них на шее висят фотоаппараты».
— Мадемуазель, — заявила одна из них торжествующе, — решено, я буду изучать фило[274].
— Я бы тебе поверила, если бы ты сказала: Мадемуазель, я буду изучать философию.
Одна испанка вызвала ее в конфликтную комиссию профсоюза.
«Не переставая уверять, что обожает меня. Я ей сказала: ты, может быть, добьешься чего-нибудь от комиссии, я тебе этого желаю. Но не будешь больше работать в Доме Шанель».
После демонстрации одной из коллекций она привела меня в маленький салон, чтобы выпить шампанское с манекенщицами. Пили грустно, это были несчастливые времена.
— Нельзя демонстрировать платья как Святые дары, — ворчала Коко.
И вот она встает с пустым бокалом в руках, чтобы показать своим манекенщицам, как надо демонстрировать модель. Они нисколько не заинтересовались, остались абсолютно равнодушными.
Из эгоцентризма она преувеличивала свои конфликты с манекенщицами или некоторое, возможно справедливое, сопротивление персонала.
«Все тем не менее хорошо шло, потому что я работала в два раза больше. Я говорила себе: что-то беспокоит этих людей, тем хуже, не вмешивайся, тебе надо закончить коллекцию. Не давай волю гневу. Будь терпеливой… Я — пчела. Это часть моего знака: лев, солнце. Женщины этого знака верные, храбрые и очень работящие. Их не легко выбить из седла. Это мой характер. Я пчела, родившаяся под знаком льва».
Коко — героиня оперетты
Некоторые великие люди ходят по улицам, носящим их имя. Другие могут созерцать свои статуи. Коко Шанель могла бы услышать и увидеть свою баснословную жизнь на сцене Бродвейского театра. Однако не свою подлинную жизнь. Удалось ли ей забыть то, что ее тревожило? Узнав это слишком поздно, я не смог спросить об этом.
Можно представить себе прием, который ждал ее в Нью-Йорке, если бы она согласилась появиться на премьере оперетты «Коко».
Проект возник за столом у братьев Милль на рю Варенн. Их дом после Освобождения был местом, где собиралась элита интернационального света. Рю Варенн[275] тогда еще принадлежала не премьер-министру, а братьям Эрвэ и Жерару Миллям, у которых бывали все, кто имел талант, имя, деньги, все, кто коротко ли, долго ли занимал прессу. Это не был салон в прустовском смысле слова, но Пруст мог бы найти там интереснейший материал и героев, которые были бы узнаны не только посвященными, но и широким читателем, потому что это были Брижитт Бардо, Марлон Брандо[276], Жан Кокто, Питер Брук[277], Жюльетт Греко[278], Мари Белль[279], Жан Жене[280], Симон Беррио[281], все итальянские князья и множество политических деятелей. Назову только Жака Шабан-Дельмаса, который, прощаясь, забавно отдал должное братьям, провозгласив журналиста Эрвэ лучшим декоратором, а декоратора Жерара — лучшим журналистом. Эрвэ Милль являлся тогда «тайным советчиком» прессы, без которого не могла сформироваться ни одна редакция. Невольно напрашивается сравнение салона братьев Милль на рю Варенн после Освобождения с салоном Коко на рю Камбон после первой мировой войны. Начиная с атмосферы, созданной убранством интерьера. Жерар Милль не скрывал, чем он обязан своей дорогой Коко. Те же ширмы Короманделя, та же игра зеркал, придающая комнатам колдовские пропорции, дерево старых кресел; в магическом пространстве, созданном игрой зеркал, — предметы, которые до этого считались по своим размерам невозможными в интерьере: китайские вазы, венецианские негры или большие, как в моих родных мюнстерских лесах, лани.
Сколько издательских, журналистских, политических, кинематографических, эстрадных, театральных, литературных карьер стартовало на рю Варенн? Не говоря уже о любовных и дружеских отношениях, которые там завязывались. Вадим жил там, когда не имел ни су. Это сюда он приводил обедать Брижитт Бардо, чтобы успокоить ее родителей, звонивших Миллям: да, да, ваша дочь у нас, мы проводим ее домой к полуночи. Можно было увидеть, как Жерар Милль задыхался от ярости, обнаружив, что не осталось ни одного из полдюжины его смокингов. Но в этот вечер Кристиан Маркан[282] и несколько других завсегдатаев рю Варенн, опустошив шкафы, появились на генеральной в смокингах и черных галстуках. Аннабель[283], тогда еще не Бюффе, делала букеты, расставляла вазы с цветами.
Коко чувствовала себя на рю Варенн как дома. Здесь она и встретилась с продюсером Фредериком Бриссоном, решившим «купить» ее в любом варианте: автобиография, пьеса, музыкальная комедия и, наконец, фильм. Коко отказалась от автобиографической книги и фильма. Стали бы копаться в прошлом и открыли бы ее «правду», с таким трудом погребенную.
Но почему бы не музыкальная комедия, которая в принципе давала волю самой необузданной фантазии? Потом по ней можно было бы сделать и фильм.
На этом и сошлись. Главную роль Фредерик Бриссон предназначил своей жене. Тут нечему удивляться: для чего же еще актрисы выходят замуж за продюсеров, как не затем, чтобы законсервировать молодость? Жена Бриссона — Розалинд Рассел[284]. Коко находила ее вульгарной. «Лошадь», говорила она о ней. Так как она не скрывала своих суждений, это вскоре появилось в американской прессе. Розалинд Рассел уже отказалась от роли, заявив, что у нее нет ничего общего с Мадемуазель Шанель, ни малейшего сходства. Оперетта строилась вокруг возвращения Коко в 1954 году, потому что по возрасту это подходило Розалинд Рассел. Коко предпочла бы появиться на сце не бед ной не вин ной де воч кой, в пер вый раз ужинающей у «Максима» в 1913 году. Она видела в своей роли Одри Хёпберн — в Довилле, в Арменовилле, на скачках, окруженную кокотками в их знаменитых туалетах, офицерами в мундирах и автомобилями, ставшими музейными экспонатами. Ее играла гениальная Кэтрин Хёпберн[285], в которой она не узнавала себя. Ален Лернер[286] остановил свой выбор на теме сценария, задуманного для Розалинд Рассел:
«Коко, — объяснял он, — женщина, всем пожертвовавшая ради своей независимости и завоевавшая ее, заплатив чрезмерно дорогой ценой — одиночеством».
Это было неплохо подмечено.
— Но это тема трагедии, — заметил Эрвэ Милль.
— Значит, будет музыкальная трагедия, — ответил Ален Лернер.
Он принялся за работу в 1965-м, потому что понадобилось почти десять лет, чтобы добиться согласия Коко и оговорить с Ренэ де Шамбраном ее условия. Вскоре, весной 66-го года, Бриссон с Лернером и композитором Превеном приехали в Париж. Остановившись в отеле «Мерисс», они пригласили Коко, чтобы познакомить ее с опереттой. Лернер спел все арии, Превен аккомпанировал ему на фортепиано.
О чем думала Коко? Ее жизнь, пусть даже очень схематично, воплощенная в простодушных и наивных образах, проходила перед ней, и Шанель многое вспоминалось.
Она видела отца, склонившегося над ее колыбелью, отца, который ищет уменьшительное имя для своей дочки и, наконец, находит его — Коко. Потом это имя подхватит ее бабушка. Коко, Коко, имя, возвещающее славу, богатство, но и то, что она всегда будет одна.
Одна. Слезы заливали лицо Коко. Немногим довелось видеть ее плачущей.
Она не поехала на премьеру. Спектакль способствовал славе и успеху ее Дома, но в глубине души она не одобряла его. Кроме того, две вещи чрезвычайно раздражали ее. Первая касалась либретто.
По замыслу Алена Лернера, во время своего come-back, после неудачи с первой коллекцией, Коко была спасена благодаря таланту одного американского стилиста, который не только омолодил ее творения, но и поставил ей клиентуру из Соединенных Штатов. Этого было достаточно, чтобы ее хватил апоплексический удар перед восхищенной публикой Бродвея.
Другая причина (впрочем, второстепенная) — это костюмы, сделанные по эскизам Сесила Битона[287], более 100 платьев lа Шанель, о которых она говорила с раздражением:
— Незнакомые американки подходят ко мне в «Рице»: «Вы Мадемуазель Шанель? Мы видели оперетту. Почему вы сами не сделали костюмы? По крайней мере, нам было бы на что посмотреть».
Она вкратце, по-своему изложила, что происходит на сцене:
«Я почти ничего не делаю, я сижу, и все дефилируют передо мной. Мне поют арии, которые я любила».
Одновременно с опереттой она собиралась выпустить новые духи, которые, как и оперетту, хотела назвать «Коко». Она говорила:
— Я их сделала лет двадцать назад и теперь снова нашла.
Она дала мне понюхать свой платок:
— Как вы их находите?
— Очень свежие.
— И устойчивые! — сказала она. — Теперь уже не делают таких духов. Это мои духи. Зачем же мне им их отдавать?
Она подсчитывала прибыль от новых духов, раскупавшихся так же хорошо, как «№ 5», которую она ни с кем не делила. В последние годы жизни мысль о том, что кто-то может извлечь из нее выгоду, стала для нее невыносимой. «Меня эксплуатируют, я превратилась в предмет», — ворчала она.
Она отказывалась подписывать бумаги, всех обвиняла, в том числе и по поводу оперетты. Вдруг стала подозревать всех на свете, вплоть до тренера своих лошадей, предложившего разделить расходы на их содержание. Почему вдруг? У него непременно была какая-то задняя мысль:
— Я отправила в Англию кобылу, чтобы случить ее там. Она принесла двух жеребят, один из которых, несомненно, был очень хорош, так как мне сразу же предложили его продать. Почему я должна уступить ему половину?
— Он выиграет вам «Гран-при»!
— Он ничего не заплатил за перевозку кобылы в Англию, куда ее отправляли два раза. Мне это каждый раз стоило миллион, скорее, два миллиона, так как я платила фунтами.
Так как я платила фунтами. Явно неотразимый аргумент, чтобы удвоить цену. В конце концов она рассмеялась. Это было не серьезно:
«Я научилась быть осторожной. Я вынуждена защищать себя сама, совсем одна. А жизнь нынче такая жестокая! Когда я вижу, что сегодня занимает молодых людей! Если бы я родилась в такое время, думаю, покончила бы с собой. Нет! Я этого не думаю, потому что благоразумна, рассудительна. Если бы я родилась в эту эпоху, то была бы другой. Но как все это легкомысленно. Мы были молоды, но не легкомысленны».
Зачем ехать в Нью-Йорк? Она говорила:
«Это так сложно — путешествовать. Всюду так много людей. Свои лучшие путешествия я совершаю лежа на диване».
Меня больше не пригласят на роль звезды. На рю Камбон она была королевой Одиночества.
Заговор против Коко
Что такое заговор против трона? В то время как внешне никто не оспаривал правления Коко Домом, втайне готовили ее отстранение от власти. Мода уу вскружила головы модельерам. Так как Коко безусловно ее отвергала, задумали выжить ее. Никогда в прессе не говорили о заговоре против Коко Шанель, который она уничтожила в зародыше.
Когда Лилу Грюмбах спрашивали, в чем именно заключались ее функции у Мадемуазель Шанель, она, смеясь, отвечала, что очень хотела бы, чтобы ей их кто-нибудь уточнил. Никто не проводил так много времени с Коко, как она, в последние шесть-семь лет ее жизни. Я познакомился с Лилу через ее брата, Кристиана Маркана (друга Вадима), одного из экзистенциалистов, бывавших в «Табу». Я помог его театральному дебюту под руководством Мишеля де Ре[288] в спектакле, который частично финансировал. Чтобы его поставить в 1946 или 1947 году, необходимо было 90 000 франков. Я дал третью часть, вторую треть — Эрвэ Милль. Мы надеялись, что остальное внесет один бельгийский миллиардер, который никак не решался раскошелиться.
— Это безумная затея! — стонал он.
— Но посмотрите на лица юношей и девушек, которые там играют. Вы не находите, что в них что-то есть?
Это был Вадим, это была Жюльетт Греко.
Чтобы подтолкнуть его, я внес его часть, которую он мне потом возместил. Бедняга, колоссально богатый, он умер один в номере отеля, не унеся с собой денег, которыми не умел распоряжаться.
В основном у Шанель Лилу Грюмбах занималась прессой и рекламой под контролем Коко, а это означало, что ей мало что приходилось делать, но она должна была постоянно присутствовать в Доме, чтобы слушать Коко, завтракать с ней, вечером провожать ее в «Риц», а по утрам приходить туда за ней. Коко не могла обойтись без Лилу. И тем не менее постоянно ее изгоняла.
— Кончено, — говорила она, — я не хочу терпеть любителей. Никто больше не умеет работать. А в Доме Шанель главное — работа.
Даже сама Лилу не могла сосчитать, сколько раз она уходила и возвращалась.
Вторая половина дня после представления зимней коллекции 1968 года.
Манекенщицы демонстрировали модели клиенткам — их было около двадцати, — когда удивленная Лилу заметила маляра в рабочей одежде, в куртке и брюках из белого холста, который спокойно поднимался по зеркальной лестнице, держа банку с красками в одной руке и кисти в другой. Что он тут делает?
Лилу была озадачена. Маляр пересек салон, пройдя мимо ошеломленных манекенщиц и, подойдя к стене в глубине комнаты, буквально вошел в нее, подобно «человеку, проходящему через стены»[289].
На самом деле оказалось: прорубили дверь, чтобы сделать проход в соседний дом, где дирекция компании «Духи Шанель и Духи Буржуа» поместила молодого модельера. Речь уже шла не о том, чтобы подготовить преемника Мадемуазель Шанель, а о том, чтобы ее обойти.
Кризис можно было предугадать. В деловом плане положение Шанель оставалось прочным. Почти во всем мире женщины, имеющие деньги, оставались верны стилю Шанель.
— Мы меньше отказываемся от заказов, чем обычно, — признавалась Коко.
Все то же искусство understatement. В ателье работа шла полным ходом. Если бы в «Рице», в отеле «Георг V», развлечения ради, сравнить количество шанель с костюмами из остальных Домов, рассудительные биржевики не снизили бы курса акций. Повторяю, с Шанель дела обстояли хорошо. Но на рынке появлялись новые ценности. Шанель уже не была единственной в мире моды, жадном до новизны.
В течение многих лет, обедая в городе, Шанель видела только Шанель. Теперь их стало меньше. Чтобы принять ее, хозяйка дома велела горничной укоротить свой туалет от Шанель. Но тем не менее надо было улыбаться и пожимать протянутую руку.
— Если бы у меня были такие колени, я бы их не показывала, — вздыхала Коко.
Она страдала. Никто лучше ее не чувствовал, куда дует ветер. А дул он не в ее сторону.
Но это! Случайно обнаружить, что ваши друзья, ваши компаньоны, люди, которым вы сделали состояние, не только перестали верить в вас, но и работают протв вас. Тайно.
Коко провела меня через пролом в стене, чтобы показать свое города подкоп, который на фронте роют солдаты под непреступной траншеей противника: огромное ателье со столиками для швейных машин, застекленными кабинками для примерок, кабинет для «мэтра», нанятого, чтобы вытеснить ее и поставлять всем, кто пожелает, миниюбизированную Шанель.
«Последнее время они мне всё льстят, и это для того, чтобы я убралась, — бормотала Коко. — Они не понимают, какая это была бы катастрофа. У меня работает четыреста человек. Если я закроюсь, это равносильно закрытию целого автомобильного завода».
Для нее «Рено» и «Ситроэн» оставались теми же ремесленными мастерскими, что и в пору их первых автомобилей.
Я смотрел на нее: она сгорбилась у меня на глазах. Железный занавес старости закрывался на ее лице; от него оставались одни глаза. Случалось, что она меня раздражала. Такое непонимание, безрассудство, такой эгоцентризм; ее ожерелья, цепочки, кольца на каждом худом пальце, вся эта экипировка Шанель; ее монологи, суждения, приговоры, не подлежащие обжалованию. Но в этот день! Совершенно спокойная, внешне безразличная к удару, ей нанесенному, она, придерживая очки на кончике носа, рассматривала работы, произведенные для осады крепости Шанель.
Об этой истории, которая могла бы появиться под крупными заголовками в парижских, да и не только парижских, газетах, не говорили. Трудно ли вообразить, что творилось на душе у Коко? Какие мысли приходили ей в голову?
У нее хотели отнять ее Дом, ее дитя! Единственную вещь, которую я создала сама.
— Это похоже на детективный роман, — бормотала она.
Действительно, она проживала эпизод из романа Пьера Декурселя, тот, в котором Рамон де Монтлор похитил Фанфана и отдал его Лимасу, чтобы этот презренный негодяй превратил маленького ангела-аристократа в такого же подонка, как он сам.
«— Вот ребенок (Дом Шанель), — сказал глухо Рамон.
— Он действительно красавчик, господин. Клянусь честью, похож на вас».
Ей было больно, и я прекрасно ее понимал, потому что сам прошел через такие же испытания. У меня тоже только что отняли ребенка, чтобы сбить его с пути. Газету. Она не принадлежала мне, как Дом Шанель Коко. К тому же она более защищена, чем я. Это не мешало мне страдать вместе с ней, за нее. Выиграв столько сражений, могла ли она проиграть последнее?
Ей оставалось три года жизни, шесть коллекций, чтобы доказать, что она еще — и всегда — права, что она сохранила свой титул чемпиона мира. Ее хотели отправить на покой, дать для нее, ее именем жалкое сражение, чтобы помочь достойно отступить, в то время как она предчувствовала полную победу. Она пожимала плечами и с улыбкой, больше похожей на гримасу, сказала: «Итак, за работу!»
Indomitable[290], говорят англичане, и это, без сомнения, больше подходит к Мадемуазель Шанель, чем французское indomptable[291], потому что в этом прилагательном есть оттенок благородства.
Я уже долгие годы не занимался журналом «Мари-Клер». Трудные для Коко Шанель годы, когда мода, нарушив традиционный ход, вместо того чтобы спуститься из салонов модельеров на улицы, с улиц (и с Карнеби-стрит)[292] поднималась в салоны. Это не мешало мне все чаще видеться с Коко. Она меня завораживала, сам хорошенько не знаю чем. Когда она мне показала ателье, помещенное без ее ведома рядом с ее собственными, рядом с ее Домом, под крышей, носящей в каком-то роде ее имя, мне показалось, что я наконец открыл ее для себя. Значит, она тоже уязвима, она страдала, ей было больно. Короче говоря, она человек, женщина, она, которая появлялась всегда забронированная с ног до головы, чуждая каким бы то ни было эмоциям.
Я не мог поверить, что с ней посмели так поступить. Я считал ее неприступной. Что можно было сделать с ней? Ограничить ее власть, дать ей немного меньше денег?
Они ополчились против ее господства, хотели отнять у нее скипетр и корону. О! Следовало признать, что ее господство было подорвано. Она теряла свое положение и значение. Пресса больше не занималась ею. Повторяю: если в коммерческом плане Шанель сохранила свою прочную ценность, если ее Дом моделей, даже работающий не в полную силу, оставался могучим механизмом для выпуска и продажи духов, то тем не менее Шанель переставала быть событием, как это называют в прессе. Почему журналист, специализирующийся в области моды, будет искать новизну на рю Камбон? Каждые полгода там видели те же безукоризненные костюмы, даже все более и более совершенные, но как это совершенство могло быть отражено на фотографиях или в заголовках статей? Мини-юбки, почти обнаженные манекенщицы — вот что питало специальные номера, что составляло ударный элемент коллекций, что производило шок при демонстрации.
— У меня не покажут колени, — твердила Коко. — Колени — это суставы.
Поднимая худую, почти высохшую руку, она сгибала, разгибала, снова сгибала указательный палец:
— Вы находите, что это следует показывать, — сустав? Колено? Уродливое колено?
Она даже добавляла:
— Старое колено… старое… старое колено.
Она вглядывалась во что-то невидимое, поверх меня. Я чувствовал, что почва уходит у нее из-под ног. Почему? В чем увязала она? Я знал ее меньше, чем теперь, когда наконец понял, в чем она мне тогда призналась.
— Вы думаете, приятно слышать, как все повторяют, что вам уже не двадцать лет?
Она одергивала концы красного шарфа, завязанного на шее. На ее старой шее.
— Я слишком хорошо знаю, что мне не двадцать лет. Я бы довольствовалась сорока годами.
В двух признаниях, в двух фразах она открылась мне до конца: итак, за работу и, увы, мне уже не двадцать лет. Она приобретала бальзаковские измерения.
Сначала сирота, которая стыдилась, отказывалась быть ею. Много ли девочек знают в шесть лет, что станут Коко Шанель и в день смерти имя их появится на первых страницах газет всего мира? Почему Коко не сохранила воспоминания о какой-нибудь товарке по приюту? Стерла из памяти все лица той поры. Свою первую победу она одержала над детством, которое отвергла. Я не сирота! Она сочинила себе дом, хороший дом, отца, уехавшего в Америку, строгих, но благородных теток. Все это было создано не за один час. Всю жизнь она сражалась за то, чтобы утвердить и сохранить свой вымысел. Вымысел, который не так-то легко было выдать за правду. Его надо было переплести с реальностью, оставившей свои следы. Какое она получила образование? Она говорила: «Мне случается спрашивать себя, научилась ли я читать и писать».
Как жалко, что так мало известно о ее детстве. Коко в десять, пятнадцать лет… «У меня был ужасный вкус».
Она говорила, не думая этого. Свой царственный, безупречный вкус она выработала сама, начиная с того, что поднялась над положением бедного ребенка, сиротки в черном переднике.
Вторую победу она одержала в Руаллье. Кем она была? Красивой провинциалкой, привезенной в Париж офицером, которого забавляла. И который содержал ее. Тратя на нее меньше, чем на свою, так сказать, официальную любовницу, знаменитую кокотку Эмильенн д'Алансон.
Что сталось с маленькими сиротками в черных передниках? Что сталось с хорошенькими портнихами из Мулена, которым делали комплименты блестящие офицеры?
Что сделалось с кокотками?