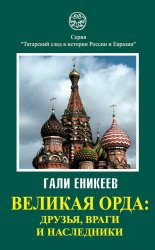Предатель памяти Джордж Элизабет

Джил замялась, не желая произносить вслух то, что пришло ей на ум.
Ричард сказал за нее:
– Это Соня. Моя дочь.
И сердце Джил внезапно сковало ледяным панцирем. В свете, падавшем от фонаря над входом в больницу, она потянулась к фотографии и повернула ее к себе. На снимке девочка – белокурая, каким был в детстве и ее брат, – прижимала к щеке игрушечную панду. Она смеялась в камеру, весело и беззаботно, как будто в ее жизни не было ни единой проблемы. Она не знала, что это не так, думала Джил, глядя на фотографию.
– Ричард, ты никогда не говорил мне, что Соня… Почему мне никто не сказал?.. Ричард, почему ты не сказал мне, что у твоей дочери был синдром Дауна?
Он оторвал взгляд от снимка и ответил ровным голосом:
– Я не говорю о Соне. Я никогда не говорю о Соне. Ты знаешь это.
– Но я должна была знать. Должна. Я имею право знать.
– Иногда ты ведешь себя совсем как Гидеон.
– Да при чем здесь Гидеон? Ричард, почему ты раньше не сказал мне о ней? И что эта фотография делает в моей машине?
Все события вечера: разговор с матерью, телефонный звонок из больницы, безумная поездка по городу – все вместе разом навалились на Джил.
– Или ты пытаешься напугать меня? – воскликнула она. – Ты надеешься, что если я увижу, что случилось с Соней, то соглашусь рожать Кэтрин в больнице, а не в маминой квартире? Ты на это надеешься? В этом все дело?
Ричард отбросил рамку на заднее сиденье, где она приземлилась на один из пакетов.
– Не говори глупостей. Гидеон захотел, чтобы у него была фотография сестры – бог знает, зачем она ему понадобилась. Я раскопал ту, что у меня оставалась. И хотел отдать ее в багетную мастерскую. Ты, должно быть, заметила, что рамка сломана, а стекло… Ты сама видела. Вот и все, Джил. Больше за этой фотографией ничего не стоит.
– Тогда почему ты мне не сказал? Разве ты не понимаешь, как мы рискуем? Если у нее был синдром Дауна из-за генетических нарушений… Мы могли бы обратиться к врачу. Могли бы сдать анализы крови, сделать еще что-нибудь, уж не знаю, что делают в таких случаях. А вместо этого ты позволяешь мне забеременеть, и я даже не знаю, что существует шанс…
– Я знал, что никакого шанса не существует. Я знал, что ты будешь делать пренатальную диагностику. И когда нам сказали, что Кара в полном порядке, не было смысла понапрасну волновать тебя.
– Но я имела право знать это раньше, когда мы только решили попробовать зачать ребенка… Ведь если бы анализы показали, что что-то не в порядке, то мне пришлось бы решать… Разве ты не понимаешь, что я должна была знать об этом с самого начала? Я должна была знать обо всех рисках, чтобы у меня было время все обдумать, на случай если пришлось бы решать… Ричард, у меня в голове не укладывается, как ты мог не сказать мне.
Ричард утомленно вздохнул.
– Заводи машину, Джил. Я хочу домой.
– Не думай, что сможешь так просто закончить этот разговор.
Он сделал глубокий вдох, запрокинул голову к потолку салона и медленно выдохнул.
– Джил, меня сбил автобус. Полиция считает, что кто-то умышленно толкнул меня. Это означает, что кто-то хочет моей смерти. Я понимаю, что ты огорчена. Ты утверждаешь, что у тебя есть на то основания, и я готов это принять. Но если ты выйдешь за пределы собственных чувств, то поймешь, что мне нужен покой. У меня болит лицо, ноет лодыжка, опухла рука. Мы можем продолжить выяснение отношений прямо здесь, в машине, и дело закончится тем, что я вынужден буду вернуться в больницу, или мы можем поехать домой и обсудить сложившуюся ситуацию завтра утром. Решай, как нам поступить.
Джил смотрела на Ричарда до тех пор, пока он не повернул к ней голову и не встретился с ней взглядом.
– То, что ты не сказал мне о синдроме, равносильно самой грязной лжи, – сказала она и завела двигатель, не дожидаясь ответа.
Машина рванула с места. Ричард поморщился.
– Если бы я знал, что ты отреагируешь столь бурно, то давно бы все тебе рассказал. Неужели ты думаешь, что мне хочется ссориться с тобой? Сейчас, когда у нас вот-вот родится ребенок? Думаешь, мне хочется этого? Господи, да мы только что едва не потеряли друг друга!
Джил вывела машину на Графтон-уэй. Какое-то седьмое чувство подсказывало ей, что где-то что-то неправильно. Однако она не могла понять, это с ней что-то не так или с мужчиной, которого она любит.
Ричард молчал, пока они не добрались до Портланд-плейс, откуда двинулись по мокрым улицам по направлению к Кавендиш-сквер. Внезапно он нарушил молчание:
– Мне необходимо как можно скорее поговорить с Гидеоном. Вероятно, ему тоже грозит опасность. Если с ним что-нибудь случится… когда он и так…
Одно слово – «тоже» – сказало Джил больше, чем она хотела бы знать.
– Так это и в самом деле связано с тем, что произошло с Юджинией? – спросила она.
Его молчание было красноречивым ответом. Страх снова завладел всеми мыслями и чувствами Джил.
Наверное, из-за этого страха Джил слишком поздно заметила, что ее маршрут пролегает мимо Уигмор-холла. Хуже всего было то, что в этот вечер там, по-видимому, проходил концерт, потому что всю улицу перед концертным залом запрудили такси и водитель каждого из них непременно хотел высадить пассажира под стеклянным навесом главного входа. Ричард закрыл глаза, не желая видеть ничего связанного с музыкой.
– Она вышла из тюрьмы, – заговорил он. – И через двенадцать недель после того, как ее освободили, Юджиния была убита.
– Ты думаешь, что эта немка… Та самая женщина, которая убила… – И тут же все вернулось обратно, делая любой другой разговор невозможным: образ того несчастного ребенка, и тот факт, что ее состояние было скрыто от Джил Фостер, имевшей серьезнейшие основания знать все, что можно, о Ричарде Дэвисе и его отцовстве. – Ты боялся сказать мне об этом? Да?
– Ты же знала, что Катя Вольф на свободе. Мы говорили об этом, когда приходил полицейский.
– Я говорю не о Кате Вольф. Я говорю о… Ты знаешь, о чем я.
«Хамбер» выехал на Портман-сквер, а оттуда плавно повернул на Парк-лейн.
– Ты боялся, что я не стала бы заводить ребенка, если бы знала. Это было бы рискованно. Ты боялся этого и ничего мне не сказал. Значит, ты мне не доверяешь.
– Как, по-твоему, я должен был сообщить тебе эту информацию? – спросил Ричард. – Неужели я должен был сказать: «Кстати, моя прошлая жена родила ребенка с синдромом Дауна»? И вообще это было не важно.
– Как ты можешь так говорить?
– Мы с тобой не решали завести ребенка. Мы просто занимались сексом. Отличным сексом. Лучшим сексом на свете. И мы любили друг друга. Но ребенка мы не…
– Я не предохранялась. Ты знал об этом.
– Зато я не знал, что ты не знала, что Соня была… Бога ради, да газеты только об этом и писали: о том, что ее утопили, что у нее был синдром Дауна, обо всех нас. Мне в голову не могло прийти, что я должен говорить с тобой об этом.
– Но я ничего не знала. Она умерла двадцать с лишним лет назад, Ричард. Мне тогда было шестнадцать лет. Много ли ты знаешь шестнадцатилетних подростков, которые читают газеты и потом, через двадцать лет, помнят о прочитанном?
– Я не несу ответственности за то, что ты помнишь или не помнишь.
– Ты несешь ответственность за то, чтобы я была в курсе всего, что может повлиять на мое будущее и будущее нашего ребенка.
– Ты не предохранялась. Я сделал вывод, что ты уже распланировала свое будущее.
– То есть ты хочешь сказать, что я заманила тебя в ловушку? – Они остановились у светофора в конце Парк-лейн, и Джил с трудом развернулась на сиденье, чтобы посмотреть в лицо Ричарду. – Ты это хочешь сказать? По-твоему, я так стремилась заполучить тебя в мужья, что забеременела, чтобы заставить тебя пойти со мной к алтарю? Что ж, надо сказать, этот план провалился. Я уступала тебе во всем от начала и до конца.
Позади «хамбера» раздался автомобильный гудок. Джил сначала бросила взгляд в зеркало заднего вида, затем увидела, что на светофоре зажегся зеленый свет. Они двинулись дальше вокруг арки Веллингтона, и Джил поблагодарила судьбу, что «хамбер» обладает столь внушительными размерами. Так он был более заметен для автобусов, а машины поменьше опасливо сторонились его.
– Я хочу сказать тебе совсем другое, – не повышая голоса, произнес Ричард. – Сейчас мне трудно спорить с тобой. Да, так вышло. Я не сказал тебе что-то, потому что думал, что тебе это уже известно. То есть я не упоминал этого факта, но никогда не пытался скрыть его от тебя.
– Не пытался? Тогда почему у тебя нет ни одной ее фотографии?
– Это было сделано ради Гидеона. Или ты думаешь, я хотел бы, чтобы он всю жизнь провел, глядя на свою убитую сестру? Когда Соня погибла, жизнь для нас стала сущим адом. Для всех нас, Джил, включая Гидеона. У нас был единственный выход – забыть, и для этого мы избавились от фотографий. Ну а если ты не в силах этого понять или простить, если ты пожелаешь закончить из-за этого наши отношения…
Его голос дрогнул. Он с силой растер лицо левой рукой, немилосердно натягивая кожу на скулах.
До конца их поездки к Корнуолл-гарденс он не сказал ни слова. Молчала и Джил. Вскоре «хамбер» миновал Кенсингтон-гор. Еще семь минут, и они припарковались посреди заросшей деревьями площади.
По-прежнему не произнося ни слова, Джил помогла жениху выбраться из машины, а затем собрала его покупки с заднего сиденья. Наверное, было бы разумнее оставить их в «хамбере», ведь предназначались они для Кэтрин. Но поскольку будущее родителей Кэтрин вдруг стало таким неопределенным, у Джил возникло смутное, но безошибочное ощущение, что будет лучше, если она отнесет пакеты в квартиру Ричарда. Она сгребла их и вынула из машины. Вместе с вещами в ее руках оказалась и причина их спора – рамка с фотографией.
Ричард сказал, протягивая здоровую руку:
– Давай я помогу тебе. Дай мне что-нибудь понести.
– Сама справлюсь, – ответила она.
– Джил…
– Я справлюсь.
С пятью пакетами в руках она зашагала к Бреймар-мэншнс – обветшалому зданию, ставшему для нее еще одним напоминанием о том, как часто она шла на компромисс в отношениях с будущим мужем. «Кто захочет жить в таком доме? – задавалась она вопросом. – Кто захочет купить квартиру в здании, которое вот-вот развалится? Если мы с Ричардом будем дожидаться, пока кто-нибудь купит его квартиру, чтобы начать думать о жилище для нас троих, то еще долгие годы у нас не появится ни собственного дома, ни собственного сада. Нашей семье и нашей Кэтрин негде будет жить. Может, именно этого он и добивается?»
Он ведь не стал жениться после Юджинии, продолжала размышлять Джил. Прошло двадцать лет после их развода – шестнадцать? восемнадцать? о, да какая разница! – а он так и не впустил в свою жизнь другую женщину. И сейчас, в этот самый день, в этот вечер, когда он сам чуть не погиб, он думает о ней. О том, что с ней случилось, и почему, и что он должен сделать, чтобы предотвратить опасность, нависшую… над кем? Не над Джил Фостер, не над его беременной подругой, не над их нерожденным ребенком, а над его сыном. Над Гидеоном. Ох этот его сын! Его проклятый сын!
Ричард догнал ее уже на крыльце перед дверью в подъезд. Он открыл замок и толкнул дверь, чтобы Джил могла войти в неосвещенный вестибюль. Потрескавшаяся плитка на полу, заплесневелые обои, отклеившиеся от вечно сырых стен… Еще ужаснее показалось Джил отсутствие лифта. Вместо лестничной площадки имелся только небольшой поворот узкой лестницы на тот случай, если кому-то захочется отдохнуть во время подъема по крутым ступеням. Но Джил отдыхать не хотела. Она поднялась на второй этаж, оставив жениха далеко позади.
Когда Ричард наконец добрался до своей квартиры, его дыхание было тяжелым и частым. Раньше Джил горько раскаялась бы в том, что не помогла ему подняться, ведь в его распоряжении были лишь шаткие перила, а с лангетой на ноге и гипсом на руке подниматься было крайне неудобно. Но сейчас она решила, что этот урок пойдет ему на пользу.
– В доме, где я живу, есть лифт, – заявила она. – Когда люди подыскивают себе жилье, они всегда хотят, чтобы лифт был. И кстати, сколько ты надеешься получить за свою квартиру? За мою дадут в несколько раз больше, ты сам это знаешь, и мы сразу сможем купить дом. Наш дом. А уж потом у тебя будет масса времени, чтобы отремонтировать твою квартиру перед продажей, потому что без ремонта она вообще никогда не продастся.
– Я совершенно без сил, – сказал Ричард. – Я не могу продолжать этот разговор.
Он протиснулся мимо нее к двери в квартиру.
Джил воскликнула:
– Как это удобно!
Они вошли внутрь, и Ричард закрыл дверь. В квартире горел свет. Ричард нахмурился, проковылял к окну, выглянул наружу.
– Ты никогда не продолжаешь разговоры, которых хотел бы вовсе избежать.
– Это неправда. Ты ведешь себя неразумно. Сегодня ты перенесла шок, у нас обоих был шок, и теперь наступает реакция. Когда ты съездишь домой, отдохнешь…
– Не говори мне, что делать! – пронзительно закричала Джил. В душе она и сама понимала, что Ричард прав, что она ведет себя неразумно, но уже не могла остановиться. Каким-то образом все невысказанные сомнения, которые возникали у нее в последние месяцы, перемешались с ее тайными страхами, и внутри у нее все кипело, как вредоносный газ, ищущий любое отверстие или щель, чтобы вырваться наружу. – До сих пор ты все делал по-своему. Я уступала тебе во всем. Теперь все будет по-моему.
Он остался стоять у окна.
– Неужели мы дошли до такого из-за старой фотографии? – Он протянул руку к Джил. – Тогда отдай ее мне. Я хочу уничтожить ее.
– Я думала, ты хотел отдать ее Гидеону! – взвизгнула Джил.
– Хотел, но раз из-за нее у нас возникают такие проблемы… Отдай мне ее, Джил.
– Нет. Я отдам ее Гидеону. Тебе же всегда важен был только Гидеон. Как Гидеон чувствует себя, что он делает, играет ли он на скрипке или не играет. Он стоит между нами с самой первой нашей встречи… о боже мой, мы даже встретились благодаря ему! Я вовсе не желаю смещать его с пьедестала, что ты! Ты хотел, чтобы Гидеон получил эту фотографию, и он ее получит. Мы прямо сейчас позвоним ему и скажем, что она у нас.
– Джил, не будь идиоткой. Я не говорил ему, что ты знаешь о его страхе сцены. Если ты позвонишь ему насчет фотографии, он подумает, что я его предал.
– Ты уж выбери что-нибудь одно, дорогой. Он хотел фотографию сестры, и он получит ее сегодня же. Я сама отвезу ее.
Она сняла с телефона трубку и стала набирать номер.
– Джил! – сказал Ричард и стал приближаться к ней.
– Что ты хочешь мне отвезти, Джил? – спросил Гидеон.
Они разом повернулись на звук его голоса. Гидеон стоял в дверях гостиной, в полутемном коридоре, ведущем в спальню и кабинет Ричарда. В одной руке он держал конверт, а в другой – открытку с цветами. Лицо его было серым, глаза обведены кругами бессонницы.
– Что ты хочешь мне отвезти? – повторил он.
Гидеон
12 ноября
Вы сидите в кожаном кресле своего отца, доктор Роуз, и наблюдаете за мной, пока я, запинаясь, перечисляю чудовищные факты. На вашем лице, как всегда, сохраняется выражение заинтересованности в том, что я говорю, но в нем нет осуждения. Ваши глаза светятся сочувствием, которое превращает меня в ребенка, ищущего утешения.
Да, вот во что я превратился: я звоню вам и плачу, умоляю, чтобы вы немедленно встретились со мной, утверждаю, что больше нет никого, кому я мог бы доверять.
Вы говорите: «Приходите в мой кабинет через девяносто минут».
Такая вот точность. Девяносто минут. Я хочу знать, что вы такое делаете, из-за чего я не могу увидеть вас сию минуту.
Вы говорите: «Успокойтесь, Гидеон. Погрузитесь в себя. Дышите глубже».
«Мне нужно увидеть вас сейчас!» – кричу я.
Вы говорите, что сейчас вы со своим отцом, но встретитесь со мной сразу, как только сможете. Вы говорите: «Если вы приедете раньше, чем я, то подождите на крыльце. Девяносто минут, Гидеон. Вы сможете это запомнить?»
И вот вы здесь, и я рассказываю вам все, что вспомнил о том ужасном дне. Заканчиваю я словами: «Разве можно было забыть все это? Какое же я чудовище, если не смог запомнить ничего из случившегося тогда?»
Вы удостоверяетесь, что я закончил свой рассказ, и начинаете объяснять, что к чему. Спокойным, бесстрастным голосом вы говорите, что невыносимая для меня память о причинении вреда моей сестре и о том, что я считаю себя ее убийцей, приобрела в моем мозге ассоциативную связь с музыкой, звучавшей, когда я совершал упомянутое действие. Действие стало воспоминанием, которое я подавил, но, поскольку оно было связано с музыкой, я в конце концов подавил и музыку. «Помните, Гидеон, – говорите вы, – что подавленное воспоминание обладает волшебной силой. Оно притягивает к себе другие связанные с ним воспоминания, тем самым тоже подавляя их. “Эрцгерцог” был непосредственно связан с вашими действиями в тот вечер. Вы подавили память об этих действиях, к тому же, похоже, все, кто вас окружал в тот период, явно или неявно способствовали этому подавлению. Затем подавление распространилось и на музыку».
Но я всегда мог играть любые другие произведения. Только «Эрцгерцог» мне не давался.
«Верно, – говорите вы. – Но когда неожиданно для вас в Уигмор-холле появилась Катя Вольф и назвала себя, было спровоцировано полное подавление».
Почему? Почему?
«Потому что Катя Вольф, скрипка, “Эрцгерцог” и смерть сестры в вашем мозгу крепко связаны. Вот как это происходит, Гидеон. Основное подавленное воспоминание – это ваша вера в то, что вы убили сестру. Это подавление притянуло к себе все воспоминания о Кате – человеке, наиболее близком к вашей сестре. За Катей в черную дыру последовал “Эрцгерцог” – музыкальное произведение, звучавшее в тот вечер. Наконец, вся остальная музыка, символом которой для вас является скрипка, исчезла вслед за тем единственным произведением, которое вы не могли исполнять. Вот как это происходит».
Я погружаюсь в молчание. Я боюсь задать следующий вопрос – смогу ли я снова играть? – потому что презираю себя за него. Каждый из нас – центр своего собственного мира, но обычно мы можем видеть других людей, существующих в границах нашего мира. Однако я никогда не был на это способен. С самого первого мгновения, когда я осознал, что я – есть, я видел только себя. Поэтому мне кажется чудовищным спрашивать сейчас о моей музыке. Этот вопрос стал бы отречением от жизни невинной Сони. А я и так достаточно долго отрекался от нее, чтобы делать это еще раз.
«Вы верите своему отцу? – спрашиваете вы. – Верите тому, что он сказал о смерти Сони и какую роль он сыграл в ней? Вы верите ему, Гидеон?»
Я не поверю ничему, пока не поговорю с матерью.
13 ноября
Я начинаю видеть свою жизнь в такой перспективе, которая многое для меня проясняет, доктор Роуз. Я начинаю понимать, что отношения, которые я пытался завязать или успешно завязывал, на самом деле управлялись тем, чего я избегал почти всю свою сознательную жизнь, – смертью моей сестры. Я мог поддерживать отношения только с людьми, не знавшими о моей причастности к обстоятельствам гибели Сони, и это были люди, имевшие непосредственное отношение к главному делу моей жизни, то есть к моей профессиональной деятельности: Шеррилл, другие музыканты, специалисты по звукозаписи, дирижеры, продюсеры, организаторы концертов. Но те, кто хотел от меня чего-то большего, чем исполнение музыкальных произведений… с ними я не мог общаться.
Бет служит самым ярким примером. Я никогда не смог бы стать для нее таким спутником жизни, какого она хотела бы иметь. Подобное партнерство предполагает определенный уровень близости, доверия и открытости, что для меня было абсолютно невозможно. Моей единственной надеждой на выживание было спровоцировать разрыв и сбежать от нее.
То же самое сейчас происходит с Либби. Главный символ близости между нами – акт, если хотите, – выше моих сил. Мы лежим в объятиях друг друга, и мои ощущения настолько далеки от сексуального желания, что с тем же успехом я мог бы прижимать к себе не Либби, а мешок картошки.
По крайней мере, теперь я знаю, почему это так. И пока я не поговорю с моей матерью и не узнаю всю правду о том вечере, у меня ничего не получится ни с одной женщиной, кем бы она ни была, как бы мало она ни ожидала от меня.
16 ноября
Возвращаясь с Примроуз-хилл, я встретил Либби. Я ходил туда, чтобы опробовать моего нового воздушного змея, над которым работал несколько недель. Мне не терпелось посмотреть, как он поведет себя в воздухе. Я воплотил в нем свою новую концепцию, которую про себя называл «интригующе аэродинамический дизайн», и надеялся, что в полете эта модель достигнет рекордных высот.
На вершине Примроуз-хилл ничто не может помешать полету воздушного змея. Деревья стоят достаточно далеко, а строения, которые могли бы представлять собой помеху для летающих объектов, находятся на другой стороне улицы, идущей вдоль парка, то есть вне зоны досягаемости любого воздушного змея. День выдался ветреный, и я рассчитывал поднять змея в воздух в считаные секунды.
Увы, мои расчеты не оправдались. Каждый раз, когда я подбрасывал змея в воздух и пускался бежать, разматывая веревку, моя конструкция начинала дрожать, вертеться и болтаться на ветру, после чего стремительно падала на землю. Я предпринимал все новые попытки, поправляя то открылки, то зазоры, даже уздечку. Ничто не помогало. В конце концов одна из нижних распорок треснула, и мне пришлось свернуть мероприятие.
Либби попалась мне навстречу, когда я шел по Чалкот-кресент. По-видимому, она направлялась туда, откуда я возвращался, – в парк. Пакет из супермаркета, банка диетической колы в руке – Либби задумала пообедать на открытом воздухе, решил я. Из пакета, словно ржавый флагшток корабля, торчал длинный багет.
«Если ты запланировала пикник на вершине холма, то тебе может помешать ветер», – сказал я, кивая в сторону Примроуз-хилл.
«И тебе тоже доброго дня», – ответила она.
Она сказала это вежливо, но улыбка ее была скупой. Мы не видели друг друга с того неудачного разговора в ее квартире, и, хотя я слышал, как она приходит и уходит, и в глубине души ожидал, что она позвонит в мою дверь, она так ни разу и не зашла ко мне. Я скучал по ней, но после того как ко мне вернулись воспоминания о Соне, о Кате и о моей роли в смерти одной и лишении свободы другой, я подумал, что лучше нам не видеться. Я не могу сближаться с женщинами, будь то в качестве друга, любовника или мужа. Понимала Либби это или нет, с ее стороны было мудро держаться от меня подальше.
«Я хотел запустить его в воздух, – сказал я, поднимая сломанного змея в качестве объяснения моего замечания о ветре. – Если ты не станешь подниматься на холм, а поешь где-нибудь у подножия, то все будет нормально».
«Утки, – сказала она. На секунду я подумал, что это одно из странных словечек калифорнийского сленга, ранее мною не слышанных. Но она продолжила: – Я иду кормить уток в Риджентс-парк».
«А-а, понятно. А я подумал… То есть у тебя из пакета батон торчит, и я…»
«И ты сразу связал еду со мной. Ну да. Это логично».
«Я вовсе не связываю тебя с едой, Либби».
«Ладно, – пожала она плечами. – Не связываешь».
Я переложил воздушного змея из правой руки в левую. Мне не нравилось ссориться с ней, но никаких четких идей о том, как навести мосты через возникшую между нами пропасть, у меня не было. По сути своей, думал я, мы с ней абсолютно разные люди. Папа с самого начала говорил, что это смешное сочетание – Либби Нил и Гидеон Дэвис. Ведь между ними нет ничего общего!
«Я уже несколько дней не видела, чтобы Раф заходил к тебе, – сказала Либби, мотнув головой в сторону Чалкот-сквер. – Надеюсь, с ним ничего не случилось?»
Она не дала нашему разговору закончиться, заговорив на новую тему. Я вдруг понял, что в нашем с ней общении разговор всегда вела и поддерживала она. И я попытался хотя бы раз изменить это правило, сказав: «С ним – нет. Но кое-что случилось».
Она взглянула на меня с искренним интересом: «С твоим отцом все нормально?»
«Нормально».
«А как его подруга?»
«С Джил тоже все в порядке. Все здоровы».
«А-а. Хорошо».
Я сделал глубокий вдох. «Либби, я собираюсь встретиться со своей матерью. После стольких лет я увижу ее. Папа рассказал мне, что она звонила ему, расспрашивала обо мне, так что теперь мы решили встретиться. Вдвоем – я и она. И после этой встречи я, может быть, разберусь с тем, что мешает мне играть».
Она убрала банку колы в пакет с багетом и вытерла ладонь о бедро. «Что ж, наверное, это классно, Гид. Если ты хочешь этого. Типа, если ты этого хочешь в жизни, верно?»
«Это и есть моя жизнь».
«Конечно. Это твоя жизнь. То, какой ты ее сделал».
По ее интонациям я догадался, что мы снова оказались на зыбкой почве, по которой ходили и раньше, и меня пронзила стрела раздражения. «Либби, я музыкант. Если даже не брать в расчет все остальное, это способ заработать на жизнь. Для меня это единственный источник средств существования. Надеюсь, это ты можешь понять».
«Я понимаю», – сказала она.
«Тогда…»
«Послушай, Гид, я уже говорила: я собираюсь пойти покормить уток».
«Может, зайдешь ко мне, когда вернешься? Мы можем поесть вместе».
«Я планирую пойти постучать».
«Постучать?!»
Она отвернулась, но перед этим на ее лице промелькнуло непонятное мне выражение. Когда она снова повернулась ко мне, ее глаза были печальны. Однако голос звучал равнодушно. «Я занимаюсь чечеткой, – сказала она. – Это мое хобби».
«Прости. Я забыл».
«Ага, – поджала она губы. – Знаю».
«Тогда, может быть, заглянешь попозже? Я буду дома. Мне должен позвонить папа, так что я никуда пока не собираюсь. Заходи после чечетки. То есть если захочешь».
«Конечно, – ответила она. – Увидимся».
После этих слов я понял, что она не зайдет. То, что я забыл о ее занятиях чечеткой, похоже, стало для нее последней каплей. Я попробовал оправдаться: «Либби, у меня сейчас в голове столько всего. Ты же знаешь. Ты должна понять…»
«Господи, – перебила она меня, – да ты не врубаешься!»
«Я врубаюсь, что ты сердишься».
«Я не сержусь. Ничего подобного. Я иду в парк, чтобы покормить уток. Потому что у меня есть на это время и потому что мне нравятся утки. Они всегда мне нравились. А потом я пойду на занятия чечеткой. Потому что мне нравится заниматься чечеткой».
«Ты избегаешь меня?»
«Дело не в тебе. Я – это я, а не ты. Весь остальной мир тоже не ты. Если ты перестанешь завтра играть на скрипке, остальной мир продолжит быть остальным миром. Но как ты продолжишь быть собой, если тебя вообще не существует, а, Гид?»
«Я как раз и пытаюсь вернуть себя».
«Ты не можешь вернуть то, чего не было изначально. Ты можешь создать это, если захочешь. Но ты не можешь просто выйти с сачком и поймать это в сетку».
«Ну как ты не понимаешь…»
«Я хочу покормить уток», – оборвала она меня, повернулась и зашагала к Риджентс-парку.
Я смотрел ей вслед. Мне хотелось побежать за ней и объяснить свою точку зрения. Ей легко говорить, как просто быть самим собой, ведь у нее не было прошлого, усеянного достижениями, каждое из которых служило указателем к давно и твердо определенному будущему. Ей легко просто существовать в данный момент данного дня, потому что ничего, кроме моментов, у нее не было и нет. Моя жизнь была совсем другой, и я хотел, чтобы она признала это.
Должно быть, она прочитала мои мысли. Перед тем как свернуть за угол, она обернулась и что-то крикнула мне.
«Что?» – крикнул я в ответ, потому что ее слова уносило ветром.
Она сложила ладони рупором и крикнула снова: «Удачной встречи с матерью!»
17 ноября
Мне удавалось не думать о матери на протяжении долгих лет благодаря работе. Подготовка к концерту или к сеансу звукозаписи, занятия на скрипке под руководством Рафаэля, участие в съемках документального фильма, репетиция с тем или иным оркестром, гастроли по Европе или Соединенным Штатам, встреча с агентом, обсуждение условий контракта, работа в Восточной Лондонской консерватории… Два десятилетия мои дни и часы были заполнены музыкой. За это время не нашлось лишней минуты, чтобы подумать о родителе, который бросил меня.
Но теперь у меня появилось сколько угодно времени, и в моих мыслях мать заняла главное место. И я знал – даже когда думал об этом, даже когда гадал, воображал и размышлял, – что концентрация всего внимания на матери стала для меня способом не слишком часто задумываться о Соне.
Мне не всегда это удавалось. Моя сестра по-прежнему являлась мне, стоило лишь на секунду потерять бдительность.
«Она какая-то неправильная, мама». Я помню, как сказал это, вертясь возле кроватки, на которой лежала моя младшая сестра, укутанная в одеяльце, в шапочке – и с лицом, которое выглядело как-то не так.
«Нельзя так говорить, Гидеон, – ответила мне мать. – Никогда не говори так о своей сестре».
«А почему у нее глаза глупые? И рот смешной».
«Я сказала, не смей говорить так о своей сестре!»
Вот как мы начинали, постепенно превращая Сонины отклонения в запретную тему. Они стали доминировать в нашей жизни, а мы по-прежнему молчали о них. Соня капризничает, Соня проплакала всю ночь, Соня провела в больнице две или три недели. А мы делали вид, что жизнь идет своим чередом, что все нормально, что так и должно быть в семье, где появился новорожденный ребенок. Так мы и жили, пока дедушка не разбил стеклянную стену нашего отрицания действительности.
«Какой от них толк, от них обоих? – бесновался он. – Что толку во всех вас, Дик?»
Не тогда ли зародилась в моей голове мысль, что я должен доказать свое отличие от сестры? Не тогда ли впервые осознал необходимость этого? Дедушка смел меня в одну кучу с Соней, но я открою ему глаза на истинное положение вещей.
Но как осуществить задуманное, когда жизнь нашей семьи вращается вокруг нее одной? Ее здоровье, ее развитие, ее болезни, ее рост. Детский плач в ночи – и поднимается весь дом, чтобы удовлетворить ее потребности. Изменилась температура – и жизнь замерла до прихода доктора, который объяснит, что послужило тому причиной. Какие-то проблемы в ее питании – и на дом вызываются специалисты для дачи рекомендаций. Она была предметом всех наших разговоров, однако причина ее недомоганий не называлась никогда.
Я вспомнил все это, доктор Роуз. Вспомнил, потому что когда я думал о матери, то к каждому моему воспоминанию, которое удавалось извлечь из мрака забвения, цеплялась и Соня. Она присутствовала в моем мозгу с таким же постоянством, с каким присутствовала тогда в моей жизни. Дожидаясь встречи с матерью, я пытался избавиться от сестры с той же целеустремленностью, с какой пытался избавиться от нее, пока она еще была жива.
Да, я отдаю себе отчет в том, что это означает. Она мешает мне сейчас. Она мешала мне тогда. Из-за нее моя жизнь изменилась. Из-за нее моя жизнь может измениться еще сильнее.
«Ты будешь ходить в школу, Гидеон».
Должно быть, вот когда было посеяно зерно – зерно разочарования, гнева и разрушенной мечты, которое проросло и превратилось в лес обвинений. Новость о школе сообщил мне папа.
Он входит в мою спальню. Я сижу за столом у окна, где мы с Сарой Джейн Беккет проводим занятия. Я решаю примеры по математике. Папа садится на стул, на котором обычно сидит Сара Джейн, и наблюдает за мной, скрестив на груди руки.
Он говорит: «Мы попробовали пойти таким путем, Гидеон. И ты отлично показал себя, да, сынок?»
Я не понимаю, о чем он говорит, но то, что я слышу в его словах, заставляет меня насторожиться. Сейчас я могу предположить, что в отцовском голосе мне послышалась обреченность, но в тот момент мне не хватало опыта и знаний, чтобы назвать то, что он чувствует.
Вот тогда он и сообщил мне, что я, как все дети, буду ходить в школу. Он нашел одну приличную и недорогую школу неподалеку от дома. Я говорю первое, что приходит мне в голову: «А как же скрипка? Когда я буду упражняться?»
«Мы что-нибудь придумаем».
«А что случится с Сарой Джейн Беккет? Ей не понравится, если она больше не будет моей учительницей».
«Ей придется найти другую работу. Мы увольняем ее, сын. Ее услуги нам больше не по карману». Он останавливается на этом, но я продолжаю фразу про себя, в голове: «Ее услуги нам больше не по карману из-за Сони».
«Нам нужно сократить расходы, – объясняет папа. – Мы не хотим расставаться с Рафаэлем, и без Кати нам не обойтись. Так что остается только Сара Джейн».
«А когда я буду играть, если стану ходить в школу? Они не разрешат мне приходить на уроки только тогда, когда я захочу. И еще у них там разные правила. Так когда я смогу заниматься?»
«Мы поговорили с директором школы, Гидеон. Он готов сделать для тебя определенные послабления. Он знает, что ты музыкант».
«Но я не хочу ходить в школу! Я хочу, чтобы меня учила Сара Джейн».
«Я тоже этого хочу, – отвечает папа. – Мы все этого хотим. Но это невозможно, Гидеон. У нас нет на это денег».
У нас нет денег. Это становится лейтмотивом всей нашей жизни. Так стоит ли удивляться, что приглашение из Джульярда отклоняется? Разве не логично объяснить этот отказ тем, что на Джульярд нам не хватает денег?
Но я удивлен. Я разъярен. Я охвачен безумием. И зерно, посаженное в моей душе, толкает вверх ростки, пускает вниз корни и начинает размножаться в питательной почве.
Я учусь ненавидеть. У меня появляется жажда мести. Объект моей мести становится осязаемым. Сначала я слышу его – в нескончаемом плаче и в нечеловеческих требованиях, возлагаемых на всех нас. А потом я вижу его – в ней, в моей сестре.
Думая о матери, я размышлял и над тем, другим вопросом. В результате я пришел к выводу, что, даже если папа решил не спасать Соню, когда мог ее спасти, от этого ничего не меняется. Я начал процесс ее убийства. Он всего лишь позволил ему закончиться.
Вы говорите мне: «Гидеон, вы были маленьким мальчиком. Вы испытывали чувства, типичные для братьев и сестер. Вы не первый, кто пытается причинить вред младшему брату или сестре, и не последний».
Но она умерла, доктор Роуз.
«Да, она умерла. Но не от ваших рук».
Я не знаю этого наверняка.
«Не знаете и не можете знать. На сегодняшний день это так. Но вы узнаете, Гидеон».
Вы правы, доктор Роуз, вы, как всегда, правы. Мать скажет мне, что случилось на самом деле. Если для меня существует спасение в этом мире, принесет его мне только моя мать.
Глава 26