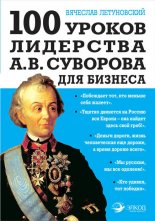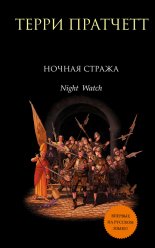Ирландия Резерфорд Эдвард
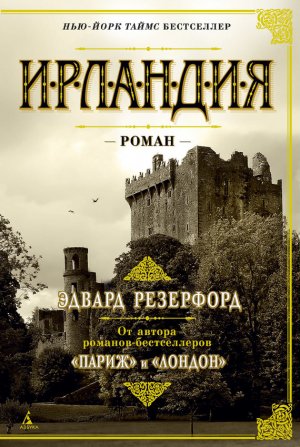
Говорил в основном Дойл, но видно было, что ему хотелось услышать мнение Уолша по разным вопросам. У Маргарет сложилось впечатление, что олдермен гордится тем, что знаком с каждым, кто имеет хоть какой-то вес в Пейле, и, зная, что Уильям Уолш – юрист, Дойл решил и его узнать поближе. Насколько она могла судить, он тоже произвел на Уолша впечатление.
Все это время ни одна из женщин не принимала участия в разговоре. Но потом мужчины заговорили о своих семьях.
– Уверен, вы родня Уолшу из Каррикмайнса, – заметил Дойл.
Это был знак, вежливое признание положения адвоката среди сквайров.
– Родня, да, – любезно ответил Уильям.
– Мы как раз недавно говорили здесь о Толботах из Мэлахайда, – продолжил Дойл с видимым удовольствием. – Моя жена хорошо их знает, – он чуть заметно подчеркнул это, – она ведь сама из Батлеров. Вы, возможно, знакомы с ними?
– Чуть-чуть, – честно ответил Уильям Уолш, а потом добавил со спокойной улыбкой: – Мэлахайд очень далеко от нас.
И тут Джоан Дойл повернулась к Маргарет:
– Конечно, едва ли вам захочется туда ехать. Это же через весь Фингал.
Ее слова прозвучали совершенно безобидно. И Маргарет поняла: никто, кроме нее самой, не понял, что на самом деле подразумевала жена Дойла. Она ведь сказала: «Я все о вас знаю». И теперь исподтишка унижает Маргарет, пользуясь этим. Безусловно она знала, что семья Маргарет родом из Фингала. Должно быть, Толботы рассказали ей, как лишили ее всего. Горькие воспоминания об этом не угасли за прошедшие годы. И теперь жена олдермена решила подразнить ее, прикрываясь дружеской беседой. Жестокость этой маленькой темноволосой женщины заставила Маргарет задохнуться.
Но никто ничего не заметил, и через мгновение разговор уже перешел на новую семинарию, а потом и на самого графа Килдэра.
– Должен заметить, – сказал Уолш олдермену, – что граф был весьма добр ко мне. – И в самом деле, их появление в Мейнуте в тот день было отчасти проявлением благосклонности. – Ведь именно благодаря ему, – пояснил он, – я только что получил от Церкви большой надел земли.
Если англичане в Пейле гордились тем, что поддерживают Церковь, то и Церковь, в свою очередь, была добра к ним. Будучи юристом, Уильям Уолш помогал нескольким монастырям, в том числе женскому, дела которого много лет до самой своей смерти вел его отец. Церковь имела право вознаграждать местных сквайров, сдавая им в аренду землю за весьма скромную плату. Род Уолшей, без сомнения, принадлежал к классу джентри и на протяжении многих поколений поддерживал некоторых известных деятелей Церкви, поэтому как никто другой заслуживал такого вознаграждения, однако именно благожелательное отношение Килдэра помогло ему получить в аренду одну монастырскую ферму за почти смешную плату.
Маргарет хорошо понимала, что, сообщая об этом Дойлу, ее муж таким образом намекал олдермену о том, что пользуется благосклонностью графа Килдэра, а также о том, что весьма активно занят накоплением богатства.
Похоже, Дойл был весьма впечатлен.
– А вы не хотите выдвинуть свою кандидатуру в парламент? – спросил он.
Хотя предполагалось, что ирландский парламент представляет весь остров, на деле почти все его тридцать или сорок членов были из Дублина или из Пейла. Власть парламента, конечно, ограничивалась английским королем, но стать его членом было весьма почетно.
– Я думаю об этом, – кивнул Уолш. – А вы?
В парламенте было несколько богатых торговцев.
– Я тоже, – признался Дойл и бросил на Уолша взгляд, который должен был означать: «Поговорим позже».
Во время этой беседы Маргарет молча наблюдала за ними. Она знала, как много ее муж работает ради семьи, это было одно из тех качеств, которые она в нем любила, и радовалась его успехам. Против Дойла она в общем ничего не имела. Вот только если бы он был женат на ком-нибудь другом…
Разговор продолжался. Мужчины теперь обсуждали короля. Маргарет не прислушивалась, но вдруг жена Дойла сказала мужу:
– Ты должен им рассказать ту историю, что рассказал мне только что.
И олдермен снова заговорил о двух советниках, казненных королем.
– Эти Тюдоры совершенно безжалостны, они, пожалуй, даже хуже, чем были Плантагенеты, – услышала Маргарет слова Дойла.
Едва он произнес это, как ее мысли тут же вернулись к тому роковому походу во времена ее детства, когда ирландские джентльмены столь неразумно вторглись в Англию и Генрих Тюдор убил их всех. Впервые за многие годы перед ней вдруг возникло счастливое, взволнованное лицо ее милого брата, перед тем как он отправился навстречу смерти, и ее охватила печаль.
Она не слушала. А говорила теперь жена Дойла.
– Мой муж очень осторожен, особенно с англичанами. Он говорит, – и Маргарет показалось, что жена Дойла покосилась в ее сторону, проверяя, слушает ли она, – что те, кто пытается противостоять Тюдорам, должны потом винить только себя.
Та же короткая фраза, те же слова, которые она уже употребила, говоря о наследстве. Возможно ли, чтобы эта женщина была настолько бессердечной, настолько подлой, что вот так, походя, упомянуть о гибели ее брата?
Маргарет посмотрела на мужчин. Ни один из них ничего не заметил, да они и не могли заметить. Неужели продолжилась та игра, которую эта черноволосая женщина уже начала раньше? Она еще и улыбалась своей льстивой улыбкой, когда повернулась к Маргарет:
– У вас просто чудесные волосы.
– Спасибо. – Маргарет улыбнулась в ответ.
Да я же вижу тебя насквозь, думала она, вот только на этот раз ты зашла слишком далеко. Но если жена Дойла хочет войны, она ее получит.
И когда они с мужем несколько минут спустя отправились дальше, Маргарет пробормотала:
– Ненавижу эту женщину.
– Вот как? Почему? – спросил Уолш.
– Не важно. У меня свои причины.
– А мне показалось, – опрометчиво заметил Уолш, – что она симпатичная.
1525 год
Лицо Шона О’Бирна оставалось невозмутимым. Не в его правилах было показывать свои чувства. Но он был недоволен. Сырой мартовский ветер трепал ему волосы. Шон посмотрел на бледно-голубое небо, потом перевел взгляд на их осуждающие лица: сколько же в них превосходства!
На самом деле обвинение было справедливым. Он переспал с той девушкой. Только они не могли этого знать наверняка. И это его раздражало. Все их обвинения строились только на подозрениях и на его репутации. Поэтому и казались ему несправедливыми. И даже нестерпимыми. Причудливый ум Шона О’Бирна считал их куда более виноватыми, чем он сам.
Нет, конечно, он не мог всерьез винить свою жену. Видит Бог, он дал ей достаточно поводов для жалоб за все эти годы. И, наверное, не следовало обижаться на монаха, все-таки он был хороший человек и не сказал ни слова, во всяком случае пока. Другое дело – священник. В таких маленьких местах, как у них, люди просто вынуждены поддерживать друг друга.
Шон О’Бирн никогда не забывал, что в нем течет благородная кровь. Четыре поколения назад его предок, младший сын вождя О’Бирна, получил завидный надел земли на восточной стороне гор Уиклоу. Бльшая часть этого наследства теперь уже исчезла, а то, что осталось, называлось Ратконаном. И Шон, известный как О’Бирн из Ратконана, любил эту землю.
Он любил маленькую квадратную башню из камня в четыре этажа – по одной комнатке на каждом, – которая когда-то была неприступным центром владений его клана, ныне превратившихся в скромную ферму. Любил мягкую траву, что пробивалась между каменной кладкой. Любил забираться на крышу и смотреть на привольные зеленые склоны, уходившие к побережью. Любил веселый гам во дворе, где сейчас играли его чумазые дети, крошечную каменную церквушку, где отец Донал совершал таинства. Любил свои скромные поля, маленький фруктовый садик, пастбище, куда выгонял скот с наступлением зимы. Но больше всего Шон любил дальние склоны гор, где каждое лето пас свои стада и сам мог бродить там, свободный, как птица.
Он любил своих детей. Девочки выросли здоровыми и уже становились настоящими красавицами. Старшая была черноволосой, а ее младшая сестра – светленькой. У обеих были голубые глаза их матери. Шон уже получил несколько предложений насчет старшей. «Тебе вряд ли придется давать за ними большое приданое ради хорошего брака», – недавно сказал ему один сосед. Слышать такое было приятно, и он надеялся, что так и будет. Беспокоил его только старший сын Шеймус. Мальчик был отличным работником, прекрасно разбирался в животных. Но ему уже исполнилось шестнадцать, и он становился немного непоседливым. Шон решил, что настала пора возложить на него какую-то обязанность, но пока не придумал, какую именно. А младшему сыну Финтану было всего пять лет, и о нем пока рано было тревожиться.
И еще Шон любил свою жену. С ней ему повезло. Она была из О’Фарреллов, из Мидлендса, что неподалеку от графства Килдэр. Край скотоводов. Она сразу приглянулась ему – красивая, стройная, светловолосая. Шон долго ухаживал за ней, очень старомодно добиваясь ее расположения, и с тех пор относился к ней с таким же старомодным трепетом. И вот теперь случились все эти неприятности.
– Это гордыня заставляет тебя поступать так, – говорил ему отец Донал. – Гордыня – смертный грех.
Да, он был не только потомком благородного рода О’Бирн, его предок, получивший Ратконан, когда-то заметил темноволосую зеленоглазую девочку, которая часто бегала с поручениями от своего отца к заливу, в Долки или в крепость Каррикмайнс. Он влюбился в нее, женился на ней. Шон знал, что в ее венах текла кровь Уолшей из Каррикмайнса и даже кровь полузабытого Уи Фергуса из Дублина. Как часть своего скудного приданого она принесла в его семью древний череп-кубок, обрамленный золотом, – странное и пугающее напоминание о славном прошлом клана. Гордился ли Шон тем, что происходил от древних правителей этой земли? Безусловно. Но думал ли он, что это дает ему право на любую женщину? Нет, в этом священник ошибался.
Прежде гоняться за женщинами его заставляла ненасытная молодость. Обычная жадность. Он отлично это понимал. Каждая его победа лишь снова и снова доказывала, что он живет полной жизнью. Иногда он успевал за один день насладиться сразу двумя женщинами и говорил себе, что, как и любой мужчина, хочет просто проверить, сколько блюд он может съесть за один раз на этом пиршестве жизни. Это была жадность. И тщеславие. Он завоевал репутацию, которую следовало подтверждать. «А-а, Шон О’Бирн из Ратконана! Ну, это настоящий дьявол в том, что касается женщин» – так о нем говорили. Шон гордился своей репутацией и не собирался ее терять – ну, до тех пор, пока позволят силы. Но было и еще кое-что. Может, это приходит с годами, но Шон, казалось, страдал этим с самого начала. Страх смерти. Разве каждая женщина не доказывала, что он еще молод, полон сил, что он не теряет ни единого драгоценного момента из отведенного ему времени? Да, именно так. Жить на всю катушку, пока не умрешь, пока не будет слишком поздно.
Что до той девушки, то она была неплоха, то есть, вообще-то, она была женой Бреннана. Бреннан уже пять лет арендовал землю, занимаясь фермерством во владениях Шона О’Бирна. Его маленький дом – по сути, жалкая лачуга – стоял по другую сторону небольшого леса, примерно в полумиле вниз по склону. Бреннан был человеком надежным, вовремя платил ренту, трудился не покладая рук. Как и многие такие арендаторы, он не имел никакой защиты. По ирландским законам О’Бирн мог выгнать его в любое время, если бы захотел. Но хороших арендаторов найти было непросто, так что Бреннан его вполне устраивал, хотя и был довольно туповатым и нескладным. И вот что странно: до прошлого года Шон даже не замечал его жену. Он полагал, что Бреннан, скорее всего, просто прятал ее в доме. Но однажды вечером, во время сбора урожая, Шон увидел ее одну в поле и подошел, чтобы поговорить.
Она была очень мила. Широкое лицо. Веснушки. Конечно, от нее пахло фермой, но ощущался и какой-то другой, едва заметный запах, некий особый аромат кожи. К осени и этот запах, и все остальное уже просто преследовали Шона. И еще до начала зимы он овладел этой женщиной. Но ему приходилось быть осторожным. Раньше он никогда не заводил женщин так близко от дома. Но он был уверен: жена не могла их заметить. Догадывался ли о чем-то Бреннан, Шон не знал. Девушка говорила, что муж ничего не подозревает. А если и заподозрил, то вида не подавал. Может, боялся потерять землю. Сама же девушка, как ему показалось, довольно охотно уступила его напору, и он предположил, что с Бреннаном ей попросту скучно. Правда, причина могла крыться в том, что у него была власть над ее мужем, но он предпочитал об этом не думать. И вот сейчас они, скорее всего, сидели в своей лачуге, ничего не зная о постыдном судилище, которое проходило у входа в башню.
– Это неправда, – заявил он жене, не обращая внимания на отца Донала. – Тут и говорить не о чем.
Он не мог понять, почему жена вдруг решила обвинить его именно теперь. Наверное, все-таки потому, что нареченная Бреннана жила слишком близко к их дому. Взгляд жены был твердым и неподвижным, как будто она уже приняла какое-то решение. Но какое? Не кроется ли боль за этим холодным взглядом? Наверняка. Просто она хорошо скрывала свои чувства. Шон не сомневался, что, как обычно, сумеет ее переубедить, но с подружкой ему придется расстаться. Ничего не поделаешь.
– Ты это отрицаешь? – вмешался отец Донал. – И ты всерьез думаешь, что мы тебе поверим?
Раз или два Шон не смог объяснить свои отлучки, а Бреннан, бывало, приходил к ним в поисках своей жены. Один раз, всего один раз жена видела, как Шон обнял девушку за плечи, но тогда он с легкостью отделался какими-то объяснениями. Они не могли ничего доказать. Ничего. Так почему же этот высокий костлявый священник смотрит на него с таким укором, стоя перед порогом его собственного дома?
Шон всегда хорошо относился к отцу Доналу. В общем, им даже повезло, что он здесь жил. В отличие от многих священников маленьких приходов, это был человек образованный, даже в чем-то поэт. И он отлично проводил службы и таинства. Но, как и многим его собратьям, которые служили в бедных ирландских приходах, ему приходилось работать, чтобы как-то прожить. Время от времени он мог отправиться в Долки с рыбаками или даже дальше в залив, чтобы заработать немного денег. «Сам святой Петр был рыбаком», – ворчливо говорил он.
И, как многие священники Ирландской церкви, он имел жену и нескольких детей.
– Там, в английском Пейле, у вас бы их не было, – не раз напоминал ему Шон О’Бирн.
– Это всегда было в традиции Ирландской церкви, – отвечал отец Донал, пожимая плечами.
И действительно, говорили даже, что сам папа римский знал об этой традиции и предпочитал смотреть на нее сквозь пальцы. Правда, Шон не знал, венчался ли священник со своей женой, и никогда об этом не спрашивал. Сам О’Бирн всегда был добр к детям отца Донала, иногда давал им какие-нибудь мелкие поручения и помогал едой. Так что вряд ли строгий, нравоучительный тон священника сейчас выглядел уместно.
– И ты готов в этом поклясться?
Отец Донал пронизывал Шона взглядом из-под густых бровей. Это смутило его. И вдруг Шон догадался. Похоже, священник предлага ему выход из положения? Наверное, это было нечто вроде игры. Шон посмотрел на жену, молча наблюдавшую за ним. Да, он должен ответить ей немедленно.
– Конечно готов! – даже не запнувшись, произнес он. – Клянусь Пресвятой Богородицей!
– Твой муж поклялся, – заявил священник Еве О’Бирн. – Теперь ты довольна?
Но она просто молча отвернулась.
Она не могла на него смотреть. Это было слишком больно.
Иногда, оглядываясь назад, Ева думала, что все трудности в ее жизни происходят оттого, что она отдалась мужу до заключения законного брака. Конечно, ничего необычного не было в том, что за пределами английского Пейла пары сходились еще до того, как женились официально. Отец Евы настоятельно возражал, но она была упрямицей и просто ушла к Шону О’Бирну, не дожидаясь родительского благословения. И это были самые счастливые и самые волнующие месяцы в ее жизни. Но если бы она тогда повнимательнее присмотрелась к характеру Шона, думала теперь Ева, если бы она узнала его получше, вместо того чтобы просто наслаждаться любовью… Но разве она могла думать о чем-то другом, кроме его прекрасного мускулистого тела, когда он сжимал ее в своих объятиях и так умело ласкал ее? Даже теперь, спустя столько лет, его великолепное тело по-прежнему волновало ее. Но годы страданий тоже давали о себе знать.
Когда он впервые начал погуливать? Когда родился их первый ребенок. Ева знала, что ничего необычного в этом нет. У мужчин есть свои потребности. Но в то время ей было невероятно больно. Была ли ее вина в том, что Шон с тех пор так и не прекратил изменять ей? Одно время она действительно винила только себя, но потом поняла, что это неправильно. Она всегда заботилась о своей внешности, все еще оставалась привлекательной и совершенно точно знала, что и муж так считает. Их семейная жизнь вполне устраивала их обоих, и Ева полагала, что ей следует благодарить за это Бога. Кроме того, она была хорошей женой. Земли, оставшейся у них в Ратконане, едва хватало на то, чтобы прокормиться. Вождь клана О’Бирн хотя и был их родственником, но, как и большинство местных ирландских правителей, налагал тяжкую дань за защиту и порядок, правда и сам был вынужден платить большие налоги графу Килдэру. Может, весь этот порядок и назывался английским, но на деле Килдэр властвовал над О’Бирнами так же, как всегда правили традиционные ирландские короли. И Ева наравне со своим гулякой-мужем всегда заботилась о том, чтобы обязательства строго выполнялись каждый год. Именно она следила за тем, чтобы убирали урожай, пока муж подолгу пропадал где-то в горах с их стадом, а это бывало довольно часто. Именно она присматривала за Бреннанами и другими арендаторами. Вот почему она так разозлилась, когда ее муж завел интрижку с женой Бреннана.
– Как ты мог совершить такую глупость? – набросилась она на него. – У тебя появился такой хороший арендатор, а ты решил попользоваться его женой.
Но самое главное: как он мог унизить ее подобным образом, практически в ее собственном доме? Почти двадцать лет брака, любящая жена, дети – неужели все это не имело для него никакого значения? Неужели он совсем ее не уважал? То есть на самом деле Ева возмутилась не из-за женщины как таковой. Ее оскорбила ложь, именно ложь причинила ей такую боль. Муж знал, что ей все известно, но лгал прямо ей в глаза. Неужели он даже не осознавал, какое огромное презрение к ней он выказывал своим поведением? Поэтому Ева и убедила священника заставить мужа дать клятву: в надежде, что хотя бы раз она заставит его сказать правду. Ей просто хотелось докричаться до него, что-то изменить.
Она думала, что Шон постесняется солгать священнику. Особенно потому, что рядом весьма кстати оказался этот монах. Как бы ни вел себя Шон, к религии он всегда относился с почтением, и Ева знала это. Не однажды ей доводилось видеть, как он давал деньги странствующим монахам, когда думал, что ее нет рядом. И она любила его за это. Как и большинству людей, даже тем, кто не слишком жаловал священников, не чуждых всем мирским слабостям, или оседлых монахов, ему нравилось помогать бедным странникам, которые посвятили себя тому, что несли слово Божие или ухаживали за страждущими, ведя при этом весьма скромную жизнь. Почитание святынь тоже не было чуждо ему. Однажды, когда они приехали в собор Христа, чтобы посмотреть на Бачал Изу – посох святого Патрика – и другие реликвии, что хранились там, Ева увидела в глазах Шона благоговение и даже страх. Да, возможно, Шону О’Бирну и нравилась его слава лихого парня, но, как и все другие, он по-прежнему опасался священных реликвий.
И все же он снова солгал. Он дал священную клятву так же легко, как соблазнил ту женщину. Возможно, не стоило выбирать именно отца Донала для такого дела, решила Ева. Священник слишком хорошо его знал. Шон, вероятно, решил, что не будет ничего страшного в том, если он солжет отцу Доналу. Что же касается монаха, то он был только случайным свидетелем и вряд ли мог что-нибудь изменить. Вот почему после этой неловкой сцены Ева чувствовала себя ничуть не лучше, чем прежде. Она отлично знала, что Шон теперь будет смотреть на нее с победоносной улыбкой. Она не сумела ничего добиться. Поэтому она ничего не ответила на вопрос священника и просто отвернулась.
Монах, которого привел к ним отец Донал, шел к отшельнику, жившему рядом с Глендалохом. Когда все закончилось, Шон повернулся нему, приглашая войти в дом. Конечно, доброго монаха следовало накормить. Ева глубоко вздохнула и вспомнила о своих обязанностях хозяйки. Но, даже уступая, она мысленно поклялась себе, что еще разберется с Шоном О’Бирном.
В то утро, когда ее схватили, Сесили как раз проходила через восточные ворота. Двое мужчин сжали ей руки, третий шел впереди, явно довольный собой. Когда это произошло, Сесили настолько растерялась, что смогла лишь тихо вскрикнуть, а когда опомнилась, они уже вели ее вверх по склону.
– Вы не можете меня арестовать! – возмутилась она. – Я не сделала ничего плохого!
– Это мы еще посмотрим, – ответил мужчина, что шел впереди. – В толселе.
Обветшавшая, старая ратуша с ее уродливым фронтоном уж точно не относилась к числу тех зданий, которыми могла гордиться дублинская община. Каждый год кто-нибудь из олдерменов заявлял, что здание необходимо подновить, и все соглашались, но почему-то на это никогда не находилось денег. «Сделаем в следующем году», – говорили члены городского совета.
И тем не менее толсел, сонно глядевший своим старым, потрепанным лицом на собор Христа, обладал одним захудалым достоинством. И в тот день, за дружеской беседой, компания чиновников вдруг решила, что неплохо бы отправить в город несколько нарядов, чтобы те поискали на улицах нарушителей, которых можно было бы оштрафовать. Они ждали Сесили в верхней комнате.
Ее проступком, можно даже сказать, маленьким преступлением было то, что она позволила себе надеть яркий шафрановый шарф.
– Ваше имя?
Она ответила. Сесили Бейкер. Самое обычное английское имя, хотя оно и скрывало то, что, как и у множества других дублинцев, мать Сесили была ирландкой с фамилией О’Кейси. Но формально она была англичанкой, жительницей Дублина, и потому ей не дозволялось носить вещи шафранового цвета, столь популярные среди коренных ирландцев.
Но в этот день стражи закона искали в городе не только давно запрещенную ирландскую одежду. В Дублине, как и в Лондоне, и в других городах, существовало множество древних законов, определявших, что и кому носить. Ремесленники не могли одеваться как олдермены, стоявшие выше их по положению. Монахиням запрещалось надевать меха. Все эти правила, как и многие другие, были направлены на поддержание общественного порядка и нравственности. Некоторые законы соблюдались строже других, но все их следовало помнить, на случай если власти вдруг решат заявить о себе или пополнить городскую казну.
Отвечая на вопросы, Сесили сообщила, что она не замужем, но помолвлена, что работает белошвейкой и живет неподалеку от южных ворот, по другую сторону стены.
– Теперь мне можно идти? – спросила она.
Если ей хотели предъявить какой-то иск, теперь они знали, где ее искать. Но, к огорчению Сесили, уйти ей не разрешили. Кто-то должен был прийти и поручиться за нее, настаивали чиновники. Поэтому девушка сообщила им имя молодого человека, за которого собиралась выйти замуж. Генри Тайди, перчаточник. И за ним послали. Потом Сесили велели сесть на деревянную скамью и ждать.
Сесили Бейкер была серьезной молодой женщиной. У нее были круглое лицо, румяные щеки, остренький носик и очаровательная улыбка. Она была очень достойной женщиной и к тому же обладала очень твердыми убеждениями.
Сесили считала Католическую церковь священной. Кто-нибудь мог и критиковать недостатки некоторых религиозных орденов, но важна была только вера, и веру следовало решительно защищать. Те люди в других странах, а Сесили слышала о Лютере и так называемых протестантских реформаторах на континенте, которые вознамерились свергнуть освященный веками порядок, на ее взгляд, были просто негодяями и преступниками, и если католические монархи вроде короля Генриха VIII хотели их сжечь, Сесили ничего не имела против. Она думала, что это, пожалуй, только к лучшему. Она регулярно посещала мессу и исповедалась в грехах перед своим духовником; и когда в прошлом месяце он забыл сказать, сколько раз она должна прочитать «Аве Мария» в наказание за небольшое прегрешение, а в следующий раз и вовсе просто пожурил ее для острастки, Сесили вежливо, но твердо указала ему на ошибку. А еще у нее были четкие понятия о том, как должны вести себя друг с другом молодые пары, такие же, как они с Тайди, до и после свадьбы. И понятия эти оказались настолько свободными и неумеренными, что молодой Тайди был просто поражен. А тот факт, что в плотских грехах потом следовало признаться священнику, был лишь обязательной частью процесса.
И, возможно, именно убежденность в том, что она всегда выполняла все религиозные обязанности, давала Сесили такую же убежденность в том, что светские власти не вправе обращаться с ней несправедливо. Она отлично знала, что ее арест – лишь за то, что она надела старый шарф ее матери, – был смехотворен. Она знала об этом запрете, но понимала и то, что эти люди в толселе просто пытаются собрать хоть сколько-нибудь денег. Она ничуть не испугалась. Но ей хотелось, чтобы Генри Тайди поспешил. В конце концов, она начинала чувствовать себя одинокой, сидя на твердой скамье.
Ждать ей пришлось почти час. Когда же Тайди наконец появился, он был не один. И выглядел встревоженным.
Сесили поднялась ему навстречу. Это был молодой человек, которого она любила. Сесили улыбнулась. И сделала шаг к нему, рассчитывая хотя бы на поцелуй. Однако, к ее удивлению, Тайди не сделал ответного шага. Он остался стоять там, где стоял, его лицо было напряжено, а голубые глаза смотрели на нее с упреком.
– Ты сообщила им мое имя.
Ну конечно сообщила. Разве они не собирались пожениться? Разве он не должен защищать ее?
– Они сказали, что им нужен кто-нибудь, кто поручится за меня.
– Я привел Макгоуэна.
– Это я вижу.
Сесили вежливо кивнула торговцу. Почему при виде этого человека она всегда испытывала неловкость? Может, из-за его испытующего взгляда? Или потому, что он имел репутацию человека очень умного и Сесили никогда не могла понять, о чем он думает? Но она знала: многие люди доверяют Макгоуэну и обращаются к нему за советом.
– Он свободный горожанин, – пояснил Тайди.
Быть свободным горожанином многое значило в Дублине. Такие люди имели право избираться в городской совет, торговать без уплаты пошлины и даже торговать с заморскими купцами. Генри Тайди, который собирался открыть свое дело, тоже мог довольно скоро получить статус свободного горожанина, если совет олдерменов решит, что он этого достоин. То, что он привел с собой Макгоуэна, говорило о том, что сам он считал этот нелепый арест вполне серьезным делом. Макгоуэн уже отошел, чтобы поговорить с людьми, восседавшими за высоким столом. К нему они явно проявили больше уважения, чем к ней. Сесили слышала, как они тихо разговаривают.
А Генри Тайди тем временем вел себя не слишком любезно. Он смотрел на Сесили так, словно она совершила нечто такое, что не укладывалось в его голове.
– Сесили, как ты могла так поступить? Ты ведь знаешь закон!
Конечно, она знала закон. И все равно ее арест был глупостью. Неужели он этого не понимает?
– Ты знаешь закон, – повторил Тайди.
Его странное поведение уже начало обижать Сесили. Чего он так перепугался?
Тем временем разговор у стола закончился. Сесили видела, как Макгоуэн кивнул. Через мгновение он подошел к ней и сказал, что она может идти. Но когда Тайди бросил на него вопросительный взгляд, Макгоуэн лишь качнул головой и только на улице сказал:
– Они не хотят прекращать это дело.
– И что нам делать? – спросил Тайди.
– Ты спрашиваешь моего совета? Нам нужно встретиться с Дойлом.
– С Дойлом… – Тайди задумался.
Сесили знала, что он немного знаком с олдерменом, уже много лет – он сам рассказывал ей об этом с гордостью. Знала она и то, что этот человек внушал Генри какой-то благоговейный страх.
– Думаю, – с сомнением произнес он, повернувшись к ней, – тебе тоже лучше пойти.
Сесили уставилась на него во все глаза. И это все, что он мог сказать? Ни слова сочувствия? Он что, действительно думает, будто она в чем-то виновата?
Тайди немного сутулился. Раньше она никогда не обращала на это внимания, правда иногда ей казалось, что поднятые плечи даже придают ему решительный вид. А теперь ей вдруг пришло в голову, что он похож на горбуна. Его маленькая рыжая бородка клинышком торчала вперед. Это раздражало Сесили, хотя она и не понимала почему.
– Незачем, – резко ответила она. – Я иду домой. – Она повернулась и пошла прочь.
А он даже не попытался ее остановить.
Дом олдермена был недалеко. Дойл отсутствовал, но его жена была дома. Поэтому Макгоуэн оставил Тайди с ней, а сам отправился на поиски члена городского совета.
Сидя в огромном доме олдермена в обществе его красивой жены, похожей на испанку, Генри Тайди сначала ощущал небольшую неловкость. Он знал госпожу Дойл, как он уважительно ее называл, еще с тех пор, как был учеником, и втайне всегда восхищался ею, но никогда ему еще не доводилось встречаться с ней в ее доме. Они сидели в маленькой уютной гостиной, госпожа Дойл тихо работала за прялкой вместе с одной из своих дочерей и лишь время от времени задавала Тайди какой-нибудь вопрос, на который тот смущенно отвечал. Потом она отослала дочь с каким-то поручением, и они остались вдвоем.
– Ты тревожишься? – ласково улыбнулась она Тайди.
Вскоре он перестал смущаться и стал более откровенен с ней. Дело было не только в аресте, объяснил Тайди, он знал, что с Сесили обращались грубо, и хотел защитить ее. Но все оказалось не так просто. Слухи быстро разлетаются по Дублину. И Тайди знал, что начнут говорить люди: «Молодой Тайди выбрал глупую девушку. Баламутку». Разве Сесили не должна была об этом подумать? – спрашивал он. Он не хотел сердиться на нее, но разве Сесили не должна была проявить больше осмотрительности? И еще его тревожило то, что девушка не показала большого ума. Пока Тайди жаловался, Джоан Дойл участливо смотрела за ним.
– Вы ведь с ней обручены? – спросила она, и Тайди кивнул. – Но у тебя есть сомнения? Знаешь, в этом нет ничего необычного.
– Конечно, – согласился Тайди. – Но, видите ли… – неловко продолжил он, – я вскоре должен получить привилегии…
Она сразу все поняла.
– О Боже! С этим сложнее.
В Дублине, как и в большинстве городов, существовало несколько способов стать свободным горожанином. Можно было вступить в какую-нибудь гильдию или, что использовалось чаще, получить привилегии напрямую от муниципалитета. Однако по сравнению с другими городами в Дублине женщинам предоставлялось гораздо больше прав. Возможно, это объяснялось традиционно высоким статусом женщин на острове, но, так или иначе, в Дублине у них было намного больше возможностей, чем в любом из английских городов. Вдова наследовала право вольности от своего умершего мужа, но и другие женщины – замужние или одинокие – также могли самостоятельно получить все привилегии свободных горожанок. Но самым удивительным было то, что, если мужчина женился на свободной горожанке, он тоже получал свободу. Дойл уже пообещал жене, что добьется прав вольности для всех своих дочерей. В дополнение к приданому, которое он мог за ними дать, это сделало бы их еще более завидными невестами.
Тайди рассудил, что если вдова имеет право стать свободной горожанкой, то отцы города должны очень внимательно отнестись к избраннице мужчины, которому они собираются дать привилегии. А после сегодняшних событий он очень сомневался, что они сложат о Сесили непредвзятое мнение. И если бы олдермены решили, что Сесили ему не подходит, он не стал бы винить их. Какая муха ее укусила? Почему она себя так вела?
– Вот я и хочу понять, должен ли я на ней жениться, – с несчастным видом признался он. – После того, как она со мной поступила.
– Уверена, она не хотела огорчить тебя, – благожелательно заверила его жена олдермена, внимательно наблюдавшая за перчаточником. – Ты ее любишь?
– Да. О да! – Он действительно ее любил.
– Вот и хорошо. – Госпожа Дойл улыбнулась. – О! – тут же воскликнула она. – Вот и муж вернулся!
Олдермен стремительно вошел в гостиную, поцеловал жену и дружески кивнул Тайди.
– Не стоит так тревожиться из-за этой глупой истории, – твердо заявил он юноше. – Макгоуэн мне все рассказал. Я могу добиться, чтобы об этом забыли, хотя ей, конечно, вынесут предупреждение. Этого следовало ожидать. – Он посмотрел на Тайди чуть более строго. – Если ты имеешь какое-то влияние на эту молодую женщину, то должен ее убедить, чтобы в будущем она вела себя осмотрительнее.
Разговор был окончен, во всяком случае для Дойла, он вежливо улыбнулся, давая Тайди понять, что тот может уходить.
– Они собираются пожениться, – мягко вмешалась госпожа Дойл. – А он должен вскоре получить привилегии. И теперь он боится…
Дойл помолчал, поджав губы. Потом повернулся к Тайди, задал ему несколько вопросов о его положении в гильдии перчаточников, а также о девушке и ее семье. Затем покачал головой. Он давно уже знал: если нужно сообщить плохую весть, лучше сделать это как можно быстрее.
– Думаю, они тебе откажут, – честно сказал он. – Заявят, что твоя жена – ирландка.
Если старый запрет на ирландскую одежду до сих пор действовал в Пейле, то право голоса в самом Дублине уж точно приберегалось только для англичан, и отцы города довольно строго подходили к этому вопросу. Однако куда более тонким был другой вопрос: кого считать англичанином, а кого ирландцем? Макгоуэн, к примеру, был ирландцем – и по имени, и по происхождению. Но уважаемый род Макгоуэнов был известен еще со времен Бриана Бору. Их поколения жили в Дублине уже несколько веков, и они считались англичанами, поэтому сам Макгоуэн получил все права свободного горожанина. Казалось бы, среди членов муниципалитета и вовсе не должно было быть ирландских имен, и все же ирландский торговец по фамилии Малоун стал настолько богат и известен, что получил место олдермена, и его ирландское происхождение предпочли просто-напросто не замечать. И наоборот, род Харольд на протяжении многих поколений истово защищал английский порядок от нападок ирландцев на пограничных землях, однако дублинский совет решил, что некоторые Харольды в последнее время уж слишком одичали в своей глуши и ведут себя как-то очень по-кельтски, поэтому одному из них было недавно отказано в привилегиях вольности. Возможно, реальное положение дел лучше всего выразил Дойл, когда однажды колко заметил на собрании олдерменов:
– Англичане те, кого я так называю.
Даже несмотря на то, что мать Сесили Бейкер была ирландкой, ее принадлежность к англичанам ни у кого не вызвала бы сомнений, если бы не эта история. Дойл мог замять дело, но девушка уже привлекла к себе внимание, люди наверняка станут судачить об этом, и когда Тайди придет на заседание городского совета, какой-нибудь хлопотун наверняка вспомнит о шафрановом шарфе. Тайди был простым скромным парнем из одной из младших гильдий, у него не было сильной поддержки, а его невеста бегала по городу в ирландской одежде, напрашиваясь на неприятности. Конечно, ему откажут. Дойл не был знаком с Сесили, но ему казалось, что умом она явно не блистала, и он даже подумал, что молодой Тайди мог найти кого-нибудь получше. По его мрачному взгляду жена поняла все без слов.
– Он ее любит, – негромко сказала она. – Неужели мы ничего не можем сделать?
Сделать? Но что? Объявить олдерменам древнего Дублина, что Генри Тайди любит Сесили Бейкер и поэтому ему нужно дать права свободного горожанина? Дойл с нежностью посмотрел на жену. Наверное, она бы именно так и поступила, подумал он. И возможно, добилась бы своего. Но все было не так просто. Если бы Дойл всерьез взялся за это дело, он бы, скорее всего, смог помочь Тайди. Но даже такой влиятельный человек, как он, не мог рассчитывать на бесконечную благосклонность. А ему ведь нужно было еще добиваться привилегий свободных горожанок для собственных дочерей. И неужели он станет растрачивать драгоценные возможности ради подруги юного Тайди, без которой, пожалуй, тому было бы лучше?
– Они могут быть так же счастливы, как мы, – ласково сказала его жена, словно отвечая на его мысли.
Но в самом ли деле Тайди нашел то тепло, ту нежность, ту щедрость духа, что познал сам Дойл? Дети, родня, друзья, а теперь еще и этот унылый молодой человек и его глупая подружка – жена вовлекала их всех в круг своей доброты, созданный ею в доме. Дойл покачал головой и засмеялся.
– Ты тоже в это втянулась. – Он слегка сжал руку жены. – Сесили Бейкер должна понять, что ей никогда больше не следует совершать чего-то подобного. Она должна стать образцовой горожанкой. Но если она снова нарушит закон, – Дойл строго посмотрел на жену, – это может повредить моей репутации и моим возможностям помочь собственной семье. Так что, пожалуйста, удостоверься, что она готова измениться. – Он повернулся к Тайди. – Я не могу ничего тебе обещать, но постараюсь замолвить за тебя словечко. – И он очень сурово посмотрел на юношу. – Если ты женишься на этой девушке, то должен быть уверен в том, что сможешь держать ее в строгости. Иначе не рассчитывай на мою дружбу.
Тайди с благодарностью пообещал сделать все как надо, а добрая госпожа Дойл прямо на следующий день сама отправилась повидать Сесили.
Весна прошла для Уолшей без особых событий. Но летом Маргарет заметила, что ее муж чем-то встревожен.
Одна из причин была очевидной. Весной погода их не часто радовала, а лето стало и вовсе настоящим бедствием. Хмурые дни, холодные ветра, морось. Маргарет и припомнить не могла худшего лета, и ей было ясно, что весь урожай погибнет. Все выглядели мрачными. Предстоящий год в замке Уолшей не предвещал ничего хорошего.
Однако в июле Маргарет поняла, что мужа беспокоит что-то еще. Она всегда могла точно сказать, когда он волнуется. У него была привычка сцеплять пальцы и смотреть на них не отрываясь. Но она решила, что лучше подождать, пока он сам все не скажет, и примерно за неделю до праздника Лугнасад он так и сделал.
– Мне нужно съездить в Манстер ненадолго, – сказал он.
Несколько месяцев назад ему предложили взять на себя юридические дела одного дублинского монастыря. Это было весьма кстати, так как плата могла возместить убытки от плохого урожая. Уолш уже довольно долго занимался этой работой, но теперь, как он объяснил жене, понадобилось его личное присутствие в Дублине.
– Ты боишься, что я тут не управлюсь без тебя? – весело спросила мужа Маргарет.
– Нет, конечно. – Он улыбнулся с легкой грустью. – Наоборот, мне кажется, ты будешь только рада избавиться от меня на какое-то время. – Он немного помолчал. – Но я не хочу, чтобы ты кому-нибудь говорила, куда я поехал.
– Я не должна говорить, что ты в Манстере?
– Это могут неправильно понять.
– Но почему? – спросила Маргарет.
Уильям Уолш всегда внимательно следил за политическими событиями. Он все еще надеялся получить место в парламенте, однако последние семь лет были не самым благоприятным временем для того, чтобы заниматься политикой.
На первый взгляд, в Ирландии все было по-прежнему. Король находился далеко; Батлеры и Фицджеральды все так же боролись за власть, и Фицджеральды, как всегда, оказывались сильнее. Но все же кое-что изменилось.
Уолш помнил ту историю о короле Генрихе, которую рассказал Дойл в день их встречи в Мейнуте, и то предостережение, которое в ней таилось. Прошел всего год, и характер Генриха проявил себя, когда Килдэр и его монарший друг разругались. Причиной ссоры стал сложный юридический вопрос, касавшийся наследства Батлера: у Генриха было одно мнение, у Килдэра в Ирландии – прямо противоположное. И вскоре после этого граф Килдэр был вызван Генрихом в Англию, а некий важный английский вельможа поставлен на его место править Ирландией. Уолш после того дружеского разговора в Мейнуте старался ненавязчиво поддерживать отношения с Дойлом, и именно во время одной их беседы в Дублине олдермен сам вернулся к теме, которую они уже обсуждали прежде.
– Вы должны понять, – заметил он, – что под всем этим королевским великолепием Генриха скрывается испорченный ребенок. Никто никогда не говорил ему «нет». Если он чего-то хочет, то уверен, что должен это получить. Благодаря тому огромному состоянию, которое оставили ему преданные советники его отца, он мог строить новые дворцы и снаряжать разные глупые походы на континент. И все ради славы. Скоро он опустошит казну. Его отец умел подстраиваться под обстоятельства, он простил Килдэра за ту историю с Симнелом и позволил ему управлять Ирландией, потому что никто другой этого не мог. Отец Генриха был прагматиком, а его сын полон самомнения. Если Килдэр ему возражает или смеется над ним, Генрих этого не потерпит. Его дружба, как я уже вам говорил, ничего не стоит.
Хотя Уолш и понимал, что Дойл, возможно, прав, он все-таки считал, что Фицджеральды настоят на своем, и дальнейшие события это подтвердили. Прошло еще чуть более года, и английский вельможа стал умолять, чтобы его отозвали обратно.
– Чтобы установить на этом острове английский порядок, нужна гигантская армия и военная кампания лет на десять, – говорил он королю. – Вам лучше предоставить это графу Килдэру.
Однако Генрих не собирался так легко сдаваться. Он передал власть Батлерам. Но, как обычно, Фицджеральды вскоре лишили Батлеров возможности реально управлять. Постоянно происходили стычки и неприятности. Один из Толботов, добрый друг Батлеров, был даже убит родным братом Килдэра. Королю ничего не оставалось, как уступить, и в прошлом году Килдэр был возвращен на должность правителя острова с условием, что он будет сотрудничать с Батлерами. Конечно, все было обставлено так, чтобы сохранить лицо. Генрих обнял Килдэра, прижал к груди, и они поклялись друг другу в вечной преданности и дружбе. Генрих даже предложил своему другу одну из собственных двоюродных сестер в качестве английской невесты. Но его глаза не улыбались. И Фицджеральды вовсе не дали себя обмануть.
– Он бы с радостью нас уничтожил, но не может, – решили они.
И совершенно не встревожились. Они уже пережили несколько поколений английских королей.
Уильяму Уолшу казалось, что его преданность графу Килдэру, скорее всего, послужит теперь к его выгоде. И действительно, недавно в парламенте появился шанс на освобождение места, и Уолш надеялся, что при поддержке Фицджеральдов и расположении некоторых важных людей в Дублине, включая Дойла, он вполне может вскоре оказаться членом парламента. Но тут следовало быть осторожным. Очень осторожным. И сейчас более, чем когда-либо. Потому что последние слухи, что дошли до Уолша в Дублине, испугали его, и не без причины. Касались они Манстера.
Когда до королевского двора в Англии начали доходить донесения от шпионов о том, что Фицджеральды засылают эмиссаров к его врагам, король Генрих поначалу просто не мог в это поверить.
– Какого черта! – восклицал он. – Что там затеяли эти проклятые Фицджеральды? Не пахнет ли здесь предательством? – добавлял он угрожающим тоном.
И в самом деле, другой важный вельможа клана Фицджеральд, родственник Килдэра граф Десмонд, пребывавший в Манстере, посылал людей к королю Франции, и это вовсе не было так странно, как могло бы показаться. Провинция Манстер с древности имела большие торговые связи с Францией и Испанией и заботилась о собственных интересах за морем, а графы Десмонды посылали своих представителей во Францию и к Бургундскому двору еще со времен Плантагенета. Так что у короля Генриха были основания подозревать: ведь граф Десмонд действительно заключил тайное соглашение на тот счет, что, если правление Тюдоров в Ирландии станет уж слишком неприятным, он мог бы стать союзником Франции и искать защиты у французского короля. Для Десмондов, привыкших за многие поколения к древней ирландской независимости у себя в Манстере, это, возможно, и выглядело дерзостью, но вопрос-то был чисто деловой. Однако Генрих считал Десмонда своим подданным, и его посольство воспринимал как государственную измену.
Когда Генрих стал выяснять у Килдэра о связях Десмонда с врагами Англии, тот лишь рассмеялся.
– Десмонд – странный человек, – сказал он королю. – Я не могу отвечать за то, что он там затевает в Манстере.
– Лучше бы ты отвечал, – предостерег его король, – потому что я считаю ответственным именно тебя.
Это случилось несколько месяцев назад, и потом все как будто затихло, по крайней мере в Дублине.
Но совсем недавно до Уолша дошел другой, куда более тревожный слух. Представителей рода Плантагенетов по-прежнему было немало. Большинство из них предпочитали держаться подальше от неприятностей и от Англии. Но всегда оставалась вероятность, что кого-нибудь из них могут использовать иностранные силы, чтобы начать войну против короля Генриха, подобную вторжению Ламберта Симнела. Этого Генрих боялся постоянно. Поэтому, когда Уолш услышал, что французский король задумал такую же историю с одним из Плантагенетов, он мог быть уверен только в двух вещах: что Тюдор сразу заподозрит любого, кто отправится повидать любителя французов Десмонда, и что у короля наверняка есть шпионы и в Дублине, и в других портах, и они отмечают всех, кто направляется в Манстер.
– Дело вот в чем, – объяснял теперь Уолш своей жене. – Мало того, что мне, адвокату, обласканному Фицджеральдами, придется отправиться в Манстер. Помимо основного дела, мне еще придется встретиться там с самим графом Десмондом.
– И ты непременно должен ехать?
– Да, должен. Я и так долго откладывал, больше ждать нельзя.
– Как мне помочь тебе?
– Я отправлюсь прямиком в монастырь. Если повезет, я, может быть, сумею и с Десмондом там встретиться. Но я не должен никому говорить, что еду именно в Манстер, и ты тоже никому не говори. Если кто-нибудь спросит, хотя это вряд ли, отвечай, что я в Фингале. И ни в коем случае не упоминай, что я собираюсь встретиться с Десмондом.
– Не стану, – пообещала Маргарет.
На второй неделе августа начиналось время сбора урожая. Вот только урожая не было. Стебли в полях потемнели и намокли. Лето, которое так толком и не наступило, подходило к концу. Недавно, впрочем, в воздухе разлилась какая-то странная влажная жара и долго висела над землей. За Дублинским заливом, под серым небом, распухшее беловатое море было похоже на закипающее молоко в кастрюле перед тем, как убежать. Как заметил этим утром конюх Дойлов, как будто сейчас и не лето вовсе.
Три дня назад Джоан с мужем отправились в Долки. Внешне эта деревня почти не менялась последние полтораста лет, однако вдобавок к складу Дойла теперь здесь появилось еще полдюжины подобных складов, принадлежавших крупным купцам и сквайрам, включая Уолша из Каррикмайнса, которые хотели воспользоваться преимуществами глубоководной гавани. Дойл время от времени наезжал туда, чтобы проверить склад или присмотреть за разгрузкой, и Джоан обычно сопровождала его. Она наслаждалась сокровенной тишиной рыбацкой хижины под холмами. Они с мужем пробыли там два дня, пока дела не призвали Дойла обратно в Дублин, а она решила не спешить и отправиться назад верхом, вместе с конюхом, на следующий день.
Это было ошибкой. Надо было выехать рано утром. Давящая атмосфера и темнеющее небо должны были ее предостеречь. Но Джоан задержали домашние дела, которые, конечно же, вполне могли подождать до другого случая. Незадолго до полудня, когда они наконец выехали, стало ясно, что надвигается гроза.
– Мы будем уже в Дублине, когда она до нас доберется, – сказала Джоан.
Проезжая мимо Каррикмайнса, они услышали раскаты грома над горами Уиклоу. Джоан с сожалением сказала конюху, что они, пожалуй, основательно промокнут, а немного позже небо совсем почернело и над деревьями пронеслись первые порывы ветра. Она засмеялась:
– Да мы утонем! – засмеялась Джоан.
Но когда буря наконец сорвалась с гор и догнала их, она оказалась такой силы, какой Джоан и вообразить себе не могла.
Оглушительно гремел гром, сверкали молнии. Казалось, будто небеса разверзлись. От испуга лошадь Джоан встала на дыбы, едва не сбросив наездницу. Уже через мгновение дождь лил сплошной стеной, и всадники почти не видели дороги перед собой. Они решили поискать какое-нибудь убежище. Поначалу ничего не удавалось заметить, но вскоре за поворотом показались серые приземистые строения, едва различимые за пеленой воды. Они не мешкая направились туда.
День проходил спокойно. Уолш уехал. Маргарет осталась дома с дочерями и младшим сыном Ричардом. Мальчик мастерил в сарае новый стул; руки у него были золотые. Дочери хлопотали на кухне вместе со слугами. Маргарет как раз смотрела на дождь за окном – совсем недавно в их доме появились настоящие стекла, чем она очень гордилась, – когда услышала какой-то шум за дверью. Увидев на пороге двух промокших путников, она, конечно, сразу пригласила их войти.
– Бог мой! – воскликнула она. – Да вы вымокли до нитки! Вам нужно немедленно переодеться в сухое!
И каково же было ее удивление, когда одна из гостей сняла наброшенный на голову шарф и весело воскликнула:
– Надо же! Да ведь это та самая женщина с чудесными волосами!
Это оказалась проклятущая жена Дойла. На мгновение Маргарет даже подумала, что олдерменша нарочно сюда заявилась, чтобы позлить ее, но оглушительный раскат грома напомнил ей о всей нелепости такого предположения.
После их встречи в Мейнуте прошло семь лет. Время от времени муж Маргарет упоминал о том, что видел ту женщину в Дублине, и раз или два Маргарет сама видела ее мельком в свои редкие приезды в город, хотя каждый раз сворачивала в сторону, чтобы избежать встречи. И теперь вдруг эта злыдня в ее доме, смотрит своими ясными карими глазками, прехорошенькая, и выглядит даже моложе своих тридцати семи лет.
– Женщина с огненными волосами! – с восторгом повторила гостья, несмотря на то что в этих волосах уже появились седые прядки.
– Вам лучше подойти к огню, – сказала Маргарет и подумала: скорее бы закончилась эта гроза, чтобы нежданные гости уехали.
Но гроза не уходила. Скорее наоборот – перебравшись через перевал, она, похоже, решила зависнуть над огромной излучиной залива, накрыв стеной дождя Долки, Каррикмайнс и все окрестности.
Конюха увели на кухню, и Маргарет послала дочь найти для жены олдермена какую-нибудь сухую одежду. Сама же Джоан Дойл все с той же бодрой улыбкой подошла к очагу, сбросила с себя мокрую одежду и с благодарностью приняла предложенный ей бокал вина. Потом, надев одно из домашних платьев Маргарет и заметив, что, похоже, ей придется провести здесь какое-то время, она села на широкую дубовую скамью, уютно поджала под себя ноги и приготовилась поболтать.
Возможно, именно ее жизнерадостность и вызывала у Маргарет такое раздражение. Урожай погиб, Уильям Уолш уехал, рискуя своей репутацией, а эта изящная дублинка, не обращая внимания на бушующий за окном ливень, преспокойно себе щебечет, словно в мире ничего дурного не происходит. Она говорила о разных событиях в городе, о своей жизни там и вдруг обронила ни с того ни с сего – во всяком случае, Маргарет никакой связи не увидела:
– Вам повезло, что вы живете здесь.
И начала говорить о том, как чудесно в Долки. Описала свою поездку в Фингал. Но когда она мимоходом выразила сожаление по поводу убийства Толбота в конце прошлого года, Маргарет потеряла терпение и неожиданно для самой себя ядовито заметила:
– Ну, одним Толботом меньше, какая разница?
Это было совершенно непростительно. Нельзя было позволять себе такую жестокость, даже если бы она не знала, что семья Батлер – родная семья Джоан – весьма близка с Толботами. И сколько бы колкостей ни наговорила ей эта женщина в прошлом, оскорблять ее, когда она была гостьей в их доме, было верхом грубости. Маргарет стало ужасно стыдно, но оскорбление уже попало в цель. Она увидела, как жена Дойла задохнулась от изумления и покраснела. И вряд ли можно было угадать, куда повернет разговор дальше, если бы из сарая в дом не вернулся пятнадцатилетний сын Маргарет, Ричард.