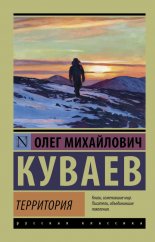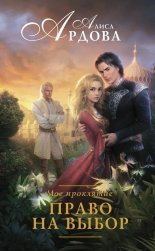Плексус Миллер Генри

Ее не пришлось долго уговаривать. Она согласилась с тем доводом, что если мы поедем автостопом, то больше увидим. К тому же, когда едешь с женщиной, легче остановить машину.
Хозяйка была слегка озадачена нашим внезапным решением, но, когда я объяснил, что получил заказ написать книгу, она, похоже, была рада за нас и пожелала доброго пути.
– А о чем будет книга? – спросила она, пожимая мне руку на прощанье.
– Об индейцах чероки, – ответил я и быстренько захлопнул за собой дверь.
Мы довольно легко останавливали машины, но, к моему удивлению, у Моны наша поездка не вызвала ничего, кроме разочарования. К тому времени как мы добрались до Харперс-Ферри, ее просто тошнило от всего: от пейзажа, от городков, которые мы проезжали, от людей, которых встречали, от еды в придорожных закусочных.
В Харперс-Ферри мы приехали под вечер. Уселись на скале, с которой открывался вид на три штата. Внизу под нами текли Шенандоа и Потомак. Святое место, хотя бы по той причине, что здесь нашел свою смерть Джон Браун, великий Освободитель. Мону, однако, совсем не интересовали исторические события, связанные с этим местом. Она не могла отрицать, что открывающийся вид преисполнен величия. Но он внушал ей чувство безысходности. Откровенно говоря, я чувствовал почти то же, но по иным причинам. Невозможно было не поддаться воздействию этого места. Слишком значительные события произошли тут, чтобы можно было позволить себе думать о собственных невзгодах. Сквозь проступившие слезы читал я слова Томаса Джефферсона, сказанные им об этом самом месте и высеченные на памятной доске, прикрепленной к скале. Слова Джефферсона звучали величественно. Но еще больше величия было в поступке Джона Брауна и его верных сподвижников. «Ни один человек в Америке, – сказал Торо, – не боролся с таким упорством за человеческое достоинство, сознавая себя человеком и личностью, обладающей такими же правами, как любые правительства». Фанатик? Возможно. Кто, кроме праведника, мог замыслить низвергнуть прочное консервативное правительство Соединенных Штатов, имея всего лишь горстку сторонников? Слава Джону Брауну! Слава в вышних! «Я верую в Золотое правило, сэр, и в Декларацию независимости. Я думаю, они означают одно и то же. Лучше целое поколение – мужчины, женщины, дети – погибнет насильственной смертью, нежели то и другое хоть на йоту изменятся в этой стране». (Слова Джона Брауна, произнесенные им в 1857 году.) Не будем забывать, что Освободителей, захвативших город Харперс-Ферри, было всего двадцать два человека, семнадцать из которых были белые. «Горстка людей, знающих, что правда на их стороне, способны сбросить короля с трона», – сказал Джон Браун. Собрав двадцать человек в Аллеганских горах, он был уверен, что сможет в два года покончить с рабством. «Те, кто получит свободу, должны присоединиться к борьбе». Вот вам краткий портрет Джона Брауна. Фанатик? Больше чем вероятно. Тот, кто сказал: «Человек умирает, когда приходит его время, но кто боится, тот родился не в свое время». Если он действительно был фанатиком, то необыкновенным. Разве это речь фанатика? «Не позволяйте никому говорить, что я действовал из ненависти. Говорю вам, никто не имеет права мстить за себя. Это чувство не посещает мое сердце. То, что я делаю, я делаю во имя свободы человека и потому, что это необходимо».
Не в его характере было идти на компромиссы. Или ограничиваться полумерами. У него была мечта. Великая, великая мечта, которая вдохновила его на «безумные» действия. Удайся Джону Брауну встать у кормила власти, сегодня рабы были бы действительно свободны, не только чернокожие рабы, но и белые, и рабы рабов, то есть рабы машин.
Вся ирония в том, что великий Освободитель кончил так трагически по причине неисправимой снисходительности к своим врагам. (Вот в чем его настоящее безумие!) После сорока дней в оковах, после суда-фарса, во время которого он лежал на полу в окровавленной, распоротой саблями одежде, он с высоко поднятой головой подошел к виселице и, стоя с завязанными глазами на помосте, ждал, ждал (хотя его единственной просьбой было совершить казнь быстро), пока доблестные виргинские вояки в парадном строю совершали бесконечные идиотские маневры.
Когда те, кто осудил его на смерть, спросили о его последнем желании, Джон Браун ответил: «Пожалуйста, посылайте ежегодно по пятьдесят центов моей жене в Норт-Элба, штат Нью-Йорк». Идя к виселице, он пожимал руку каждому из своих товарищей, прощаясь и благословляя его. Вот так великий Освободитель отправился к своему Создателю…
Харперс-Ферри – это ворота Юга. Вы попадаете на Юг через Старый Доминион. Джон Браун вступил в Старый Доминион, чтобы оказаться в жизни вечной. «Нет для меня господина во образе человеческом», – сказал он. Слава! Слава тебе!
Один из его современников, в своем роде почти столь же знаменитый, сказал о Джоне Брауне: «Он не мог быть судим равными ему, ибо ему не было равных». Аминь! Аллилуйя! И да марширует душа его![113]
14
А теперь я хочу спеть «Семь великих радостей». Вот припев:
- Покиньте же все пустыню
- И пойте осанну
- Отцу и Сыну и Духу Святому
- Неустанно.
Скоро мы часто будем петь эту песню, извиваясь, словно змеи, в жарких объятиях Юга…
Ашвилл. Томас Вулф, родившийся здесь, писал роман «Взгляни на дом свой, Ангел!», наверно, в то время, когда мы появились в городе. Тогда я даже не слышал о нем. А жаль, потому что мог бы увидеть Ашвилл другими глазами. Не важно, что говорят об Ашвилле, места здесь великолепные. Он расположен в самом сердце Грейт-Смоуки[114]. Древней земли индейцев чероки. Для них она, верно, была раем. Здесь и сейчас рай, если вы способны судить непредвзято.
О’Мара ждал нас, чтобы ввести в Эдем. Но мы опять опоздали. Дела приняли дурной оборот. Очередной бум завершился. Работа рекламным агентом мне не светила. Не было вообще никакой работы. Откровенно говоря, я почувствовал облегчение. Узнав, что О’Мара отложил немного денег, которых было достаточно, чтобы протянуть несколько недель, я решил, что это место ничуть не хуже других и какое-то время можно жить и писать здесь. Загвоздка была в Моне. Юг пришелся ей не по вкусу. Однако я надеялся, что она притерпится. В конце концов, она так редко бывала где-нибудь, кроме Нью-Йорка.
О’Мара сказал, что можно жить в хижине лесника как угодно долго и ничего не платя, если нам там понравится. Он считал, что для меня это идеальное место, если соберусь писать. Совсем рядом с городом, на склоне холма. Видно было, что ему не терпится поскорее отправить нас туда.
Уже наступили сумерки, когда мы добрались до подножия холма, где нам должны были передать ключи от хижины. В сопровождении долговязого придурковатого подростка мы поднимались верхом на муле, в сплошной темноте, на холм. Только Мона и я, между прочим. Поднимались медленно, трудно, под рев потока, мчавшегося рядом вниз. Была такая тьма, что невозможно разглядеть поднесенную к лицу руку. Почти час понадобился нам, чтобы отыскать прогалину, где стояла хижина. Едва мы спешились, как нас облепили тучи москитов. Придурковатый, нескладный, неотесанный малый, который за все это время не раскрыл рта, толкнул дверь и привязал фонарь к шнуру, свисавшему с балки. По всей видимости, в хижине несколько лет никто не жил. Повсюду грязь и мусор; крысы, пауки и прочие твари так и кишат.
Мы поставили рядом две раскладушки; придурок устроился на полу, у нас в ногах. Над головами у нас с шорохом носились летучие мыши. Москиты и мухи, потревоженные нашим вторжением, набросились на нас.
Несмотря ни на что, нам все же удалось уснуть.
Мне показалось, я только успел закрыть глаза, как почувствовал, что Мона схватила меня за руку.
– Что случилось? – пробормотал я.
Она перегнулась ко мне и зашептала на ухо.
– Чепуха, – сказал я, – тебе, наверное, приснилось.
Я попытался уснуть. Мгновение спустя она снова схватила меня за руку.
– Это он, – шепнула она. – Я уверена. Он трогает меня за ногу.
Я встал, зажег спичку и внимательно посмотрел на придурка. Он лежал на боку, глаза закрыты, и не шевелился.
– Тебе показалось, – успокоил я Мону, – он спит без задних ног.
Тем не менее я подумал, что лучше быть начеку. Этот немой остолоп обладал звериной силой. Я зажег еще спичку и огляделся в поисках чего-нибудь подходящего, чем можно было бы защититься в случае, если он выйдет из повиновения.
Мы проснулись чуть свет и принялись отчаянно чесаться. Было уже жарко и душно. Послав парня за водой, мы торопливо оделись и решили не откладывая возвращаться в город. В ожидании, пока наш увалень упакует вещи, мы наконец-то осмотрелись вокруг. Хижину буквально стеной обступали деревья и густой кустарник. Ни о каком виде с холма не могло быть и речи. Только шум бегущей воды да сумасшествие птиц. Я вспомнил, что сказал О’Мара при расставании, когда мы начали взбираться по козьей тропке: «Это как раз для тебя… идеальное место уединения!»
Спускаясь вниз, и вновь верхом на муле, мы с содроганием увидели, что вчера уцелели просто чудом. Стоило мулу чуть поскользнуться, и нам бы костей не собрать. Пока дело не зашло слишком далеко, мы спрыгнули наземь и двинулись пешком. Но даже тогда требовалось большое искусство, чтобы не оступиться и не полететь с обрыва.
Когда мы спустились вниз, нас представили всему семейству. Вокруг бегала добрая дюжина ребятишек, большинство полуголые. Мы спросили, не можем ли позавтракать с ними. Нас попросили подождать, они позовут, когда все будет готово. Мы в мрачном настроении уселись на крыльце и стали ждать. Еще не было семи, а жара уже стояла невыносимая.
Наконец нас позвали к столу, за которым собралась вся семья. На какое-то мгновение я опешил, не веря своим глазам: неужели эти черные точки, сплошь покрывающие еду, действительно мухи? По концам стола стояли два подростка и усердно махали грязными полотенцами, отгоняя мух. Все уселись, и мухи полезли нам в уши, глаза, носы, волосы и зубы. Несколько секунд мы сидели молча, пока почтенный старец читал молитву:
- Первой радостью Марии было,
- Радостью ни с чем не схожей,
- Знать, что ее дитя Иисус —
- Это Сын Божий,
- Это Сын Божий.
Кормили изрядно: овсянка, яичница с беконом, кукурузный хлеб, кофе, ветчина, оладьи, грушевый компот. Центов на двадцать пять каждому, не считая мух.
О’Мара едва не вышел из себя, увидев, что мы вернулись так быстро.
– Что, пороху не хватило? – угрюмо буркнул он.
– Понимаешь, не выношу мух, – только и мог я сказать.
К счастью, вечером мы отправились в ресторан, который только что открылся в западной части Ашвилла. Его хозяин, мистер Роулинс, был школьным учителем. Не знаю почему, но он сразу воспылал к нам любовью. Когда мы уходили, он дал нам рекомендательное письмо к супружеской чете, которая сдавала удобную комнату за очень небольшую плату. Мы заплатили за неделю вперед, а на другой день сделали то же самое и в ресторане мистера Роулинса, чтобы столоваться у него.
С этого момента мы почти не видели О’Мару. Мы не поссорились, нет. Каждый жил своей жизнью, только и всего.
Я одолжил пишущую машинку у мистера Роулинса, который изъявил трогательную готовность услужить «литератору». Я, конечно, назвал ему внушительный список книг, написанных мною, как и magnum opus[115], над которым якобы работал в то время. Нас отлично кормили в его уютном маленьком ресторанчике. Кроме того, бесплатно приносили разнообразные дополнительные блюда, несомненно как будущей знаменитости. Иногда он совал в нагрудный карман моего пиджака хорошую сигару или заставлял взять с собой пинту мороженого, чтобы мы съели его дома.
Как оказалось, Роулинс преподавал английскую литературу в местной школе. Что объясняет то поистине королевское удовольствие, которое я получал от наших с ним бесед о писателях Елизаветинской эпохи. Но что, полагаю, больше всего привлекало его во мне, так это моя любовь к ирландским авторам. Он окончательно проникся ко мне дружескими чувствами, узнав, что я читал Йейтса, Синга, лорда Дансени, леди Грегори, О’Кейси, Джойса. Он умирал от желания взглянуть на мое последнее творение, н у меня хватило ума не показывать ему, над чем я работал, тем более что и показывать, в сущности, было нечего.
В меблированных комнатах мы познакомились с лесоторговцем из Западной Виргинии по имени Метьюз. Он был истинным шотландцем, но притом превосходным человеком. Ему доставляло величайшее, искреннее удовольствие в свободные дни катать нас в своей красивой машине по окрестностям. Он обожал хорошую еду и хорошие вина и знал, где можно раздобыть то и другое. Однажды в Чимни-Рок он закатил нам такой пир, какой, скажу откровенно, я видывал с тех пор лишь дважды. Должен сказать, что Метьюз сразу догадался об истинном нашем положении; с первых дней нашей дружбы он дал понять, что, когда мы с ним, нам незачем беспокоиться о деньгах.
Сказать о Метьюзе только это значило бы создать у читателя превратное представление об этом человеке. Он не был ни богатеем, ни, что называется, «кровососом». Это был чуткий, чрезвычайно умный человек, который почти совершенно не разбирался в литературе, музыке или живописи. Но он знал жизнь – и природу, особенно животных, которых очень любил. Я сказал, что он не был богатеем. Ему бы хотелось, и он смог бы, в одночасье стать миллионером. Но он не имел желания добиваться богатства. Он был из тех людей, редко встречающихся в Америке, которые довольствуются тем, что имеют. С ним было легко, как с братом. Часто по вечерам мы сидели на переднем крыльце и болтали часов пять-шесть подряд. Неторопливо, мирно…
Но мои рассказы… Рассказы не шли. На то, чтобы закончить простенький, к тому же неважнецкий рассказец, уходило несколько недель. В какой-то степени виной тому была жара. (На Юге жарой можно объяснить все, кроме суда Линча.) Не успевал я написать и пару строк, а рубаху на мне уже можно было выжимать. Я сидел у окна и смотрел на каторжников, скованных одной цепью, – все негры, – мерно махавших кирками и лопатами под монотонную песню; пот ручьями катился по их спинам. Чем усердней они работали, тем бессильней становились мои попытки продолжать писать. Их пение переворачивало душу. Но больше всего мешали стражники; от одного взгляда на физиономии этих сторожевых псов во образе человеческом меня бросало в дрожь.
Чтобы как-то перебить однообразие дней, мы с Моной иногда отправлялись куда-нибудь одни, выбирая отдаленное место, любое старинное местечко, куда можно было добраться автостопом. Мы предпринимали эти экскурсии, просто чтобы убить время. (На Юге время течет как расплавленный свинец.) Иногда мы садились в первую машину, которая останавливалась, не заботясь, куда она направляется. Однажды, сев таким образом, я обнаружил, что мы едем в Южную Каролину, и вдруг вспомнил о старом школьном дружке, который, по последним сведениям, преподавал музыку в маленьком колледже в этом штате. Я решил, что стоит навестить его. Ехать было далеко, и у нас, как обычно, не было ни цента. Однако я был уверен, что можно рассчитывать хотя бы на то, что мой старый друг накормит нас.
Прошло добрых двадцать лет с тех пор, как я последний раз видел былого однокашника. Он бросил школу, не окончив ее, чтобы поехать в Германию учиться музыке. Став пианистом, ездил с концертами по всей Европе, а потом вернулся в Америку и занял ничтожную должность в крохотном южном городке. Я получил от него несколько открыток, а потом он совсем пропал. Вспоминая о нем, я гадал, не забыл ли он вовсе обо мне. Двадцать лет – долгий срок.
Каждый день, возвращаясь из школы, я останавливался возле его дома, чтобы послушать, как он играет. Он играл все те композиции, которые я потом слышал на концертах, и играл их (по моему тогдашнему разумению), как настоящий маэстро. Он выделялся среди нас и ростом, и умом. На лбу у него красовалась большая шишка, и, когда на него находило вдохновение, казалось, что на лбу у него коротенький рог. Он возвышался надо мной на целый фут. У него был вид иностранца, и говорил он, как европеец-аристократ, который учился английскому одновременно с родным языком. Вдобавок он обычно ходил в полосатых брюках и добротном черном пиджаке. Он учился в немецком классе; там и завязалась наша дружба. Немецкий, которым он владел в совершенстве, он выбрал, чтобы меньше приходилось заниматься. Учительница, очаровательная кокетливая молодая женщина, очень остроумная, была просто неравнодушна к нему. Однако делала вид, что он ее раздражает. Время от времени она ловко поддевала его. Однажды, разъярившись оттого, что он без подготовки, с листа безупречно перевел какой-то текст, она спросила его прямо, почему он пошел в немецкий класс. Неужели у него нет никакого желания учиться чему-то новому? И так далее. Зло осклабившись, он ответил, что предпочитает тратить время на более интересные вещи.
– Ах вот как, более интересные? И какие же, позволь тебя спросить?
– На музыку.
– О, так ты музыкант? Пианист, а может, композитор?
– И то и другое, – ответил он.
– И что же ты успел сочинить?
– Сонаты, концерты, симфонии и оперы… и еще несколько квартетов.
Класс дружно заржал.
– Ты даже больший гений, чем я думала, – съязвила она, когда гогот утих.
Перед концом урока он передал мне записку, в которой что-то наспех нацарапал. Едва я ее развернул, как учительница велела мне подойти. Я сунул записку ей в лицо. Она прочитала, вспыхнула до ушей и бросила записку в корзину для бумаг. А было в записке всего-то: «Sie ist wie eine Blme»[116].
Я припомнил и другое, связанное с этим «гением». Как он ненавидел все американское, как, например, презирал нашу литературу, как передразнивал преподавателей, не выносил любые упражнения. Но особенно врезалось в память то, какой свободой он наслаждался дома, и то уважение, которое выказывали ему родители и братья. Во всей нашей школе не было парня, подобного ему. Какой восторг я испытал, получив от него первое письмо, отправленное из Гейдельберга. Он чувствует себя по-настоящему дома, писал он, и больше немцем, чем сами немцы. Почему я остался в Америке? Почему не присоединяюсь к нему, чтобы стать замечательным немецким поэтом?
Я подумал, как нелепо буду выглядеть, если он скажет: «Генри? Не помню такого», и в этот момент мы въехали в тот городок. Мы быстро узнали, что мой старый приятель накануне отправился в путешествие на Восток. Вот это повезло! Уже давно перевалило за полдень, и мы умирали хотели есть. В отчаянии я вцепился в директрису, сухощавую раздражительную пожилую даму, стараясь разжалобить ее рассказом о том, какой огромный крюк мы проделали по пути в Мексику – к тому же наша машина сломалась в нескольких милях от города – исключительно ради того, чтобы навестить моего дорогого друга детства, с которым я не виделся много лет. Я прожужжал ей все уши рассказом о наших дорожных злоключениях и не отступил до тех пор, пока не удалось внушить ей (телепатически), что нам необходимо подкрепить силы. В конце концов она скрепя сердце велела принести нам чаю с лепешками.
Чтобы размяться, мы побрели на окраину городка. Там поймали попутку домой, потрепанный «форд». Водитель, слегка ненормальный ветеран, к тому же слегка косой – на Юге народ просто не просыхает, – сказал, что едет через Ашвилл. Похоже, что он не очень-то сам представлял, куда направляется, кроме того что на север. От разговора, который мы вели всю долгую дорогу до Ашвилла, можно было свихнуться. Мало того что бедняга был изувечен на войне, что от него ушла к лучшему его другу жена, он еще умудрился с тех пор попасть в несколько серьезных аварий. Хуже всего было то, что он оказался кретином и расистом, одним из тех необузданных типов, которые становятся еще необузданней, если их угораздит родиться южанами. Мы перескакивали с предмета на предмет, как кузнечики; его явно ничего не интересовало, кроме собственных бед и несчастий. Когда Ашвилл был уже совсем близко, он стал окончательно невыносим. Ясно дал нам понять, сколь глубоко мы ему противны, все в нас, включая манеру говорить. Высаживая нас в Ашвилле, он уже кипел от злости.
Мы поблагодарили за то, что он подвез нас, и без лишних слов распрощались: «Всего хорошего!»
– Всего хорошего? – заорал он. – Вы что, не собираетесь ничго платить?
Платить? Я был ошарашен. Где это слыхано – платить за попутку?
– Или вы рассчитывали доехать задаром? – не унимался он. – А за бензин и масло кто платил? – Он с грозным видом высунулся из окошка машины.
Пришлось выдумывать невероятную историю, к тому же убедительную, почему у нас нет денег. Он скептически смотрел на нас, потом тряхнул головой и пробормотал:
– Я так и подумал, когда увидел вас, – помолчал немного и добавил: – Очень мне хотелось подбросить вас. – Затем случилось нечто совсем неожиданное: он заплакал. Я наклонился, чтобы как-то успокоить его. Он совсем меня растрогал. – Отвали! – завопил он. – Убирайся!
Мы пошли прочь, а он сидел, положив локти на баранку и обхватив голову руками, и горько плакал.
– Господи, что ты об этом думаешь? – спросил я потрясенно.
– Еще повезло, что он не пырнул тебя ножом, – ответила Мона. Происшедшее только укрепило ее в убеждении, что южане абсолютно непредсказуемы. Пора подумать о возвращении домой, считала она.
На другой день, сидя за пишущей машинкой и невидяще глядя перед собой, я задумался, сколько мы еще сможем протянуть в солнечной Каролине. Несколько недель прошло с тех пор, как мы отдали свой последний цент, чтобы заплатить за комнату. О том, сколько мы задолжали славному мистеру Роулинсу за обеды и завтраки, я боялся и думать.
Назавтра, однако, к полному нашему изумлению, мы получили телеграмму от Кронски, где он сообщал, что едет с женой к нам и сегодня же вечером мы увидимся. Какая удача!
И точно, незадолго до обеда они заявились к нам.
- Покиньте же все пустыню
- И пойте осанну
- Отцу и Сыну и Духу Святому
- Неустанно.
Чуть ли не первое, о чем мы спросили, как это было ни позорно, нет ли у них денег взаймы.
– Это единственное, что тебя беспокоит? – улыбнулся Кронски во весь рот. – Эту проблему легко решить. Сколько тебе надо? Полсотни устроит?
Мы радостно стиснули друг друга в объятиях.
– Деньги, – сказал он, – почему ты не послал мне телеграмму? – И почти без передышки: – Тебе действительно здесь нравится? Мне тут вроде как не по себе. Это место не для негров… и не для евреев. Поганое место…
За обедом он интересовался, что я успел написать, продал ли что-нибудь и так далее. Он предвидел, что дела у нас пойдут неважно… «Поэтому мы так внезапно и нагрянули, – сказал он. – Могу провести с вами только тридцать шесть часов». При этом улыбнулся, словно давая понять, что я не заставлю его остаться ни минутой дольше.
Мона всей душой была за то, чтобы вернуться с ними, но я из дурацкого упрямства настаивал на том, чтобы потерпеть еще немного. Мы довольно горячо спорили, но так ни к чему и не пришли.
– Давайте не будем об этом, – сказал Кронски. – Раз уж мы здесь, что ты можешь показать нам, пока мы не уехали?
– Озеро Джуналеска, – не задумываясь, ответил я. Не знаю, почему я назвал это место; просто оно само слетело у меня с языка. Но потом я вдруг понял: мне хотелось еще раз увидеть Уэйнсвилл.
– Всякий раз, как приближаюсь к этому месту – Уэйнсвиллу, меня так и тянет остаться там жить. Не знаю, что в нем есть такого, но оно забирает меня.
– Ты никогда не останешься на Юге, – сказал Кронски. – Ты прирожденный ньюйоркец. Слушай, почему бы тебе не перестать мотаться по всяческим захолустьям и не отправиться за границу? Франция – вот место для тебя, знаешь ты это?
Мона с энтузиазмом поддержала его.
– Ты единственный, кто говорит ему что-то разумное, – сказала она.
– Если бы речь шла обо мне, – продолжал Кронски, – я бы выбрал Россию. Но у меня нет страсти к путешествиям. Я нахожу, что Нью-Йорк не так плох, можешь ты в это поверить? – Затем в свойственной ему манере добавил: – Как только открою практику, отправлю вас обоих в Европу. Я говорю серьезно. Я много думал об этом. Здесь вы тупеете. Не место вам в этой стране, вы оба – люди иного склада. Она для вас слишком мелка, слишком ограниченна… слишком, черт возьми, прозаична, вот что. А что до тебя, мистер Миллер, бросай-ка ты писать эту пакостную мелочовку для журналов, слышишь? Ты создан не для подобной ерунды. Твое дело – книги. Пиши книгу, почему ты не делаешь этого? Тебе это по плечу…
На другой день мы отправились в Уэйнсвилл и на озеро Джуналеска. Ни то ни другое не произвело на них никакого впечатления.
– Странно, – сказал я, когда мы возвращались, – ты не можешь представить, что кто-то вроде меня способен провести остаток жизни в таком месте, как это, как Уэйнсвилл. Почему? Почему это кажется таким невероятным?
– Оно не для тебя, ты здесь чужой, только и всего.
– Не для меня? Разве? – Где же в таком случае мне место, спросил я себя. Во Франции? Может, и так. А может, нет. Сорок миллионов французов как-нибудь стерпят одного лишнего. Но если выбирать, я бы предпочел Испанию. Я почувствовал инстинктивную симпатию к испанцам, как чувствовал ее к русским.
Так или иначе, наш разговор вновь заставил меня задуматься о деньгах. Они были моим неотвязным кошмаром. На какое-то мгновение мною овладела нерешительность, и я было подумал, может, лучше нам все же вернуться в Нью-Йорк?
Но на другой день я уже так не думал. Мы проводили Кронски и его жену на окраину города, где они быстро поймали попутку. Мы немного постояли, махая им вслед, потом я повернулся к Моне и пробормотал:
– Славный парень этот Кронски.
– Лучший из всех твоих друзей, – мгновенно отреагировала она.
Из полсотни, что дал нам Кронски, мы частично расплатились с долгами и, надеясь, что, вернувшись в Нью-Йорк, он вышлет еще немного, попытались протянуть еще сколько можно. Я просто заставил себя закончить очередной рассказ. Попробовал начать другой. Безнадежно: башка совсем не варила. Тогда вместо рассказа я написал письма всем редакторам без исключения, в том числе и тому добряку, что однажды предложил работать его помощником. Не остался без внимания и О’Мара, к которому я зашел, но тот был в таком подавленном состоянии, что я не решился заикнуться о деньгах.
У меня не было больше сомнений, что Юг нам противопоказан. Домохозяин и его жена делали все, чтобы нам жилось удобней, мистер Роулинс тоже всячески старался поддержать нас. Никто словом не обмолвился о деньгах, которые мы по-прежнему были должны. Что до Метьюза, то его поездки в Западную Виргинию стали более частыми и более продолжительными. К тому же мы просто не могли заставить себя попросить у него взаймы.
Жара, как я уже говорил, немало способствовала тому, что мы пали духом. Бывает жара, которая греет, вливает жизненные силы, а бывает жара иного рода, которая лишает вас воли, сил, мужества, даже желания жить. Наверно, у нас от жары кровь загустела в жилах. Всеобщая апатия аборигенов накладывалась на нашу апатию. Все это походило на дрему в вакууме. Ни один человек не слыхал о такой вещи, как искусство, само это слово отсутствовало в словаре этих людей. У меня было такое ощущение, что индейцы чероки преуспели в искусстве больше, чем когда-либо смогут преуспеть эти несчастные. Индейцев, которым, в конце концов, принадлежала эта земля, было не видать. Зато негры были всюду. И от этого на душе было тягостно и тревожно. О «дегтярниках», как прозвали жителей Северной Каролины, не скажешь, что они любители негров. В сущности, они вообще ни то ни се. Как я сказал, это был вакуум, горячий, тлеющий вакуум, если можно представить такое.
Порою, когда я прогуливался по пустынным улицам, мне становилось не по себе. В прогулках по шоссе тоже было мало удовольствия. По обеим его сторонам простирались великолепные пейзажи, но человек все равно ощущал внутри себя отчаяние и пустоту. Окружающая красота лишь уничтожала вас. Бог определенно назначил человеку жить здесь иной жизнью. Индеец был куда ближе к Богу. Негр, тот процветал бы здесь, дай ему белые такой шанс. Я все задавался вопросом и задаюсь им до сих пор, а не объединятся ли в конце концов индеец и негр, чтобы прогнать белого человека и воскресить рай на этой земле молока и меда. Но…
- Еще одной радостью Марии было,
- Радостью ее второю:
- Знать, что ее дитя Иисус
- Читает Писание Святое, Писание Святое.
Кое-что нам перепало – на карманные расходы, не более того! – в ответ на мои письма «всем без исключения». Кронски, между прочим, все молчал.
Мы продержались еще несколько недель, затем, окончательно впав в уныние, однажды ночью решили подняться пораньше и слинять. Вещей у нас с собой было всего на два маленьких саквояжа. Проведя бессонную ночь, мы встали чуть свет и, в одной руке обувь, в другой – саквояж, тихо, как мыши, выскользнули из дома. Мы прошагали несколько миль, прежде чем удалось поймать машину. В полдень мы были в Уинстон-Сейлеме, и я решил послать от нас с Моной телеграмму родителю с просьбой прислать несколько долларов. Я просил отправить их телеграфом в Дарем, где мы предполагали заночевать.
К вечеру мы были в Дареме. Телеграмма, конечно, уже ждала меня. Я прочитал: «Прости сын но у меня ни цента на счете». Я чуть не заплакал не потому, что мы оказались в безвыходном положении, но потому, что понимал, какое унижение должен был испытать старик, отправляя такой ответ.
Где-то после полудня мы – спасибо незнакомцу, угостившему нас, – подкрепились кофе и сэндвичем. Но теперь опять были голодны, и, конечно, больше обычного, поскольку не представляли, как на пустой желудок преодолеть огромное расстояние до дому. Ничего не оставалось, как вновь идти к шоссе, что мы и сделали – как автоматы.
Мы встали на обочине, уставшие и потерявшие всякую надежду, не в силах тащиться дальше, и смотрели, как садится солнце, похожее на перезрелый помидор, как вдруг рядом затормозила довольно приличная машина и веселый голос крикнул: «Вас подбросить?» Муж с женой, подобравшие нас, направлялись в какой-то маленький городишко, до которого было часа два езды. Муж был родом из Алабамы и говорил с акцентом, какой можно услышать в южной глубинке, жена – из Арканзаса. Оба были веселые, жизнерадостные и, казалось, не ведали никаких забот.
Мы все время останавливались, и водитель возился с мотором, так что дорога вместо двух часов заняла у нас целых пять. К концу пути, спасибо этим остановкам, успели крепко подружиться. Мы рассказали им всю правду о себе, только правду и ничего, кроме правды, и она поразила их в самое сердце. Никогда, никогда не забуду, как эта добрая женщина, едва мы вошли в дом, бросилась наполнять ванну, достала мыло и полотенца и уговорила нас понежиться в горячей воде, пока приготовит ужин. Когда мы вновь появились, одетые в их купальные халаты, стол был накрыт; мы не мешкая сели и замечательно поужинали мясом с овощами, яичницей, горячими оладьями, кофе, вареньем, фруктами и пирогом. Было почти три часа ночи, когда мы легли спать. Поддавшись на их уговоры, мы легли в их кровать и, только проснувшись, обнаружили, что наши гостеприимные хозяева спали на вытащенных из машины сиденьях.
Встав около полудня, мы все в отличном настроении сели завтракать, а потом хозяин повел меня показать свой задний двор, полный разбитых машин. Аварии были его хлебом. Он, конечно, был бесшабашный малый, а жена его еще бесшабашней. Они, похоже, обалдели от неожиданной встречи с нами. Почему мы не послушались их и не остались хотя бы на несколько дней, не знаю.
Когда мы собрались уходить, женщина отвела Мону в сторонку и потихоньку сунула несколько долларов, а ее муж – мне под мышку блок сигарет. Они усадили нас в машину и отвезли за несколько миль от городка, чтобы нам легче было поймать попутку. Когда мы наконец расстались, у них в глазах стояли слезы.
Мы продолжали путь, стремясь в Вашингтон. Нам во что бы то ни стало нужно было попасть туда в тот же день, и приходилось часто менять машины. Мы въехали в Ричмонд уже в сумерках. И опять у нас не было ни гроша. Несколько долларов, которые дала нам женщина, исчезли вместе с кошельком. Украл ли кто у нас эти ничтожные гроши, не знаю. Если так, то он зло подшутил над нами. Однако мы были слишком счастливы от близости к цели, чтобы убиваться из-за подобного пустяка.
Опять пора есть…
Внимательно оглядев несколько ресторанов и все как следует взвесив, мы наконец выбрали греческий. Поужинаем сперва, а потом объясним свои затруднения. Мы наелись до отвала, не отказав себе в десерте, и вежливо сообщили хозяину неприятную новость. Наше объяснение не произвело на него никакого впечатления или, вернее, произвело, но не такое, на какое мы рассчитывали. Он не мог придумать ничего лучше – суровое решение! – как позвонить в полицию. Несколько минут спустя подкатил фараон на мотоцикле. После обычных вопросов он спросил прямо, как мы собираемся выпутываться. Я сказал, что, если он оплатит почтовые расходы, мы пошлем телеграмму в Нью-Йорк и утром, без сомнения, получим деньги. Это показалось ему разумным выходом из положения, и он предложил устроить нас на ночь в гостинице по соседству. Греку он сказал, что забирает нас под свою ответственность. Меня поразила такая порядочность полицейского.
Не без опасений я отправил телеграмму Ульрику. Полицейский сопроводил нас в гостиницу и сказал, что придет завтра рано утром. Несмотря на то что мы были из Нью-Йорка, он вел себя необычно предупредительно. Я невольно подумал, что от нью-йоркского фараона подобного отношения не дождешься.
Ночью я встал убедиться, что хозяин гостиницы не запер нас. Я не мог сомкнуть глаз. По мере того как шло время, я все меньше верил в то, что телеграмма послана не зря.
Выскользнуть из номера так, чтобы не заметил ночной портье, было невозможно. Я встал, подошел к окну и глянул вниз. До земли было около шести футов. Решено: на рассвете мы уйдем через окно.
Едва рассвело, как мы снова стояли на шоссе в миле от города, держа в руках свои тощие саквояжи. Вместо того чтобы прямиком направиться в Вашингтон, мы поймали попутку до Таппаанока – просто на тот случай, если полицейский вздумает преследовать нас. На нашу удачу, попутку не пришлось долго ждать. Конечно, ни о завтраке, ни о ланче можно было не мечтать. По дороге мы сгрызли несколько незрелых яблок, получив только резь в желудках.
Почти сразу за Таппааноком нас подобрал адвокат. Очаровательный человек, начитанный, с которым разговаривать было одно удовольствие. Мы много чего ему порассказали, пока он вез нас. Должно быть, это произвело на него впечатление, потому что, прощаясь с нами в Вашингтоне, он заставил нас принять двадцать долларов, говоря, что дает «в долг», но имея в виду, что надо потратить их и забыть. Трогаясь с места, он бросил через плечо: «Когда-то я сам пробовал стать писателем».
Мы до того обрадовались, что не скоро добрались до дому. Лишь около полуночи мы оказались в мегаполисе. Первое, что мы сделали, – это позвонили Кронски. Можно у него переночевать? Конечно. Мы нырнули в метро и поехали в Бронкс, куда он снова перебрался.
Метро представляло собой скорбное зрелище. Мы уже забыли, какими бледными и измученными выглядят здесь люди, забыли вонь, источаемую городом. Вновь бег по кругу. Западня.
Но по крайней мере, мы дома. Может, кто-нибудь обрадуется, опять увидев меня после нескольких месяцев отсутствия. Может, я подыщу настоящую работу.
Шестая радость звучит так – и до чего к месту!
- Другою радостью Марии было,
- Шестою радостью ее,
- Видеть распятым Иисуса,
- Дитя свое.
А это мистер Кронски…
– Так-так! Вернулись! Я же вам говорил. Но не рассчитывайте остаться у меня жить. Нет, сэр! Можете переночевать, но не более. Ели что-нибудь? Мне рано вставать. Чистых полотенец не просите, не имеем. Спать придется голышом, пижам тоже нет. И не ждите, что вам подадут завтрак в постель. Покойной ночи! – Все это он выпалил одним духом.
Убрав с кроватей книги по медицине и смахнув крошки, мы постелили серые простыни, заметили на них пятна крови, но ничего не сказали и забрались под одеяла.
О ПОКИНЬТЕ ЖЕ ВСЕ ПУСТЫНЮ И ПОЙТЕ ОСАННУ!
15
Недавно я прочел в буддийском журнальчике такое примерно высказывание: «Если бы только мы могли получать то, что хотим, и тогда, когда, как нам кажется, это нам необходимо, в жизни не было бы ни трудностей, ни тайны, ни смысла». В то утро мне немного нездоровилось, и я решил весь день пролежать в постели. Но когда я прочел эти слова, меня разобрал дикий смех. Мгновение спустя я уже был на ногах, веселый, как всегда.
Наткнись я на этот образчик мудрости во времена, о которых пишу, сомневаюсь, чтобы он произвел на меня какое-то впечатление. Отстраненный взгляд на мир был для меня немыслим. День был полон всяческих трудностей, всяческих осложнений. От таинственности, раздражающей таинственности некуда было деваться. Тайна, окружающая Вселенную, представлялась истинной роскошью, доступной лишь интеллектуалам. Весь смысл жизни сводился к тому, чтобы удержаться на плаву. Это звучит просто, но мы знали, как превратить эту простую вещь в сложную проблему.
Мне донельзя надоела беспорядочная жизнь, которую мы вели, и я решил устроиться на работу. Хватит искать золотые россыпи. Хватит гоняться за радугой. Я был полон решимости заработать нам на пропитание во что бы то ни стало. Я знал, что для Моны это будет ударом. Даже подумать о том, чтобы пойти работать, было для нее кощунством. Больше того, равносильно подлейшему предательству.
Ее реакция на мое решение и не могла быть иной.
– Ты разрушаешь все, что я с таким трудом создавала!
– Наплевать, – ответил я. – Ничего другого не остается.
– Тогда я тоже пойду работать, – сказала она. И в тот же день устроилась официанткой в «Железный котел».
– Ты еще пожалеешь об этом, – сообщила она мне. Тем самым она давала понять, что, если мы станем действовать каждый сам по себе, это будет иметь катастрофические последствия.
Пришлось пообещать, что, пока не найду работу, буду дважды в день заходить поесть в «Железный котел». Я пришел один раз, во время ланча, но видеть, как она обслуживает посетителей, было до того невыносимо, что больше я там не появлялся.
О том, чтобы работать в конторе от и до, нечего было и думать. Во-первых, я ничего толком не умел, а во-вторых, я знал, что не смогу выдержать конторской рутины. Нужно было найти что-то такое, что давало бы видимость свободы и независимости. В голову пришло лишь одно подходящее занятие – торговля книгами. Хотя на регулярный заработок здесь рассчитывать не приходилось, я мог распоряжаться временем по своему усмотрению, что было для меня очень важно. О том, чтобы каждое утро в определенный час отмечать свой приход на работу, и речи не шло.
Вернуться в «Британнику» я не мог – мой послужной список был слишком сомнителен. Придется попробовать в какой-нибудь другой энциклопедии. Я скоро обнаружил подходящую – это была энциклопедия с вкладными листами. Заведующему отделом сбыта, к которому я обратился, не составило большого труда убедить меня, что это лучшая энциклопедия из имеющихся на рынке. Он, очевидно, считал, что передо мной открываются прекрасные возможности. Чтобы мне было с чего начать, он дал несколько адресов из своего списка клиентов. В знак расположения ко мне. Это все «книжные маньяки», заверил он меня. Я покинул контору с портфелем, набитым образцами страниц и переплетов и прочим хламом, который обычно носит с собой торговец книгами. Я собрался пойти домой и разобраться со всей этой дребеденью, а затем взяться за дело. Я не намерен был выслушивать отказы. Soit[117].
В первый день я продал две энциклопедии, с которых мне причитались приличные комиссионные, поскольку удалось всучить экземпляры в самых дорогих переплетах. Одной из моих жертв был врач-еврей, милый, тактичный человек, который не только уговорил меня остаться пообедать с его семьей, но дал адреса нескольких своих добрых друзей, которые, по его уверениям, непременно купят у меня по энциклопедии. На другой день благодаря сему доброму еврею я продал три экземпляра. Начальник торгового отдела ликовал про себя, однако делал вид, что мне просто везет как новичку. Он предупредил, чтобы я не слишком обольщался быстрым успехом.
Не удовлетворяйтесь тем, что продаете два или три экземпляра. Постарайтесь продать пять или шесть. У нас есть работники, которые продают и по двенадцать экземпляров за день.
«Идиот, – подумал я. – Человек, способный загнать двенадцать энциклопедий в день, не станет торговать подобной дрянью. Он сумеет продать Бруклинский мост».
Тем не менее я старался работать добросовестно. Следовал всем его наставлениям, как послушник, хотя это означало, что надо добираться аж до ближайших Пассаика, Хобокена, Канарси и Маспета. Я продал три экземпляра по тем адресам, что он дал мне. Но этот придурок считал, что я должен был обработать всех семерых его клиентов. С каждой новой нашей встречей он становился все дружелюбней, все обходительней. Однажды он сообщил, что издательство вскоре собирается устроить крупное шоу в Медисон-сквер-гарден. Ежели я и дальше буду проявлять подобную активность, он может устроить, чтобы меня поставили его напарником в киоске, который арендует фирма. Он полагал, что там, на Гарден, энциклопедию станут расхватывать, как горячие пирожки. Он добавил, что присматривается ко мне, что ему нравится, как у меня подвешен язык.
– Держись меня, – добавил он, – и мы поставим тебя на целую территорию, может быть на Запад. У тебя будет машина и команда под началом. Ну как, заманчиво?
– Очень! – ответил я, хотя одна мысль о подобной перспективе приводила меня в ужас. Не нужен был мне такой успех. Меня вполне устраивало продавать по одному экземпляру в день – если бы получалось.
Всякий, кто пытается продавать книги, вскоре узнает, что есть тип людей, на которых все твои уловки не действуют. Подобная личность кажется такой податливой и неспособной сопротивляться уговорам, что его почти жалко, когда только начинаешь закидывать крючок. Ты уверен, что он не только купит сам, но через день-два принесет подписанный заказ от своих друзей. Он соглашается со всем, что ты говоришь, и ты стараешься перещеголять самого себя. Он изумляется, почему каждый интеллигентный человек в округе еще не имеет этих книг. Задает бесчисленные вопросы, и, когда отвечаешь, его энтузиазм все больше растет. Когда дело доходит до последнего штриха – переплетов, – он любовно гладит их пальцами, обсуждает с видом знатока достоинства каждого. Он даже демонстрирует нишу в стене, где, как ему кажется, книга будет особенно смотреться. Ты уже в десятый раз готов протянуть ему ручку, чтобы он поставил подпись на бланке заказа. Иногда эти субчики до того заводятся, что ничего не остается, как позвать соседей, чтобы они тоже взглянули на книги. Если заявляются его друзья, что обычно и происходит, приходится повторять всю программу с самого начала. Время идет, а ты все говоришь, все объясняешь, все изумляешься тому, какие чудеса заключены в этих красивых и полезных книгах. Наконец делаешь отчаянную попытку взять быка за рога. И в ответ слышишь нечто вроде: «О, но сейчас я не могу купить эти книги, в данный момент я сижу без работы. Мне, безусловно, хотелось бы их иметь, но увы…» Даже тогда ты настолько уверен, что этот тип говорит совершенно искренне, что предлагаешь платить в рассрочку. «Можете внести задаток, остальное заплатите позже, когда устроитесь на работу. Просто подпишитесь здесь!» Но и тут ему удается вывернуться, пользуясь всяческими отговорками. Только тогда до тебя доходит, что он не имел ни малейшего намерения покупать, это был просто способ провести время. Он даже может любезно сказать, когда соберешься уходить, что ничто и никогда не доставляло ему такого удовольствия, как твои увлекательные речи…
У французов есть выражение, точно определяющее подобного типа: «il n’est pas serieux»[118].
Торговля книгами вразнос – стоящий бизнес. Самое малое, что он тебе дает, – это знание человеческой природы. Он почти стоит потраченного на него времени, стертых ног, боли в сердце. У этой работенки есть одно поразительное свойство: как только втянешься в нее, уже не можешь думать ни о чем другом. Рассказываешь об энциклопедии – если торгуешь ими – с утра до полуночи. Пользуешься любым случаем, чтобы поговорить о ней, а когда рассказывать некому, рассказываешь самому себе. Сколько раз в момент, когда не было покупателя, я продавал ее самому себе. Это звучит нелепо, если сам не тянешь эту лямку, но действительно начинаешь верить, что каждый человек на свете должен иметь драгоценную книгу, которую тебе поручили распространять. Каждый, говоришь себе, нуждается в расширении кругозора. Смотришь на людей, а в голове единственная мысль: могут они купить книгу или нет? Тебе нет никакого дела до того, пригодится ли чертова книга человеку, только одно заботит: как его убедить, что то, что ты предлагаешь, есть sine que non[119]. Что до другого товара – обуви, носков, рубах и прочего, – ну какое может быть удовольствие в том, чтобы продать человеку что-то необходимое? Нет, сэр, тебе хочется сразиться с клиентом на равных, чтобы у него тоже был шанс победить. Ты чуть ли не готов дать ему фору: пусть он повернется, чтобы уйти, – вот тогда ты сможешь по-настоящему развернуться, со смаком спеть и сплясать. Хорошему торговцу нет никакого удовольствия брать деньги с «книжного маньяка». Он хочет их заработать. Ему хочется думать, если он настоящий купец, что он способен продать книгу неграмотному – или слепому!
Более того, это спорт, где встречаешься с интересными соперниками – с некоторыми из них у тебя одинаковый вкус, другие более чужды тебе, нежели китаец-язычник, третьи признаются, что в жизни не читали книг, и так далее. Иногда я возвращался домой в таком приподнятом, таком радостном настроении, что не мог ночью сомкнуть глаз. Частенько мы с Моной всю ночь не спали, обсуждая «чудаков», которых мне доводилось встречать.
У простого продавца, как я заметил, хватает ума быстро отступиться от человека, если он видит, что дело вряд ли выгорит. Я не таков. Я нахожу сотни причин продолжать безнадежное дело. Любой ненормальный способен продержать меня чуть ли не до утра, рассказывая свою жизнь, свои безумные сны, объясняя завиральные идеи и изобретения. Многие из этих слабоумных очень напоминали моих пронырливых мальчишек-посыльных; некоторые, как я узнал, действительно служили в этой должности. Мы прекрасно понимали друг друга. Часто при расставании они дарили мне какую-нибудь безделицу, нелепицу, которую я обычно выбрасывал, подходя к дому.
Естественно, я приносил все меньше и меньше заказов. Начальник отдела сбыта ничего не мог понять; по его словам, у меня были все данные для того, чтобы стать первоклассным агентом по продажам. Он даже предлагал, взяв отгул, пойти со мной и показать, насколько просто получить заказ на книгу. Но мне всегда удавалось придумать какую-нибудь отговорку. Изредка я умудрялся поймать на свой крючок профессора, священника или известного адвоката. Тогда изумленный, порозовевший от удовольствия начальник говорил: «Вот такие клиенты нам и нужны. Давай побольше таких!»
Я пожаловался, что он редко дает мне стоящие адреса. Посылает чаще всего к детям или слабоумным. Он отговорился тем, что интеллектуальные способности или уровень жизни потенциального покупателя не имеют большого значения, важно одно и только одно: чтобы тебя впустили в дом и зацепиться там. Если это ребенок, который купился на рекламу, нужно разговаривать с родителями, убедить их, что книга принесет пользу ребенку. Если кретин, написавший в издательство, желая получить информацию, это еще лучше: кретины уступчивы. И так далее. У него на все имелся ответ, у этого типа. Хороший торговый агент для него – это такой агент, который способен продать книги неодушевленному предмету. Я возненавидел его всей душой.
Так или иначе, весь этот чертов бизнес был не чем иным, как видимостью активной деятельности, способом продемонстрировать, как я бьюсь, чтобы заработать на жизнь. Не знаю, зачем нужно было притворяться, разве что на это меня толкало чувство вины. Того, что зарабатывала Мона, с лихвой хватало на двоих. Вдобавок она постоянно приносила домой подарки: деньги или вещицы, которые можно было продать. Старая история. Люди не могли удержаться, чтобы не одаривать ее. Все они были, конечно, ее «поклонниками». Это она предпочитала называть их «поклонниками», а не «любовниками». Я часто спрашивал себя, чему такому в ней они поклоняются, особенно если она только и делает, что отвергает их притязания. Послушать ее, так можно подумать, что она ни разу и не улыбнулась этим «кретинам», этим «придуркам».
Часто она не давала мне спать, ночь напролет рассказывая об этой стае новых ухажеров. Странная, должен сказать, компания, в которой непременно были один или два миллионера, непременно боксер или борец, непременно псих, обычно неопределенного пола. Я никогда не мог постичь, что эти немыслимые субъекты находили в ней или надеялись от нее получить. Позже таких, кто увивался вокруг нее, стало порядочное количество. В данный момент это был Клод. (Хотя, если быть честным, она никогда не считала Клода поклонником.) Тем не менее Клод. Клод как-его-там? Просто Клод. Когда я поинтересовался, чем Клод зарабатывает на жизнь, с ней чуть не приключилась истерика. Он еще ребенок! Ему не больше шестнадцати. Конечно, выглядит он куда старше. Я должен как-нибудь познакомиться с ним. Она уверена, он мне ужасно понравится.
Я постарался изобразить равнодушие, но на нее это не подействовало. Клод – уникальная личность, твердила она. Он объехал весь мир – без гроша в кармане. «Тебе стоит послушать, как он говорит, – лепетала она. – Ты будешь изумлен. Он умнее многих, кому за сорок. Он почти Христос…»
Я не удержался и захохотал. Я смеялся ей в лицо.
– Смейся-смейся. Но когда познакомишься с ним, запоешь по-другому.
Это Клод, узнал я, подарил ей красивые индейские кольца, браслеты и другие украшения. Клод целое лето провел у индейцев навахо. Он даже научился говорить на их языке. Если бы он захотел, сказала она, то мог бы всю жизнь жить с ними.
Мне интересно было узнать, откуда он взялся, этот Клод, где родился. Она сама точно не знала, но думала, что он из Бронкса. (Что только делало его еще более уникальной фигурой.)
– Так он еврей? – осведомился я.
Она опять была не уверена. По его внешности нельзя было сказать ничего определенного. Он вообще никак не выглядел. (Странный способ рассуждать, подумал я.) Он мог сойти за индейца или за чистокровного арийца. Он был как хамелеон – менялся в зависимости от того, когда и где вы с ним встречались, в каком он был настроении, от того, какие люди окружали его, и тому подобное.
– Возможно, он родился в России, – предположил я, не желая мелочиться.
К моему удивлению, она ответила:
– Он бегло говорит по-русски, если это для тебя что-нибудь значит. Но с другой стороны, он говорит еще на нескольких языках: арабском, турецком, армянском, немецком, португальском, венгерском…
– Только не венгерском! – вскричал я. – На русском – ладно. Армянском – ладно. Турецком – так и быть, хотя это несколько чересчур. Но когда ты приплетаешь еще венгерский, ну уж нет. Как хочешь, но я должен услышать, как он говорит по-венгерски, прежде чем поверю.
– Хорошо, – сказала она, – приходи как-нибудь вечером и убедись. Но как ты сможешь судить, ведь ты не знаешь венгерского?
– Согласен! Но я знаю одно: всякий, кто умеет говорить на венгерском, сущий волшебник. Это самый трудный язык на свете – не для венгров, конечно. Твой Клод, может быть, умный парень, но не рассказывай мне, что он говорит по-венгерски! Нет, ты не заставишь меня в это поверить.
Она явно пропустила мои слова мимо ушей, судя по тому, что изрекла дальше:
– Ах да, совсем забыла: он также знает санскрит, иврит и…
– Слушай! – воскликнул я. – Он не почти Христос, он и есть Христос. В его возрасте никто, кроме Господа Всемогущего, не может знать все эти языки. Удивляюсь, как он еще не изобрел всеобщего языка. Я зайду к тебе очень скоро, не волнуйся. Хочу собственными глазами увидеть этот феномен. Я хочу, чтобы он говорил на шести языках сразу. Ничто другое меня не убедит.
Она взглянула на меня, словно желая сказать: «Ах ты, бедняга, Фома неверующий!»
Снисходительная улыбка на ее губах разозлила наконец меня.
– Что это ты так улыбаешься? – спросил я.
Добрую минуту она молчала, решая, стоит ли отвечать.
– Потому что, Вэл… потому что мне интересно, что ты скажешь, узнав, что еще он может исцелять.
Странно, но это звучало правдоподобней и больше отвечало его характеру, нежели все, что она говорила о нем раньше. Но я уже не мог отказаться от насмешливого и скептического тона.
– Откуда ты знаешь? – спросил я. – Ты что, видела, как он исцелял кого-нибудь?
Она честно отказалась отвечать на этот вопрос. Однако продолжала стоять на своем, говоря, что может поручиться, что это правда.
– От чего же он лечит, от головной боли? – насмешливо спросил я.
Она опять сделала долгую паузу. Потом серьезно, почти торжественно заявила:
– Он исцеляет от рака, если тебе это о чем-то говорит.
Тут я просто осатанел.
– Ради бога, – закричал я, – что за чушь ты несешь! Совсем сбрендила? Ты еще скажи, что он воскрешает мертвых.
На ее лице мелькнула улыбка. Голосом, уже не столько серьезным, сколько мрачным, она сказала:
– Хочешь – верь, хочешь – нет, Вэл, но это было. Когда он жил с навахо. Потому-то они так любили его…
– Ладно, дурочка, на сегодня хватит. Давай сменим тему. Если скажешь что-то еще в том же роде, я подумаю, что у тебя шарики за ролики зашли.
Тут я услышал такое, отчего прямо-таки подскочил на месте.
– Клод говорит, что видит тебя. Он знает все о тебе… постигает тебя внутренним взором. И не думай, что я ему рассказывала о тебе, этого не было! Хочешь услышать больше? – Она продолжала: – Тебя ждет потрясающая карьера: ты станешь всемирно известен. Как говорит Клод, сейчас ты слеп. Поражен духовной слепотой, а еще глух и нем…
– Клод так сказал? – Вся моя ирония улетучилась. – Хорошо, сообщи ему, что я увижусь с ним. Завтра вечером, пойдет? Но только не в этом вашем проклятом заведении!
Она была в восторге от моей полной капитуляции.
– Можешь положиться на меня, – ответила она, – я подыщу спокойное местечко, где никто вам не помешает.
Я, естественно, не мог удержаться от искушения выпытать, что еще Клод говорил обо мне.
– Узнаешь все завтра, – повторяла Мона. – Не хочу портить тебе удовольствие.
Заснул я с трудом. Клод являлся мне во сне, каждый раз в ином обличье. Хотя у него было тело подростка, говорил он голосом старца. На каком бы языке он ни обращался ко мне, я прекрасно понимал его. Я ничуть не удивился, как это ни было странно, когда сам заговорил по-венгерски. Не удивился и тому, что вдруг оказался верхом на лошади, которая была не оседлана, а сам я – босой. Часто наши беседы происходили в иных странах, в отдаленных уголках мира: Иудее, Нубийской пустыне, Туркестане, Патагонии, на Суматре. Мы перемещались каким-то нематериальным способом, всегда оказываясь там, где странствовали наши мысли, с естественной легкостью, но и не посредством усилия воли. Никогда я не видел столь приятных снов, кроме разве что определенных сексуальных. И не просто приятных, но в высшем смысле поучительных. Этот самый Клод, скорей, был моим alter ego, хотя временами поразительно напоминал Христа. Он принес мир моей душе. Указал путь. Больше того – даровал мне смысл жизни. Я наконец что-то представлял собой и не должен был никому это доказывать. Я был как бы узником мира и, однако ж, не жертвой. Я ощущал себя полностью обновленным, как человек, наконец-то освободившийся, изживший душевную смуту. Странно, мир оказался куда меньше, чем я предполагал. Более интимным, более понятным. Это был не тот мир, которому я противостоял; он был подобен спелому плоду, внутри которого я находился, который питал меня своими соками, был неистощим. Я ощущал свое единство с ним, единство со всем – и по-другому не могу это выразить.
Судьба распорядилась так, что мне не удалось встретиться с Клодом на следующий вечер. Когда завечерело, я был в Ньюарке или где-то еще и болтал с покупателем, который меня просто очаровал. Это был чернокожий, работавший грузчиком в порту, чтобы оплатить свою учебу на юридическом факультете. Уже несколько недель он сидел без работы и был не прочь послушать, как я расписываю достоинства энциклопедии. В тот момент, когда он приготовился украсить своей закорючкой нотную линию на бланке заказа, из двери высунулась его престарелая мать и упросила меня остаться обедать. Она извинилась, что помешала нам, и объяснила, что они собираются после обеда пойти на митинг и она должна напомнить сыну, чтобы он переоделся. Тот выронил ручку и скрылся в ванной комнате.
Пока я ждал его, мой взгляд упал на афишку. В ней оповещалось, что великий негритянский лидер У. Э. Беркхардт Дюбуа выступит с лекцией сегодня вечером в городской ратуше. Я едва дождался, пока вернется мой новый знакомец. Я возбужденно расхаживал по комнате. Ведь я знаю этого Дюбуа. Давным-давно, когда я обожал ходить на всяческие лекции, мне довелось слышать Дюбуа, говорившего о великом наследии негритянской расы. Это происходило в каком-то зальчике в Нижнем Ист-Сайде; аудитория, как ни странно, состояла в основном из евреев. Этот человек врезался мне в память. У него было приятное, истинно арийское лицо и внушительная фигура; тогда, если не ошибаюсь, он носил эспаньолку. Позже я узнал, что он родился в Новой Англии; его предки были с примесью французской, голландской и прочих кровей. Больше всего мне запомнилась его безупречная дикция и огромная эрудиция. Он говорил напористо, прямо, и эта его манера сразу покорила меня. Выдающаяся личность, это я понял с первого взгляда. К тому же не будь его, думал я, кто бы и когда опубликовал мою первую статью?
За обеденным столом я познакомился с другими членами семейства. Сестра, молодая женщина лет двадцати пяти, была на удивление хороша. Она тоже собиралась идти на лекцию. Это решило дело – Клод мог подождать. Когда я сообщил им, что однажды слышал Дюбуа и восхищаюсь им, они уговорили меня пойти с ними в качестве их гостя. Тут молодой человек вспомнил, что так и не подписал бумагу; он попросил позволить ему сделать это, прежде чем снова забудет. Я почувствовал себя неловко, словно надул его.
– Подумайте сперва хорошенько, – сказал я. – Если действительно хотите иметь эти книги, можно заказать их позже по почте.
– Нет-нет! – тут же вскричали мать и сестра. – Он подпишет сейчас, не то он никогда этого не сделает. Вы же знаете, что мы за народ.
Тут сестра поинтересовалась, о чем, собственно, идет речь. Пришлось объяснить ей в двух словах, каким бизнесом я занимаюсь.
– Звучит заманчиво, – сказала она. – Оставьте мне несколько бланков, думаю, я смогу обеспечить вам парочку лишних заказов.
Мы быстро покончили с обедом и набились в машину. Недурную, как мне показалось. По дороге мне рассказали о деятельности Дюбуа с тех пор, как я последний раз слушал его. Он откликнулся на предложение преподавать на Юге – месте, неподходящем для него, с его темпераментом и воспитанием. В его речах, по их мнению, появилось больше горечи и язвительности. В порыве откровения я сказал, что он напоминает мне – сам не могу сказать почему – Рабиндраната Тагора, которого я тоже слышал когда-то давно. Может быть, дело в том, что ни тот ни другой не колебался, когда нужно было сказать правду.
Когда мы подъезжали к ратуше, я подпевал долгой рапсодии о другом чернокожем, моем бывшем кумире, Хьюберте Гаррисоне. Я рассказывал им обо всем, что почерпнул, слушая его речи в Медисон-сквер-гарден, которые он произносил, взгромоздясь на ящик из-под мыла, в те дни, когда любой мог свободно выступить перед народом и говорить обо всем на свете. В те времена не было человека, сказал я искренне, кто бы сравнился с Хьюбертом Гаррисоном. Он мог уничтожить оппонента двумя-тремя меткими фразами. Он делал это четко и не повышая голоса, «деликатно», так сказать. Я описывал его прекрасную улыбку, его спокойную уверенность, львиную посадку крупной, словно из камня высеченной головы. Может быть, вопрошал я, в его жилах текла королевская кровь, может, он был потомком какого-нибудь великого африканского монарха? Да, от одного его появления словно электрическая искра пробегала по аудитории. Рядом с ним другие ораторы, белые, казались пигмеями, не только внешне, но культурно, духовно. Некоторые из них, те, которым заплатили за то, чтобы они накаляли аудиторию, вели себя как эпилептики, рядясь в тогу патриотов разумеется. Хьюберт Гаррисон, напротив, невзирая ни на какие провокации, всегда сохранял самообладание и достоинство. Он, подбоченясь, подавался всем корпусом вперед, внимательно слушал вопросы или критику в свой адрес. Да, он умел выждать нужный момент! Когда шум стихал, он улыбался своей широкой, добродушной улыбкой и отвечал – всегда по существу, всегда ясно и доходчиво, всегда исчерпывающе, словно листовку читал. Скоро уже все смеялись, все, кроме несчастного, который осмелился задать каверзный вопрос…
Я продолжал в том же духе, когда Дюбуа появился в зале ратуши. Народу было битком; на сей раз аудитория состояла в основном из чернокожих. Любой непредубежденный белый может подтвердить, что быть на негритянском собрании одно удовольствие. В паузах раздаются выкрики, оглушительный хохот и такой заразительный смех, какого никогда не услышишь, когда собираются белые. Белым не хватает непосредственности. Когда они смеются, это редко бывает от души. Обычно это притворный смех. Чернокожий смеется так же естественно, как дышит.
Дюбуа не сразу появился на помосте. Наконец он взошел на трибуну, как монарх на трон. Один его величавый вид заставил аудиторию затихнуть. В его благородной манере говорить не было и намека на демагогию, подобная тактика была ниже его достоинства. Однако его сдержанная речь таила в себе взрывную энергию динамита. Если бы он пожелал, то мог бы взорвать мир. Но было ясно, что у него нет намерения взрывать его – пока, во всяком случае. Слушая его выступление, я представлял, как в той же самой манере он обращается к съезду ученых. Я мог вообразить, как он бросает в зал слова жесточайшей правды, но так, чтобы потрясти слушателей, а не вдохновить их на бунт.
Какая жалость, думал я, что человек, обладающий такими талантами, такой мощью, вынужден ограничивать себя. Из-за своего цвета кожи он был обречен на второстепенные роли, не мог расправить крылья. Останься он в Европе, где он пользовался неизменным признанием и почетом, он бы достиг большего для себя. Но он предпочел быть с людьми одной с ним крови, чтобы пробудить их самосознание и, если возможно, улучшить мир, в котором они жили. С самого начала он должен был знать, что это безнадежная задача, что за недолгую человеческую жизнь невозможно добиться сколь-нибудь существенных изменений для своих братьев. Он был слишком умен, чтобы питать какие-нибудь иллюзии на этот счет. Я не знал, восхищаться этим напрасным, мужественным, несгибаемым упорством или сострадать ему. Невольно проводил мысленное сравнение между ним и Джоном Брауном. Один обладал незаурядным интеллектом, другого вела слепая вера. Джон Браун, с его страстной ненавистью к несправедливости и расовой нетерпимости, без колебаний выступил против святого правительства Соединенных Штатов. Найдись в этой огромной стране сотня таких, как он, я не сомневаюсь, что он сбросил бы существовавшее правительство. Когда Джона Брауна казнили, по всей стране прошли волнения, которые так по-настоящему и не прекратились до сих пор. Вполне вероятно, Джон Браун решил бы проблему чернокожих в Америке. Поражение в Харперс-Ферри, наверно, навсегда лишило чернокожих возможности обрести свои неотъемлемые права посредством прямого действия. Поразительные деяния великого Освободителя могли породить всякие немыслимые формы мятежа – в умах последующих поколений. (Точно так же память о Французской революции заставляет сильнее биться сердце француза.) Похоже, со времен Джона Брауна молчаливо признается: единственное, что позволит чернокожим занять свое место в мире, – это долгое и скорбное образование. Что это только предлог не говорить о невыносимости истинного положения вещей, чего никто не желает признавать. Вообразите себе Иисуса Христа, выступающего за подобную политику!
Дар свободы! Неужели мы вечно должны ждать, пока будем готовы получить ее? Или свобода – это такая вещь, которую необходимо вырвать из рук тех, кто деспотически владеет ею? Найдется ли кто-нибудь достаточно великий, достаточно мудрый, кто скажет, сколько еще человеку оставаться рабом?