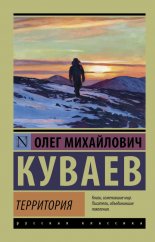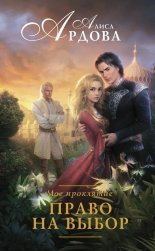Плексус Миллер Генри

«Да они придурки, – говорю я себе. – Чего ради я должен лежать в холодной грязной луже?»
– Лезь сюда, – тихо зовет Герби, – на горизонте чисто. Можно пока спрятаться здесь. – (Я лезу наверх, держась за железные поручни, и чувствую, как ледяной ветер продувает меня насквозь.) – Не свались в цистерну, – предупреждает Герби, – она наполовину полная.
Оказавшись наверху, я повисаю с внутренней стороны цистерны, уцепившись окоченевшими пальцами за край.
– Долго мы тут будем прятаться? – спрашиваю я через несколько минут.
– Недолго, – отвечает Герби. – У них сейчас смена караула. Слышишь их? Джордж будет ждать нас в служебном вагоне. Печку растопит.
Было уже темно, когда мы вылезли из цистерны и побежали в конец товарного состава, стоявшего на боковых путях. У меня зуб на зуб не попадал. Герби оказался прав. Открыв дверь вагона, мы увидели Джорджа, гревшего руки у пылавшей печки.
– Снимай пальто, Ген, – говорит он, – и обсушись. – Потом достает из маленького шкафчика фляжку с виски. – На-ка, приложись – настоящий динамит.
Я последовал его совету, вернул фляжку Джорджу, который сделал хороший глоток и передал фляжку маленькому Герби.
– Захватил чем закусить? – спрашивает Джордж у Герби.
– Мясной пирог и пару картофелин, – отвечает Герби, доставая снедь из кармана.
– А майонез?
– Не мог найти, честно, – оправдывается Герби.
– В следующий раз чтобы был майонез, понял? – гремит Джордж Маршалл. – Как, по-твоему, я буду есть печеную картошку без майонеза? – И без всякого перехода продолжает: – Теперь план такой: ползем под вагонами до паровоза. Когда я свистну, вы оба выползайте из-под вагона и бегите что есть мочи прямо к реке. Я вас встречу под мостом. Держи, Ген, приложись еще разок, а то сегодня холодно. В другой раз предложу тебе сигару, но ты откажись! Как тебе теперь?
Мне было так хорошо, что я не видел смысла торопиться покидать вагон. Но ясно было, что у них все расписано по минутам.
– А как же пирог и картошка? – осмелился я спросить.
– В другой раз, – говорит Джордж. – Нельзя им позволить окружить нас. – Он поворачивается к Герби. – Пушку приготовил?
Мы снова на улице; пробираемся под вагонами, словно беглые преступники. Я рад, что Герби дал мне шарф. По сигналу мы с Герби бросаемся лицом вниз и лежим, ожидая, когда Джордж свистнет.
– Что дальше? – спрашиваю я шепотом.
– Ш-ш! Кто-нибудь может услышать.
Через несколько минут раздается тихий свист; мы выползаем из-под вагона и со всех ног мчимся вниз по оврагу к мосту. Джордж уже поджидает нас.
– Хорошая работа, – говорит он. – Мы от них удрали. Теперь слушайте: отдохнем минуту-другую и рванем на тот вон холм, видите? – Он повернулся к Герби. – Пушка заряжена?
Герби осматривает ржавый кольт и, утвердительно кивнув, снова прячет в кобуру.
– Помни, – говорит Джордж, – не стреляй, пока не будет совершенно необходимо. Я больше не хочу, чтобы ты случайно убивал детей, понял?
Глаза у Герби блеснули, и он замотал головой:
– Мы, Ген, должны добраться до холма, прежде чем они поднимут тревогу. Как только окажемся там, мы в безопасности. И вернемся домой по дороге вдоль болота.
Низко пригнувшись, мы рысью помчались вперед. Вскоре мы очутились в зарослях тростника, и вода стала заливать ботинки.
– Глядите в оба, – пробормотал Джордж.
Мы достигли холма необнаруженными, отдохнули несколько секунд и быстрым шагом обогнули болото. Вышли на дорогу и дальше двинули не торопясь.
– Через несколько минут будем дома, – говорит Джордж. – Войдем с заднего крыльца и переоденемся. Только, чур, никому ни слова!
– Ты уверен, что мы оторвались от них? – спросил я.
– Совершенно уверен.
– Последний раз они преследовали нас аж до самого амбара, – говорит Герби.
– Что будет, если нас поймают?
Герби выразительно провел ребром ладони по горлу.
Я пробормотал, что не уверен, что меня устраивает подобная перспектива.
– Ничего не попишешь, – говорит Герби. – У нас с ними смертельная вражда.
– Завтра обсудим все в деталях, – говорит Джордж.
В большой комнате наверху стояли две кровати: одна – для меня, другая для Герби и Джорджа. Мы сразу же затопили пузатую печку и стали переодеваться.
– Тебе не трудно растереть меня? – спрашивает Джордж, стаскивая нательную рубаху. – Меня растирают дважды в день. Сперва спиртом, а потом гусиным жиром. Отличная штука, Ген.
Он лег на большую кровать, и я принялся растирать его. Я растирал, пока руки не заболели.
– Теперь ты ложись, – говорит Джордж, – Герби обработает тебя. Почувствуешь себя другим человеком.
Я повиновался. Ощущение было и правда приятным. Кровь заиграла в жилах, тело горело. Во мне проснулся такой аппетит, какого я давно не испытывал.
– Теперь понимаешь, почему я приехал сюда? – говорит Джордж. – После ужина сыграем в пинокль – просто чтобы доставить удовольствие старику, – а потом завалимся спать. Кстати, Ген, – добавил он, – следи за языком. Никаких проклятий, никаких чертей в присутствии старика. Он методист. Перед едой мы читаем молитву. Постарайся не засмеяться!
– Потом как-нибудь отведешь душу, – вторит Герби. – Будешь говорить что хочешь, чертыхаться сколько хочешь. Все равно никто не услышит.
За столом меня представили старику. Это был типичный фермер – с громадными заскорузлыми руками, небритый, пахнущий клевером и навозом, немногословный, жадно и громко жующий, ковыряющий вилкой в зубах и жалующийся на ревматизм. Мы ели как удавы, все без исключения. На столе было не меньше шести или семи видов овощей, жареный цыпленок, вкуснейший хлебный пудинг, фрукты и разные орехи. Все, кроме меня, запивали еду молоком. Затем последовал кофе с настоящими сливками и солеными земляными орешками. Пришлось распустить ремень на пару дырочек.
Как только закончили ужинать, стол очистили, и появилась колода засаленных карт. Герби пришлось помогать матери мыть посуду, а мы – Джордж, старик и я – втроем сыграли партию в пинокль. Как Джордж заранее объяснил, надо было подыгрывать старику, не то он начал бы брюзжать, остался бы недоволен. Мне, похоже, шла одна хорошая карта, что осложняло задачу. Но я делал что мог, чтобы проиграть, и притом так, чтобы старик не заметил, как я сдаю ему игру. Старик кое-как выиграл и был ужасно доволен собой. «С такими картами, как у тебя, – заметил он, – я бы закончил на третьем ходу».
Перед тем как нам подниматься наверх, Герби запустил старый эдисоновский фонограф. Одна из мелодий была «Звездно-полосатый флаг навсегда». Я слушал ее, словно песню из какой-то иной жизни.
– А смех можешь найти, Герби? – спросил Джордж.
Герби пошарил в старой шляпной коробке и двумя пальцами ловко извлек древний восковой валик. Такого я еще не слыхал. Ничего, кроме смеха – смеха психа, смеха сумасшедшего, истерического смеха. Я так смеялся, что живот заболел.
– Это что, – сказал Джордж, – ты еще не слыхал, как Герби смеется!
– Только не сейчас! – взмолился я. – Отложим на завтра.
Я уснул, не успев коснуться головой подушки. Что за постель! Сплошное мягкое, нежное перо – наверно, целые тонны пера. Такое ощущение, будто опять проваливаешься в материнскую утробу, качаясь на волнах забвения. Блаженство. Истинное блаженство.
Последнее, что я слышал сквозь дрему, были слова Джорджа: «Если понадобится, горшок для малой нужды под кроватью». Но меня не могла бы заставить подняться и большая нужда, не то что малая.
Во сне я слышал маниакальный смех психа. Ему вторили ржавые дверные петли, зеленые овощи, дикие гуси, кренящиеся звезды, мокрое белье, полощущееся на ветру во дворе. Даже папаша Герби, та его часть, которая изредка позволяла себе меланхолически радоваться. Смех возникал где-то вдали, восхитительно фальшивый, абсурдный, безумный. Это был смех ноющих мышц, смех пищи, проскальзывающей в желудок, смех времени, потраченного на дурацкие забавы, смех миллионов ничего не значащих эпизодов, гармонично складывающихся в огромную картину, приобретая необычайный смысл, необычайную красоту, необычайную ядреную жизнь. Какая удача, что Джордж Маршалл заболел и едва не умер! Во сне я возносил хвалы великому властителю Вселенной за то, что он все так грандиозно устроил. Один сон сменялся другим, потом я провалился в тяжелое забытье, исцеляющее лучше, чем сама смерть.
Я проснулся раньше всех, ублаготворенный, освеженный, и лежал неподвижно, только довольно пошевеливая пальцами. Какофония звуков, доносившихся со двора фермы, звучала для меня как музыка. Шелесты и скрипы, стук ведер, крик петуха, легкий перестук куриных клювов, пенье птиц, гусиный гогот, хрюканье и визг свиней, ржание лошадей, пыхтенье далекого локомотива на станции, хруст снега под ногами, резкие порывы ветра, скрип ржавых осей, звон пилы на сухом бревне, деловитый стук тяжелых башмаков – все слилось в симфонию, знакомую и моему слуху. Эти простые, старые как мир звуки, эта музыка раннего утра, рожденная движением каждодневной жизни, эти призывы, петушиные крики, эти голоса и отголоски скотного двора наполняли меня радостью земной жизни. Проголодавшийся и обновленный, я вновь слышал бессмертный гимн первого человека. Старую-старую песнь о свободе и изобилии, о жизни, в которой находилось все это, о синем небе, струящихся водах, покое и радости, о плодовитости всего живого и воскрешении, и жизни, длящейся вечно, жизни более изобильной, жизни сверхизобильной. Песнь, что возникает в самом нутре, растекается по венам, вольно звучит в каждой клеточке тела. Ах, как же это действительно хорошо – жить… и лежать не шевелясь. Окончательно пробудившись, я еще раз возблагодарил Отца Небесного за то, что поразил болезнью моего близнеца, Джорджа Маршалла. И так, продолжая благоговейно благодарить Господа, возносить хвалу миру Божьему, превозносить все живое, я позволил своим мыслям обратиться к завтраку, который, без сомнения, уже готовился, и долгому, ленивому течению часов, минут, секунд, покуда день не завершится. Какая разница, как пройдет день, пусть даже совсем впустую; лишь одно было важно: что время принадлежало нам и мы могли распоряжаться им как хотели.
Голоса птиц зазвучали громче. Я слышал, как они перепархивали с дерева на дерево, слышал трепет их крыльев у оконного стекла, их возню под карнизом.
– Доброе утро, Ген! Доброе утро!
– Доброе утро, Джордж! Доброе утро, Герби!
– Погоди вставать, Ген, сперва Герби затопит печку.
– Ладно. Это было бы неплохо.
– Как спал?
– Как убитый.
– Теперь понимаешь, почему я не тороплюсь выздоравливать?
– Счастливый ты человек. Ты рад, что не умер?
– Ген, я и не собирался умирать. Когда был при смерти, дал себе слово, что не умру. Жизнь слишком хороша.
– Ты прав. Слушай, Джордж, давай обманем всех и будем жить вечно, что скажешь?
Герби встал, чтобы затопить печку, потом забрался обратно в постель и закукарекал.
– Что теперь? – спросил я. – Будем лежать, пока не позовут завтракать?
– Верно, – отозвался Герби.
– Потерпи немного, Ген, и отведаешь кукурузных оладий, какие печет его мамаша. Во рту тают.
– Будут яйца; ты что предпочитаешь? – спросил Герби. – Вареные, глазунью или омлет?
– В любом виде, Герби. Какая, к черту, разница? Яйца есть яйца. Я могу и сырыми их пить.
– И бекон, Ген. Это вещь. Толщиной в палец.
Так начался второй день, за которым последовала дюжина других, похожих один на другой как две капли воды. Как я уже сказал, нам в ту пору было по двадцать два, двадцать три, но мы еще не повзрослели. У нас на уме были одни игры. Каждый день мы отчебучивали что-нибудь новенькое. «Проявлять инициативу», как называл это Джордж, было так же естественно, как дышать. В промежутках мы прыгали со скакалкой, метали кольца, играли в шарики и чехарду. Даже в пятнашки. В уборной, которая была во дворе, мы держали шахматную доску, на которой всегда поджидала незаконченная партия. Частенько мы все вместе усаживались там на корточки. И что за странные разговоры вели мы в том скворечнике. Вечно о матери Джорджа, и при этом только хорошее. Какая, мол, это святая женщина и прочее. Однажды он завел разговор о Боге, о том, что Он непременно должен существовать, поскольку только Он мог исцелить Джорджа. Герби с благоговением слушал – он преклонялся перед Джорджем.
Как-то Джордж отвел меня в сторонку, чтобы сказать кое-что по секрету. Мы собирались избавиться от Герби на часок или около того. Джордж хотел познакомить меня с деревенской девчонкой; ее можно было вызвать условным сигналом и встретиться у моста.
– Она выглядит лет на двадцать, хотя еще малолетка, – сказал Джордж, когда мы торопливо шагали к мосту. – Конечно, девственница еще, но жуткая сучка. Можно тискать как и сколько хочешь, но не больше. Я уж и так пробовал, и эдак, не дается.
Звали ее Китти. Имя, очень ей подходившее. Довольно страшненькая, но кровь в ней так и играла. Лакомый кусочек, да не укусишь.
– Привет, – сказал Джордж, когда мы скользнули к ней под мост. – Как поживаешь? Хочу познакомить тебя с другом, он из города.
Она протянула ладошку, горячую и вздрагивающую от желания. Мне показалось, что она зарделась, но, скорее всего, это был просто ядреный деревенский румянец.
– Обними-ка его покрепче.
Китти обняла меня и крепко прижалась жарким телом. Не успел я опомниться, как ее язык был уже у меня во рту. Она покусывала мои губы, мочки, шею. Я запустил руку ей под юбку, под фланелевые штанишки. Протеста не последовало. Она стонала, бормотала какие-то слова. Наконец она содрогнулась, и я почувствовал, как ладонь моя увлажнилась.
– Ну как, Ген? Что я говорил?
Мы немного поболтали, чтобы дать Китти прийти в себя, а потом с ней «схватился» Джордж. Под мостом было холодно и сыро, но мы трое так распалились, что ничего не чувствовали. Джордж снова попытался овладеть Китти, но та сумела увернуться.
Все, что ему удалось, – это просунуть его ей меж ног, где она и зажала его, как тисками.
Когда мы выходили на дорогу, Китти спросила, нельзя ли ей как-нибудь навестить нас в городе – когда мы туда вернемся. Она никогда не бывала в Нью-Йорке.
– Конечно, – сказал Джордж, – приезжай, Герби тебя проводит. На него можно положиться.
– Но у меня денег нет, – сказала Китти.
– Об этом не беспокойся, – заявил великодушный Джордж, – мы о тебе позаботимся.
– А мать отпустит? – спросил я.
Китти ответила, что матери нет до нее дела.
– Главное – отец, совсем загонял меня.
– Ничего, – сказал Джордж, – что-нибудь придумаем.
Расставаясь, она по собственному почину задрала подол и попросила понежить ее напоследок.
– Может, – сказала она, – в городе я не буду такой робкой. – Потом, повинуясь порыву, расстегнула нам ширинки, извлекла члены и – чуть ли не благоговейно – поцеловала. – Я буду мечтать о вас сегодня ночью, – прошептала она, едва не плача.
– Увидимся завтра, – бросил Джордж и помахал ей.
– Понял, что я имел в виду, Ген? Если получится ее поиметь, это будет нечто.
– У меня яйца болят.
– Попей побольше молока и сливок. Помогает.
– Лучше уж в кулак.
– Это ты сейчас так думаешь, а завтра опять к ней потянет. По себе знаю. Эта маленькая сучка меня заводит… Только Герби ничего о ней не говори, не то он жуть как расстроится. Он по сравнению с ней просто ребенок. Я думаю, он ее любит.
– Что мы ему скажем, когда вернемся?
– Да скажем чего-нибудь.
– А ее старик – ты подумал об этом?
– Вовремя вспомнил. Если он нас застукает, яйца оторвет.
– Это воодушевляет.
– Не упусти шанс, – сказал Джордж. – Деревенские девчонки страсть как хотят этого. Они куда лучше городских потаскух, сам знаешь. Они пахнут свежестью. Вот, понюхай мои пальцы – разве не потрясно?
Детские забавы… Одним из самых больших наших развлечений было по очереди кататься на старом трехколесном велосипеде умершей сестры Герби. Какое удовольствие было смотреть, как великовозрастный детина Джордж Маршалл крутит педали. Его здоровенная задница не умещалась на сиденье. Правя одной рукой, он другой вовсю трезвонил в коровий колокольчик. Водители частенько останавливались, выходили из машин, приняв его за калеку, которому нужна помощь. Джордж позволял им перевезти себя через дорогу, притворяясь паралитиком. Иногда он стрелял сигарету или требовал несколько монет, всегда с ужасным ирландским акцентом, словно только что оттуда, со своей родины.
Как-то я обнаружил в амбаре старую детскую коляску. Мне пришло в голову, что будет еще потешней, если мы станем вывозить в ней Джорджа на прогулку. Джордж не возражал. Мы напялили на него капор с лентами, захватили здоровенную лошадиную попону, чтобы укрывать его. Но, как ни старались, не могли его впихнуть в коляску. Тогда мы усадили в нее Герби. Разодели, как пупса, сунули в зубы глиняную трубку и вывезли на дорогу. На станции мы наткнулись на старую деву, поджидавшую поезд. Инициативу, как обычно, взял на себя Джордж.
– Мэм, – обратился он к ней, коснувшись своей кепки, – не скажете ли, где мы можем пропустить рюмочку? Мальчик совсем замерз.
– Голубчик, – с готовностью откликнулась старая дева. Но тут до нее дошел смысл вопроса, и она завизжала: – Что вы себе позволяете, молодой человек!
Джордж опять почтительно притронулся к кепке, сморщил губы и скосил на нее глаза, как старый спаниель.
– Всего один глоточек. Ему почти одиннадцать, и его так мучит жажда.
Герби сидел в коляске, пыхтя своей носогрейкой, и был похож на карлика.
Тут я почувствовал необходимость взять дело в свои руки. Вид у старушки был встревоженный, что мне не понравилось.
– Прошу прощения, мэм, – сказал я, приподнимая кепку, – но эти двое ненормальные. Понимаете? – Я постучал себе по лбу.
– Боже мой! Неужели! – запыхтела старушка. – Какой ужас!
– Я все делаю, чтобы они были довольны, не раздражались. С ними очень непросто. Очень. Особенно с младшим. Хотите послушать, как он смеется?
Не давая ей опомниться, я кивнул Герби. Герби засмеялся, как настоящий сумасшедший. Как партнер чревовещателя: сначала на его лице появилась невинная улыбочка, которую сменила широкая ухмылка, потом он захихикал, забормотал, забулькал и наконец засмеялся утробным смехом, который невозможно было вынести. Он мог так смеяться до бесконечности. С трубкой в одной руке, с погремушкой в виде коровьего колокольца, который неистово тряс, – в другой, он был похож на шута. Иногда он замолкал и начинал отчаянно икать, потом перевешивался через край коляски и смачно сплевывал. Джордж для вящего эффекта принялся чихать. Вытащив огромный красный платок с дырищей посередине, он громоподобно высморкался, закашлялся и стал чихать еще пуще.
– Ну вот, чем-то недоволен, – сказал я, обернувшись к старушке. – Они безвредные, зла не причинят. Отличные ребята, разве что с причудами. – Потом, повинуясь какому-то внутреннему импульсу, добавил: – Дело в том, мэм, – я почтительно коснулся кепки, – что мы все трое бродяги. Неизвестно, где приткнемся на ночь. Войдите в наше положение. Если б у вас была капелька бренди, хоть наперсточек. Не мне, нет, а для младшенького.
Герби принялся кричать. На него нашел такой приступ истеричного веселья, что он потерял контроль над своими действиями. Он с таким усердием тряс колокольчиком, что слишком далеко высунулся из коляски, и она перевернулась.
– Силы небесные! – запричитала старушка.
Джордж быстро помог Герби выбраться из коляски. Тот встал во весь рост – в куртке и длинных брюках, на голове капор, в руке колокольчик, в который он вцепился, как маньяк. Сказать, что вид у него был дурацкий, значит не сказать ничего.
– Не волнуйтесь, мэм, – говорит Джордж, – башка у него крепкая. – Берет Герби за руку, подводит его ближе. – Скажи леди что-нибудь! Скажи что-нибудь приятное! – И отвешивает ему хорошую оплеуху.
– Подонок! – вопит Герби.
– Гадкий мальчик! – говорит Джордж и хлоп его еще раз. – Что ты всегда говоришь леди? Ну-ка, скажи, не то ремня получишь.
Герби сделал ангельское выражение, возвел глаза к небу и, тщательно выговаривая слова, сказал:
– О кроткое созданье, наверно, тебя послали нам ангелы! В нашей семье девять душ, не считая козы. Меня зовут О’Коннел, мэм. Теренс О’Коннел, мы направлялись к Ниагарскому водопаду, но погода…
Старая квочка была не в силах слушать дальше.
– Вы все трое позор общества! – закричала она. – Никуда не уходите, будьте здесь, пока я поищу констебля.
– Да, мэм, – говорит Джордж, взяв под козырек, – мы никогда не уйдем, правда, Теренс? – И с этими словами дает Герби звонкую пощечину.
– Ой! – завопил Герби.
– Прекрати немедленно, негодяй! – завизжала старая дева. – А ты, – повернулась она ко мне, – почему ничего не сделаешь? Или ты тоже ненормальный?
– И я тоже, – ответил я, сжал двумя пальцами нос и заблеял по-козлиному.
– Стойте здесь! Я сейчас! – крикнула она и помчалась к начальнику станции.
– Быстро! – скомандовал Джордж. – Бежим отсюда!
Мы с ним схватили коляску и пустились бежать. Герби на секунду задержался, распутывая ленты капора, а потом рванул следом.
– Отличная работа, Герби, – сказал Джордж, когда мы оказались в безопасности. – Давайте вечером порепетируем. Ген придумает тебе новую историю, придумаешь, Ген?
– Не хочу опять изображать младенца, – сказал Герби.
– Ладно, – добродушно согласился Джордж, – в коляске будет Ген.
– Ты хочешь сказать, если сумею в нее втиснуться.
– Мы тебе поможем, даже если придется воспользоваться кувалдой.
Но после обеда нам пришли в голову новые идеи, как казалось, куда интересней. Мы до полуночи не спали, обсуждая их.
Только мы задремали, как Джордж Маршалл вдруг сел в постели:
– Ты не спишь, Ген?
Я застонал.
– Забыл спросить тебя кое о чем.
– Ну, в чем дело? – пробормотал я, боясь, что сон пройдет.
– Уна… Уна Гиффорд! Ты ни слова о ней не сказал за все это время. В чем дело, ты больше не влюблен в нее?
– Господи, – застонал я, – нашел о чем спрашивать среди ночи.
– Прости, Ген. Я только хотел знать, любишь ли ты еще ее.
– Сам знаешь, – ответил я.
– Думаю, что знаю. Ладно, Ген, покойной ночи!
– Покойной ночи! – сказал Герби.
– Спите! – откликнулся я.
Я попытался уснуть, но не получилось. Я лежал, глядя в потолок, и думал об Уне Гиффорд. Немного погодя решил, что надо это дело прояснить.
– Джордж, ты спишь? – негромко позвал я.
– Хочешь знать, не видел ли я ее в последнее время? – спросил он.
Ясно было, что он и не пытался уснуть.
– Да, хотелось бы. Расскажи мне что-нибудь о ней. Что угодно, хоть пустяк какой.
– Я б с удовольствием, Ген, понимаю твои чувства, да не о чем рассказывать.
– Господи, не говори так! Выдумай что-нибудь!
– Хорошо, Ген, попытаюсь, ради тебя. Подожди минуту. Дай подумаю…
– Что-нибудь простое, – сказал я. – Мне не нужны фантастические истории.
– Слушай, Ген, это не выдумки: я знаю, она любит тебя. Не могу объяснить, почему я так считаю, но это так.
– Неплохо. Чуть подробней.
– Последний раз, когда я видел ее, я попытался выведать, что она думает о тебе. Она прикинулась, что ты ее совершенно не интересуешь. Но я чувствовал, она страсть как хочет услышать что-нибудь о тебе…
– Что мне хотелось бы знать, – прервал я его, – так это есть ли у нее кто-нибудь?
– Кто-то есть, Ген, не могу отрицать. Но тебе нечего беспокоиться. Это просто так, оттого что тебя нет.
– Как его зовут?
– Карнахан или вроде этого. Забудь о нем! Уну беспокоит только вдова. Знаешь, это заставляет ее страдать.
– Не может она много знать об этом!
– Она знает больше, чем ты думаешь. От кого она все услышала, этого я сказать не могу. Во всяком случае, ее гордость уязвлена.
– Но я больше не хожу к вдове, ты это знаешь.
– Скажи это ей! – бросил Джордж.
– Если б я мог.
– Ген, почему бы тебе не выложить ей все как на духу? Она достаточно взрослая, чтобы понять.
– Не могу, Джордж. Я уж думал об этом не раз, но не хватает смелости.
– Может, я тебе смогу помочь?
Я резко сел в постели:
– Ты думаешь, сможешь? Правда? Слушай, Джордж, я всю жизнь буду на тебя молиться, если сможешь это уладить. Я знаю, тебя она послушает… Когда ты собираешься возвращаться в город?
– Не так быстро, Ген. Не забывай, что это старая рана. Я не кудесник.
– Но ты попытаешься? Обещаешь?
– Конечно-конечно. Fratres semper.
Моя мысль заработала с удвоенной быстротой. Через несколько секунд я сказал:
– Напишу ей завтра, сообщу, что я у тебя и что мы скоро возвращаемся. Это подготовит почву.
– Не стоит, – быстро отреагировал Джордж. – Лучше, если это будет для нее сюрпризом. Я знаю Уну.
Может, он был прав. Я не знал, на что решиться. Меня одновременно охватили воодушевление и уныние. Кроме того, его не заставить было действовать быстро.
– Давай-ка спать, – сказал Джордж. – Времени у нас полно, успеем чего-нибудь придумать.
– Я бы вернулся завтра, если б мог уговорить тебя поехать со мной.
– Не сходи с ума, Ген. Я еще не совсем поправился. Да и она не собирается на днях замуж, если это тебя гложет.
Одна мысль о том, что она выходит за кого-то другого, заставила меня оцепенеть. О такой возможности я как-то не подумал. Как умирающий, я откинулся на подушку и буквально застонал от невыносимой муки.
– Ген…
– Что?
– Пока не уснул, хочу сказать тебе кое-что… Не надо воспринимать все так серьезно. Конечно, если ваши отношения наладятся, будет прекрасно! Больше всего меня обрадует, если ты получишь ее. Но ничего у тебя не выйдет, если станешь портить себе нервы из-за нее. Она будет отравлять тебе жизнь, сколько сможет. Это ее способ вернуть тебя. Она станет говорить «нет», потому что ты будешь ждать от нее отказа. Ты сейчас не в себе. Потерпел поражение, даже не начав… Могу дать небольшой совет: порви с ней на какое-то время. Хладнокровно порви. Конечно, тут есть риск, но это надо сделать. Стоит ей взять над тобой верх – и будешь плясать под ее дудку. Никакая женщина не устоит против такого соблазна. Она не ангел, даже если тебе не хочется этого признавать. Она шикарная девчонка, и сердце у нее доброе. Я б сам женился на ней, если б думал, что у меня есть шанс… Послушай, Ген, таких, как она, пруд пруди. Ты и сам знаешь, что можешь найти кого даже получше Уны. Об этом ты думал?
– Ерунду говоришь, – ответил я. – Мне все равно, будь она хоть самая распоследняя сучка… Мне нужна только она одна – и никто больше.
– Ладно, Ген, дело твое. Я буду спать…
Я долго лежал с открытыми глазами и предавался воспоминаниям. Это были восхитительные воспоминания, в которых присутствовала Уна. Я был уверен, что Джордж расстарается ради меня. Просто он любил, чтобы его уговаривали. Сквозь щель в ставнях я видел яркую голубую звезду. Пожалуй, это доброе предзнаменование. Как какой-нибудь телок, я думал, что, может быть, она тоже не спит сейчас и грезит обо мне. Собрав все силы, я послал ей сигнал, пытаясь разбудить, если она спит. Тихим шепотом произносил ее имя. Такое красивое и так шедшее ей.
Наконец я задремал. Губы мои шептали слова старинной песни…
- С мыслью одною по свету бреду я:
- Как Спаситель отдал свою жизнь святую
- За всякую бедную душу простую —
- С мыслью одною по свету бреду я.
Забыть ее? Легко сказать! Я никогда, никогда не смогу забыть Уну, даже если у меня будет девять жен и сорок шесть детей. Джордж – сухарь. Он никогда не поймет, что значит любить: слишком рассудочен. Я решил все разузнать об этом парне, Карнахане, как только вернусь в город. Лучше не рисковать. С этой мыслью одною я брел еще какое-то время. Затем провалился в сон, как в черную яму.
На другой день с утра зарядил дождь и лил не переставая. Мы до вечера просидели в амбаре, играя во все подряд: юкер, вист, триктрак, шашки, домино, лото, в двадцать одно… Даже в дурака. Под вечер Джордж предложил попробовать сыграть на органе, который стоял в гостиной. Органчик был древний, одышливый, прямо-таки созданный для меланхолических церковных гимнов. Джордж и я играли по очереди. Мы пели во весь голос, проникновенно, как христианские мученики. Наш любимый «Будут ли звезды в венце моем?» мы исполнили под конец и в ритме джаза. Герби пел изумительно, со слезами на глазах. Его мать, не подозревая, что мы дурачимся, вошла в комнату, села в углу и слушала, повторяя время от времени: «Как красиво!»