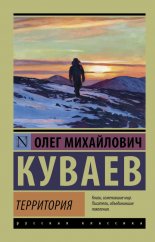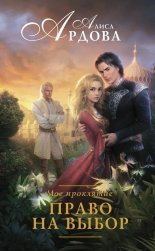Плексус Миллер Генри

Мы двинулись вперед, не имея ни малейшего представления, чего ищем и как это найти. Через несколько кварталов один жизнерадостный тип попытался стрельнуть у нас десять центов.
Шахтер из Пенсильвании, он попался, как и мы. За кофе с пончиками мы обсуждали, как выбраться из положения, в котором оказались.
– Вот что я предлагаю, – сказал он. – Пошли сегодня вечером в район красных фонарей. Там тебе всегда рады, если можешь заказать выпивку. Наверх к девчонкам подниматься не обязательно. Во всяком случае у них уютно – можно еще и музыку послушать. Лучше на шлюх смотреть, чем сидеть в этом морге, – заключил он (имея в виду Христианский союз).
Вечером за выпивкой он поинтересовался, обращали ли нас.
– Обращали? – удивились мы, не понимая, к чему он клонит.
Он объяснил. Похоже, в «морге» всегда ошивались несколько парней, желавших переманить вас в свою церковь. Даже мормоны посылали туда своих агентов. Вся штука заключалась в том, растолковывал он, чтобы слушать с невинным видом и притворяться заинтересованным. «Если придурок решил, что поймал вас на свой крючок, то запросто могут покормить. Попробуйте как-нибудь. Меня они уже достали, не могу больше».
Мы оставались в борделе сколько было можно. То и дело появлялась новая девчонка, делала нам пассы и, не дождавшись ответного знака, оставляла нас в покое.
– Им тут не так уж сладко, – заметил наш приятель. – Доллар с клиента, и то большую часть хозяйка забирает. Хотя у некоторых из них вид не такой уж измученный, что скажете?
Мы с видом знатоков оглядели девочек. Волнующее зрелище, даже более волнующее, чем милашки из Армии спасения. Все как одна жевали жвачку, негромко болтали, насвистывали, стараясь выглядеть завлекательно. Одна или две, я заметил, зевали и терли кулачками слезящиеся глаза.
– По крайней мере, они регулярно питаются. – Это подал голос О’Мара.
– Похоже что так, – сказал наш приятель. – Я бы предпочел голодать.
– Не знаю, – проговорил я. – Если бы пришлось выбирать… если бы я был женщиной… не уверен, что не попробовал бы. Во всяком случае, пока не нагулял малость жирку.
– Ты ошибаешься, – хмыкнул наш приятель, – если так думаешь. Поверь мне, на такой работе жирок не нагуляешь.
– А что скажешь вон о той? – спросил О’Мара, показывая на толстуху в тонну весом.
– Такой уж она уродилась, это всякий поймет. К тому же она не дура выпить.
Ночью, возвращаясь в никуда, я думал о Моне: как она там без меня? С момента приезда сюда я получил от нее одно короткое послание. Правду сказать, она была не любительница писать письма. Так же как и вдаваться в подробности. Из ее записки я только и узнал, что в любой момент ее могут выселить. И что тогда? Интересно было знать.
Назавтра я почти весь день болтался в ИМКА, надеясь или, скорее, моля Бога, чтобы кто-нибудь начал обрабатывать меня. Я был готов и жаждал быть обращенным в какую угодно веру, даже в мормонскую. Но никто мной не интересовался. Вечером мне пришла блестящая мысль. Все было настолько просто, что я удивлялся, почему не подумал об этом раньше. Впрочем, надо было дойти до последней точки, чтобы придумать такое.
В чем заключалась моя блестящая идея? В том, чтобы ходить из лавки в лавку и просить всего лишь продукты, которые они собирались выбрасывать: черствый хлеб, испорченные фрукты, прокисшее молоко… Тогда я не понимал, насколько это повторяло нищенскую тактику святого Франциска. Он тоже требовал лишь то, что уже не годилось в пищу. Разница, конечно, была в том, что он выполнял свое предназначение. Я же попросту старался выжить. Разница огромная!
Тем не менее произошло чудо. О’Мара взял на себя одну сторону улицы, я – другую. Когда мы встретились в конце квартала, руки у нас были полны. Мы бросились в студию Флетчера, где застали Неда, и приготовились пировать.
По правде говоря, остатки и отбросы, которые мы набрали, не были столь уж отвратительны. Всем нам и раньше доводилось есть подпорченное мясо, конечно просто в силу обстоятельств; с овощей надо было только срезать подгнившую часть; из черствого хлеба получились отменные тосты; кислое молоко восхитительно сочеталось с перезрелыми фруктами. Для китайских кули это было бы настоящим лакомством. Единственное, чего не хватало, – это глотка вина, чтобы запить подсохший сыр. Однако у нас еще оставался кофе и чуточку сгущенного молока. Мы были на седьмом небе.
– Плохо, что мы забыли пригласить Муни, – сказал О’Мара.
– Кто такой этот Муни? – поинтересовался Нед.
Мы объяснили. Нед слушал раскрыв рот.
– Господи, Генри, – ахнул он, – это невероятно! Ведь я все это время сидел в редакции. Я продавал твою работу, выдавая ее за свою, а вы, парни, торговали газетами! Надо будет рассказать Ульрику Кстати, прочитал ты свои статьи в газете? Их очень хвалили, говорил я тебе?
Я совершенно забыл о статьях. Может, я читал их, когда в коматозном состоянии сидел с утра до вечера в ИМКА, и не понял, что сам же написал их.
– Генри, – сказал Флетчер, – тебе следует вернуться в Нью-Йорк. Остальные ребята могут терять время здесь, но не ты. Я чувствую, что ты рожден для чего-то большего.
Я покраснел и постарался не обращать внимания на его слова.
– Слушай, – продолжал Флетчер, – не будь таким скромным. У тебя талант, всякому это видно. Не знаю, кем ты собираешься стать – святым, поэтом или философом. Но ты по натуре художник, в этом нет сомнения. И что важнее, ты не испорчен. Способен забыть о том, что сочинил, а это о многом говорит.
Нед, который все еще чувствовал себя виноватым, горячо поддержал его:
– Как только получу чек, Генри, тут же дам тебе денег на билет до дому. Это самое малое, что я могу для тебя сделать. Мы с О’Марой как-нибудь перебьемся. Что скажешь, Тед? Ты ветеран: бродяжничаешь с десятилетнего возраста.
О’Мара ухмыльнулся. Теперь, найдя способ добывать пропитание, он воспрянул духом.
Кроме того, оставался Муни, к которому он успел порядком привязаться. Он был уверен, что вместе они сумеют что-нибудь придумать.
– Но кто будет писать статьи для газеты?
– Об этом я уже позаботился, – сказал Нед. – На следующей неделе они сделают меня техническим редактором. Это как раз по моей части. Так что, возможно, скоро начну зашибать настоящую деньгу.
– Глядишь, и мне сможешь подкинуть какой-никакой заказ, – сказал Флетчер.
– Я и об этом думал, – кивнул Нед. – Если Тед возьмет на себя добычу еды, я займусь остальным. До получки осталось ждать всего несколько дней.
Ночевали мы снова у Флетчера. Я провел бессонную ночь – не потому, что кроватью мне был жесткий пол, а из-за мыслей о Моне. Теперь, когда появилась возможность вернуться домой, нельзя было сделать это быстро. Всю ночь я ломал голову, стараясь что-то придумать. Перед рассветом меня осенило: а не сможет ли родитель оплатить хотя бы часть дороги? Если б только я добрался до Ричмонда, это меня здорово бы выручило.
С утра пораньше я отправился на телеграф и послал старику телеграмму. К вечеру пришел перевод – на полный билет. Я занял у Муни пятерку на еду и в тот же день сел в поезд.
Входя в вагон, я чувствовал себя новым человеком. Не прошло и получаса, как я напрочь забыл о Джексонвилле. Какое наслаждение было дремать на мягком сиденье! Странная вещь: я поймал себя на том, что вновь начал писать – в уме. Да, мне буквально не терпелось добраться до пишущей машинки. Казалось, вечность прошла с тех пор, как я написал последнюю страничку… Я плохо представлял себе, в каком положении найду Мону, что мы будем делать дальше, где будем жить и тому подобное. Все это не имело большого значения. Так чертовски здорово было сидеть в удобном вагоне – да еще с пятью долларами в кармане… Наверно, ангел-хранитель заботился обо мне! Я думал о словах Флетчера, сказанных им на прощанье. Действительно ли я художник? Несомненно. Но это еще предстояло доказать… В конце концов я поздравил себя с тем, что прошел сквозь эти испытания и приобрел столь горький опыт. «Опыт – золото», – повторял я себе. Сентенция немного глуповатая, но она подействовала на меня как хорошее успокоительное, и я мирно уснул.
13
И вновь я в отчем доме, или, говоря иначе, вновь на улице ранних скорбей. Мона живет у своих родителей. Единственный выход – pro tem[104] – начать зарабатывать. Как только продам несколько рассказов, можно будет опять жить вместе.
С утра, когда родитель уходит в свое ателье, и до обеда, когда он возвращается, я усердно пишу – каждый день. И каждый день мы, Мона и я, разговариваем по телефону; иногда в полдень мы встречаемся, чтобы перекусить в дешевом ресторанчике. Хотя не так часто, как хотелось бы Моне. Она сходит с ума от страха, сомнений, подозрений. Просто не может поверить, что я пишу дни напролет, с рассвета до заката.
Время от времени я, конечно, прерываю работу, чтобы заняться «изысканиями». У меня сотня разных замыслов, и все они требуют изучения предмета и работы с документами. Я несусь вперед на всех парах, и когда сажусь за машинку, страницы так и вылетают одна за другой.
В данный момент я добавляю последние штрихи и к автопортрету, которому дал название «Неудачник». (Мне и в голову не приходит, что человек по имени Папини, который живет в Италии, вскоре выпустит книгу под тем же названием.)
Не сказал бы, что дом моих родителей – идеальное место для работы. Я сижу у окна, выходящего на улицу, скрытый кружевными занавесками. Правило этого дома таково: если увидишь приближающегося гостя, исчезни! Именно это я и делаю всякий раз: исчезаю в стенном шкафу со всеми своими книгами, бумагами, пишущей машинкой и прочим. Фантастика! (Я называю себя «нашей семейной тайной».) Иногда во время сидения в темноте среди складок одежды мне в голову приходят блестящие идеи – наверняка под воздействием резкого запаха камфарных шариков от моли. Мысли просто бомбардируют меня, так что с огромным трудом удается дождаться ухода посетителя. В полном мраке я пытаюсь записать их неразборчивыми каракулями на клочках бумаги. (Только ключевые слова и фразы.) Что до духоты в шкафу, то это совершеннейший пустяк. Я способен три часа вообще не дышать, если необходимо.
Выбираясь из своего убежища, неизменно слышу материнское: «Тебе не следует столько курить!» Табачный дым, видите ли, выдает меня. Ее обычное объяснение: «Генри только что был здесь». Слыша эту ее неубедительную ложь любопытному гостю, я иногда кусаю рукав пальто, чтобы не захихикать.
Время от времени она помогает мне советом: «Не мог бы ты писать рассказы покороче?» Она думает – бедняжка! – что чем скорей я закончу, тем быстрее мне за них заплатят. Она слышать не желает о всяких там неудачных вариантах. Делает вид, будто не верит, что такое бывает.
– О чем сейчас пишешь? – спрашивает она как-то утром.
– О нумизматике, – отвечаю я.
– Что это такое?
Объясняю в нескольких словах.
– И ты действительно думаешь, что люди будут читать о подобных вещах?
Интересно, что бы она сказала, признайся я, что пишу «Неудачника»?
Родитель более терпим. Я чувствую его скепсис и что он относится к моим трудам как к нелепому вздору, но он любопытен и хотя бы притворяется, что ему интересно то, чем я занимаюсь. Ему не совсем понятно, как воспринимать тот факт, что его сын, женатый уже вторым браком, имеющий ребенка, день-деньской сидит в столовой и стучит на машинке. В глубине души он доверяет мне. Он знает, что когда-нибудь и в чем-нибудь я добьюсь успеха.
За углом, куда я сворачиваю каждое утро, идя за газетой и пачкой сигарет, располагается лавчонка, хозяин которой новый человек в нашем квартале – некий мистер Коэн. Он единственный, этот мистер Коэн, кто вообще интересуется тем, что я делаю. Он думает, что это замечательно – иметь своим клиентом писателя, пусть даже и начинающего. Все остальные торговцы, надо сказать, знают меня очень давно; ни один не подозревает, что я повзрослел и стал иным человеком. Для них я по-прежнему маленький мальчуган с соломенными волосами и невинной улыбкой.
Но мистер Коэн явился из иного мира, из иной эпохи. Он не более «здешний», чем я. Вообще-то, поскольку мистер Коэн еврей, он не внушает доверия. Особенно старожилам. В одно прекрасное утро дорогой мистер Коэн признается мне, что когда-то тоже имел честолюбивое намерение стать писателем. Совершенно искренне он сообщает, как много для него значат наши короткие обмены репликами. Большая удача, говорит он, знать кого-то, кто с тобой одного поля ягода. (Полагаю, он имел в виду – близкого по духу.) Понизив голос и скривившись, он поведал, что придерживается весьма нелестного мнения о хозяевах соседних лавок. Ах, милый мистер Коэн, дорогой мистер Коэн, приди, приди, где бы ты ни был, и дай облобызать твой восковой лоб! Так что же все-таки объединяло нас? Несколько умерших писателей, страх и ненависть к полиции, презрение к идолопоклонникам и страсть к хорошим сигарам. Ни ты, ни я не были знатоками искусства. Но твои слова ласкали мой слух, как звуки челесты. Шагни ко мне, бледный дух, шагни с божественной выси и дай вновь обнять тебя!
Мать моя, конечно, была не просто удивлена, но шокирована, узнав, что я подружился с «тем коротышкой-евреем». О чем, господи, мы разговариваем? О книгах? Разве он читает? О мать моя, читает, читает на пяти языках! Она качает головой, недоверчиво, осуждающе. В любом случае иврит и идиш, которые для нее одно и то же, она не держит за языки: только еврей понимает подобную тарабарщину. (Ах! Ах!) Ничего серьезного, говорит она, не может быть написано на таких диковинных языках. О мать моя, а Библия? Она пожимает плечами. Она имела в виду книги, а не Библию. (Sic!)
Что за мир! Из моих прежних дружков никого, все разъехались кто куда. Я уже не встречу на улице Тони Мореллу. Его папаша по-прежнему сидит у окошка, починяя обувь. Всякий раз, проходя мимо сапожной мастерской, я здороваюсь с ним. Но у меня недостает смелости спросить его о Тони. Но как-то, читая «Болтуна», местную газетку, я узнал, что мой давний друг выставил свою кандидатуру на муниципальных выборах в другом районе, где жил теперь. Может, однажды он станет президентом Соединенных Штатов! Это было бы нечто, а! Президент, вышедший из нашего захудалого квартала. Мы уже могли похвастаться полковником и тыловым адмиралом. Это были не кто иные, как братья Гроганы. Они жили чуть ли не в соседнем с нами подъезде. «Отличные ребята!» – в один голос говорили соседи. Немного позже один из них и в самом деле стал генералом, ей-богу! Что до второго, тылового адмирала, то будь я проклят, если его не направили в Москву со специальной миссией, и это сделал не кто иной, как президент нашей Империи трясунов. Не так плохо для нашей невзрачной улицы.
А еще, думаю я про себя (de la part des voisins[105]), у нас есть малыш Генри. Кто знает, может, из него получится новый О. Генри? Если Тони однажды выдвинули в президенты, наверняка Генри, наш малыш Генри, может стать знаменитым писателем. Наверняка.
Все же (чуть изменим тональность) слишком плохо, что мы не дали ни одного порядочного боксера-профессионала. Братья Ласки сошли на нет. Не было в них чемпионской жилки. Нет, наш квартал был не из тех, что могут взрастить Джона Л. Салливена или Джеймса Дж. Корбетта. Старый Четырнадцатый округ, конечно, дал дюжину хороших бойцов, не говоря уже о политиках, банкирах и добрых старых «мошенниках». У меня было такое чувство, что живи я снова среди прежних моих соседей, так писал бы куда смачней. Если б только я мог сказать «привет!» ребятам вроде Лестера Рирдона, Эдди Карни, Джонни Пола, то почувствовал бы себя новым человеком.
– Черт! – сказал я себе, постукивая рукой по железным остриям ограды. – Со мной еще не покончено. Отнюдь нет…
И вот однажды утром я соскакиваю с кровати как ошпаренный. Я решил ворваться в мир и громко заявить о себе. Никакого плана, никакой идеи у меня нет. Сую под мышку пачку рукописей и выскакиваю на улицу.
Словно подталкиваемый невидимой рукой, углубляюсь в издательские дебри и оказываюсь лицом к лицу с одним из редакторов пятицентового журнальчика. Я жажду зацепиться в редакции.
Самое удивительное, что этот человек из племени Миллеров. Джеральд Миллер, и никак иначе. Хороший знак!
Мне нет необходимости расхваливать себя, потому что он заранее расположен ко мне. «Нет никакого сомнения, – говорит он, – вы прирожденный писатель». Перед ним гора рукописей; он бегло просматривает мою, чтобы удостовериться, что я что-то умею.
– Значит, хотите работать на наш журнал? Что ж, вполне возможно, я смогу выхлопотать вам место. Один из наших редакторов уходит через неделю-две; я поговорю с боссом и посмотрю, что можно сделать. Уверен, вы нам подойдете, даже если у вас нет опыта работы. – Затем добавляет несколько новых откровенных комплиментов.
Вдруг он ни с того ни с сего говорит:
– Почему бы вам пока не написать что-нибудь для нас? Знаете, мы хорошо платим. Полагаю, вы найдете, на что потратить двести пятьдесят долларов, не так ли?
И, не дожидаясь ответа, продолжает:
– Почему бы вам не написать о словах? Достаточно только взглянуть на то, что вы принесли, чтобы понять, с какой любовью вы относитесь к словам…
Я плохо представляю, что можно написать на такую тему, особенно для читателей пятицентового журнальчика.
– Я сам не очень-то представляю, – говорит он. – Дайте волю воображению. Но не слишком растекайтесь. Постарайтесь уложиться, скажем, в пять тысяч слов. И помните: наши читатели не профессора колледжей!
Мы еще немного поболтали, и он проводил меня до лифта.
– Загляните примерно через недельку, – сказал он. Затем достал из кармана купюру и сунул мне. – Наверно, это не будет лишним. – Он улыбнулся.
На улице я увидел, что это была бумажка в двадцать долларов. Я чуть было не бросился назад, чтобы поблагодарить его, но потом подумал, не стоит, может, у них в обычае такая забота о писателях.
«Снег шел по всей Ирландии…»[106] Слова эти звучали рефреном у меня в ушах, когда я вприпрыжку бежал по булыжной мостовой обратно к дому. Потом пришла, не знаю почему, другая строка: «В доме Отца Моего обителей много…»[107] Обе строки прекрасно сочетались: снег, что падает, нежный, мягкий, густой (над всей Ирландией), и усыпанные им обители блаженства, коих у Отца бесчисленное множество. Это был мой День святого Патрика – ни единой змеи не видать. По какой-то необъяснимой причине я чувствовал себя ирландцем до мозга костей. Чуточку Джойсом, чуточку камнем Бларни, малость шалопаем – Erin Go Bragh[108] (каждый раз, когда учитель поворачивался к нам спиной, кто-нибудь подкрадывался к доске и царапал мелом пылающее: Erin Go Bragh!). Я шагаю по улицам Бруклина, и тихо падает снег. Надо попросить Ульрика еще почитать мне тот отрывок. У него очень подходящий голос. Красивый, мелодичный. Это так, Ульрик!
По всей Ирландии шел тихий снег…
Легкий, как горный козел, бесплотный, как воздух, мечтательно улыбаясь, как фавн, я летел домой над шампанскими пузырьками булыжника.
Если б я только знал, что писать! Двести пятьдесят долларов – это не пустяк. А обычай редакции – выдавать аванс! Подумать только, я вдруг стал человеком! Слышал бы наш разговор мистер Коэн. (Шолом Алейхем!) Пять тысяч слов. Ерунда. Напишу в один присест. Как только соображу, что писать. Слова, слова…
Хотите – верьте, хотите – нет, но слова никак не хотели ложиться на бумагу. Любимый мой предмет, и вот поди ж ты – обезъязычил. Я был удивлен. Хуже того – подавлен.
Может быть, следует провести небольшое предварительное исследование. Что я, в сущности, знаю об английском? Почти ничего. Одно дело – пользоваться им, и совсем другое – умно написать о нем.
Нашел! Почему не обратиться прямо к источнику? К главному редактору знаменитого полного словаря? Какого? «Фанк и Уогнолл». (Единственного, какой у меня имелся.)
На другой день рано утром сижу в приемной, ожидая появления самого доктора Визителли. (Это все равно что просить помощи у Иисуса Христа, думаю я про себя.) Однако назад хода нет. Я только молюсь, чтобы не сморозить какую-нибудь глупость, как уже случилось несколько лет назад, когда, придя к знаменитому писателю, спросил его в лоб: «Как начинают писать?» (Ответ: «Берут ручку и пишут». Именно так, слово в слово, он и сказал, и на том мое интервью закончилось.)
Доктор Визителли стоит передо мной. Энергичный, радушный, полный жизни и огня человек. Просит чувствовать себя непринужденно. Рассказать, что привело меня к нему. Придвигает удобное кресло, садится, внимательно выслушивает и начинает говорить…
Целый час или даже больше эта добрая, милосердная душа, перед которой я вечно буду чувствовать себя в долгу, делится со мною всем, что, как ему кажется, может быть мне полезно. Он обрушивает на меня такой поток сведений и делает это с такой скоростью, что я не успеваю ничего записать. У меня голова идет кругом. Как я запомню хоть малую часть этой увлекательной информации? Такое ощущение, будто я сунул голову в фонтан.
Видя мои затруднения, доктор Визителли приходит мне на выручку. Он велит помощнику принести мне брошюры и проспекты. Настоятельно советует просмотреть их на досуге. «Убежден, вы напишете превосходную статью», – говорит он, ласково улыбаясь, как крестный отец. Затем просит оказать любезность и продемонстрировать, прежде чем отнесу в журнал, что у меня получится.
Тут же неожиданно спрашивает: как давно я пишу? чем еще занимаюсь? какие книги читал? какими языками владею? Вопросы сыплются один за другим, как пулеметная очередь. Чувствую себя полным ничтожеством, или, как говорят ортодоксальные евреи, efesefasim. Чем я действительно занимаюсь? Что действительно знаю? Я был разоблачен, и что мне оставалось делать, как не исповедаться смиренно в своих грехах и недостатках. Так я и сделал, как исповедовался бы священнику, будь я католик, а не жалкое отродье Кальвина и Лютера.
Какая личность, сколько жизненной энергии, магнетизма! Кто бы вообразил, встретив этого человека на улице, что он редактор словаря? Первый эрудит, который вызвал во мне доверие и восхищение. Се человек, повторяю я снова и снова. Настоящий мужик, и к тому же еще и с головой на плечах. Не какой-то там источник мудрости, но неугомонный, мчащийся, ревущий поток. Каждая клеточка его существа вибрирует, словно под током. Он не только знает каждое слово английского языка (включая те, которые, по его выражению, «заморожены»), но разбирается в винах, лошадях, женщинах, еде, птицах, деревьях; он знает, как носить ту или иную вещь, знает, как нужно дышать, как расслабляться. И еще он достаточно знает, чтобы изредка напиваться. Зная все, он любит все. Теперь мы равняемся на него! Человек устремляется вперед – чуть не сказал, на карачках – навстречу жизни. С песней на устах. Спасибо, доктор Визителли! Спасибо за то, что вы есть!
Расставаясь, он сказал – разве могу я когда-нибудь забыть его слова? – «Сынок, у тебя есть все задатки писателя, я в этом уверен. Теперь действуй, покажи, на что ты способен. Заходи, если понадобится помощь». Он ласково положил ладонь мне на плечо, а другой пожал мне руку. Это было благословение. Аминь!
Больше не идет мягкий белый снег. Дождь, дождь в глубине души моей. Слезы бегут по лицу – слезы радости и благодарности. Я узрел наконец лицо моего истинного отца. Теперь я знаю, что это значит – Параклет, Заступник. Прощай, отец Визителли, ибо никогда больше не увижу я тебя. Да святится имя твое отныне и вовеки!
Дождь иссякает. Только сеется мелкая изморось – под сердцем, – словно клоаку пропустили сквозь частый фильтр. Грудь полна мельчайших частиц субстанции, называемой H2O, которая, попадая на язык, оказывается соленой. Микроскопические слезы, что драгоценней крупных жемчужин. Медленно сеются в огромную полость, над которою властвуют слезные протоки. Сухие глаза, сухие ладони. Лицо абсолютно спокойно, открыто, как Великие Равнины, и расцветает радостью.
(«Опять снег пошел, мистер Конрой?»[109])
Как замечательно говорить на родном языке и слышать ответ на нем же, ставшем вновь универсальным языком. Как уверил меня доктор Визителли, из 450 000 слов, содержащихся в полном словаре, я знаю по меньшей мере 50 000. Даже ассенизатор обладает запасом минимум в 5000 слов. Чтобы убедиться в этом, достаточно лишь сесть у себя дома и оглядеться. Дверь, кнопка звонка, звонок, стул, дверная ручка, дерево, металл, занавеси, окно, подоконник, пуговица, ножки, ваза… В любой комнате находятся сотни предметов, и каждый из них обозначается своим существительным, не говоря уже о сопровождающих его прилагательных, наречиях, глаголах и причастиях. И словарь Шекспира едва ли богаче словаря какого-нибудь нынешнего идиота.
Так для чего нам еще какие-то слова? Что мы будем делать с ними?
(«А свой родной язык вам не надо изучать?»)
Да, родной язык! Langue d’oc[110]. Или какой-нибудь щелкающий птичий. На иврите существует по крайней мере десять способов сказать «здравствуй!» в зависимости от того, к кому обращаешься: к мужчине, женщине, к мужчинам, женщинам или к мужчинам и женщинам и так далее. Корове или козлу никто, находясь в здравом уме, не говорит «здравствуй!».
Держу путь к дому, на улицу ранних скорбей. В Бруклин, город мертвых. Малую родину…
(«А свою родину вам не надо знать?»)
Да, мрачный Бруклин знаю я и то, что вокруг него, – болота, мусорные свалки, смердящие каналы, извечные пустыри, кладбища… Родимая пустошь.
А я не рыба, не гусь…
Больше не моросит. Нутро наполнено мокрым салом. С севера наплывает холод. Ах, это опять снег!
И тут мне является, прямо из могилы, тот отрывок, который Ульрик мог декламировать так, словно родился в Дублине… «Опять пошел снег. Он сонно следил, как хлопья снега, серебряные и темные, косо летят в свете фонаря. Пришло время и ему начать свой путь к закату. Да, газеты оказались правы: снег шел по всей Ирландии. Он ложился на темную центральную равнину, на безлесые холмы, тихо ложился на Алленские болота и, далеко на западе, беззвучно исчезал в черных неукротимых водах Шаннона. Он шел и над одиноким кладбищем на холме, где покоился Майкл Фюррей. Снег густо облепил покосившиеся кресты и могильные камни, заостренные прутья калитки, голые ветви терновника. Его душа медленно погружалась в забытье под тихий шорох снега, что легко ложился по всей земле, легко ложился, как вечный покой, на всех живых и мертвых».
В этом царстве снега, под сладостную литанию родного языка, торопился я домой, всегда домой. Под обложкой гигантского словаря, между аблятивов и отглагольных существительных я свернулся калачиком и мгновенно уснул. Между Адамом и Евой лежал я, в окружении тысяч северных оленей. Укутанный сияющим туманом, в который превращалось мое теплое дыхание, охлаждаемое околоплодными водами. В la belle langue d’oc появился я на свет. Пуповина обвивала мою шею, нежно стискивала горло. И имя той пуповины было Nemesh…
Целый месяц или больше ушло на то, чтобы написать статью для моего однофамильца Джеральда Миллера. Закончив ее, я обнаружил, что написал пятнадцать тысяч слов вместо пяти. Я сократил ее наполовину и отнес в редакцию. Неделю спустя получил чек. Статью, между прочим, так и не напечатали. «Слишком хорошо» – таким был приговор. В штат меня тоже не взяли. Я так и не узнал почему. Вероятно, был «слишком хорош».
Однако с двумястами пятьюдесятью долларами в кармане мы с Моной могли снова жить вместе. Мы сняли меблированную комнату на Хэнкок-стрит в Бруклине, городе мертвых, почти мертвых и мертвее мертвых. Спокойная, респектабельная улица, ряды одинаковых безликих каркасных домов с маленькой верандой с тентом, лужайкой и железной оградой. Плата была божеской; нам было разрешено пользоваться газовой плитой, задвинутой в нишу, к старинной раковине. Домовладелица, миссис Хенникер, занимала нижний этаж; остальная часть дома была отдана постояльцам.
Миссис Хенникер была вдовой; муж ее разбогател, владея питейным заведением. В ней текла кровь голландцев, швейцарцев, немцев, норвежцев и датчан. Невероятно энергичная, сующая нос во что не следует, подозрительная, жадная и злобная, она могла бы сойти за хозяйку борделя. Обожала рассказывать скабрезные истории и сама хихикала при этом, как школьница. Со своими постояльцами была очень строга. Никаких фокусов! Никакого шума! Никаких вечеринок! Никаких посетителей! Платите точно в срок или съезжайте!
Старой шельме понадобилось время, чтобы привыкнуть к тому, что я писатель. Что ее потрясало, так это пулеметная дробь моей машинки. Она не могла поверить, что можно писать с такой скоростью. Но больше всего ее терзал страх, что, будучи писателем, я через несколько недель забуду платить за комнату. Чтобы успокоить ее, мы решили внести плату за несколько недель вперед. Невероятно, как такой пустяк смог укрепить наше положение.
Она то и дело стучалась к нам, робко извинялась, что прерывает меня, а потом стояла час или больше на пороге, изводя меня вопросами. Ей явно не давало покоя то, что человек может день-деньской сидеть за машинкой и писать, писать, писать. Что я могу такого писать? Рассказы? Какие рассказы? Не позволю ли я ей как-нибудь прочитать один из них? И так далее и тому подобное. Самые немыслимые вопросы, как это водится у женщин.
Вскоре она стала заходить ко мне для того, чтобы, по ее словам, предложить тему для рассказа: случаи из ее жизни в Гамбурге, Дрездене, Бремене, Дармштадте. Всякие безобидные пустяки, дорогие ее сердцу, рассказывая о которых она так волновалась, что иногда ее голос падал до шепота. Если я захочу использовать ее истории, то, конечно, должен буду изменить место действия. И разумеется, дать героине другое имя. Какое-то время я поощрял ее, с радостью принимая маленькие подношения: творожный пудинг, колбасный фарш, оставшееся от обеда тушеное мясо, пакетик орехов. Я уговаривал ее испечь коричный кекс, Streuselkuchen[111], яблочный пирог – так, как пекут в Германии. Она была почти на все готова, лишь бы только когда-нибудь прочитать о себе в журнале.
Однажды она спросила прямо: случается ли мне продавать свои рассказы? Видимо, она прочитала все последние журналы, какие могла, и не обнаружила моего имени ни в одном из них. Я терпеливо объяснил, что иногда приходится ждать несколько месяцев, прежде чем рассказ примут, и еще несколько месяцев, когда за него заплатят. Я тут же добавил, что мы живем на гонорар за несколько рассказов, проданных год назад – за приличную сумму. После чего, словно мои слова не произвели на нее никакого впечатления, она решительно сказала: «Когда станет голодно, вы можете пообедать со мной. Иногда мне так одиноко». И, глубоко вздохнув, добавила: «Не очень-то небось весело быть писателем?»
Конечно не очень. Догадывалась она или нет, но мы всегда были голодны как волки. Не важно, сколько денег удавалось раздобыть, они таяли как снег весной. Мы вечно рыскали в поисках старых друзей, которые пригласили бы нас к столу, ссудили деньгами на трамвай или взяли с собой в кино или театр. По ночам мы устраивали постирушку и сушили белье на бечевке, натянутой между спинками кровати.
Сама всегда с набитым брюхом, миссис Хенникер чувствовала, что нас постоянно мучает голод. Она часто повторяла свое приглашение пообедать, «когда станет голодно». Никогда не говорила: «Не желаете ли отобедать со мной, специально для вас я приготовила замечательного тушеного кролика». Нет, она получала извращенное удовольствие, стараясь заставить нас признаться, что мы умираем с голоду. Мы, конечно, никогда не признавались. Прежде всего потому, что признание означало бы, что придется писать такие рассказы, какие по вкусу миссис Хенникер. Кроме того, даже наемный писака должен сохранять лицо.
Каким-то образом нам удавалось перехватить денег, чтобы вовремя заплатить за комнату. Иногда на выручку приходил доктор Кронски, иногда Керли. Это была борьба за выживание. Когда становилось совсем плохо, мы отправлялись к моим родителям – добрый час пешком – и сидели там, покуда не наедались досыта. Часто Мона тут же после обеда засыпала на кушетке. Я из последних сил поддерживал беседу, моля Бога, чтобы Мона проспала не дольше, чем позволяют приличия.
Эти послеобеденные беседы были сущей мукой. Я отчаянно старался избегать разговоров о своей работе. Однако неизбежно наступал момент, когда отец или мать спрашивали: «Ну, как пишется? Продал что-нибудь с тех пор, как мы виделись последний раз?» И я стыдливо лгал: «Конечно, недавно продал еще два рассказа. Все идет отлично, правда». В их глазах вспыхивали радость и изумление, и они в один голос спрашивали: «Какому журналу ты их продал?» Я называл какой-нибудь наугад. «Мы поищем, Генри. Как думаешь, когда их напечатают?» (Через девять месяцев они напоминали, что все еще ищут те рассказы, которые я якобы продал тому или иному журналу.)
Ближе к концу вечера мать, словно собираясь сказать: «Пора спуститься на землю!» – спрашивала, посерьезнев, не думаю ли я, что разумней бросить писательство и поискать работу. «У тебя было такое замечательное место в… Как ты только мог уйти оттуда? Нужны годы, чтобы стать хорошим писателем, а ведь может еще ничего не получиться». И так далее и тому подобное. Это было невыносимо. Родитель, напротив, всегда делал вид, что верит в мою способность блестяще справиться со всеми трудностями. «Дай только время, и все образуется!» – говорил он ей. На что мать возражала: «А на что они будут жить сейчас?» Тут вступал я: «Не беспокойся, мама, я умею зарабатывать. Ты же знаешь, у меня есть голова на плечах. Ведь не думаешь ты, что мы собираемся голодать, правда?» И все равно мать считала – и повторяла это снова и снова, словно разговаривая сама с собой, – что все-таки разумней было бы устроиться на работу, а сочинять в свободное время. «Ну, глядя на них, ведь не скажешь, что они голодают?» Это был отцовский способ сказать мне, что, если мы действительно голодаем, все, что мне только нужно сделать, – это зайти к нему в ателье, и он поможет, чем может. Мы оба это понимали. Я молча благодарил его, а он молча принимал благодарность. Разумеется, я никогда не заходил к нему. Во всяком случае, чтобы просить денег. Время от времени я неожиданно заявлялся к нему, просто чтобы поднять ему настроение. Даже когда он понимал, что я привираю – а я плел что-то совершенно невероятное, – он не подавал виду. «Потрясающе! Уверен, дела у тебя пойдут еще лучше». Иногда, уходя от него, я не мог сдержать слез. Так хотелось поддержать его. Он сидел в задней комнате своего ателье – законченный неудачник, чье дело полетело ко всем чертям, но который все равно не унывал, все равно был полон оптимизма. Вероятно, последний заказчик появлялся у него несколько месяцев назад, и все равно он оставался хозяином ателье, «боссом». Какая ирония! «Да, – говорил я себе, шагая по улице, – с первого же гонорара принесу ему несколько зеленых». После чего сам преисполнялся оптимизма, лелея безумную надежду, что какой-нибудь редактор проникнется ко мне симпатией и подпишет чек авансом на пятьсот или тысячу долларов. К тому времени, как я добирался до дому, я был готов довольствоваться пятеркой. По правде говоря, я бы согласился на что угодно: лишний обед, марки для конверта, даже на шнурки для ботинок.
«Сегодня была почта?» – с этим неизменным вопросом я входил в дом. Если меня ждал пухлый пакет, я знал, что это из путешествия по редакциям вернулась моя рукопись. Тонкий конверт – значит, записка с отказом и просьбой оплатить почтовые расходы, если хочу получить рукопись обратно. Или же это были счета. Или письмо от адвоката, отправленное по какому-то из старых адресов и сверхъестественным образом нашедшее меня.
Задолженность по алиментам росла. Я никогда не смогу выплатить их, никогда. Больше, чем всегда, мне было ясно, что я закончу свои дни в тюрьме на Реймонд-стрит.
«Что-нибудь да подвернется, вот увидишь».
Если что-то и подворачивалось, то лишь благодаря ее изобретательности. Это Мона вышла на редактора «Непристойных историй» и получила заказ написать для них полдюжины рассказов. Чистая правда. С большим скрипом и прилагая героические усилия, я написал парочку под ее именем; потом мне пришла в голову блестящая мысль просмотреть их же старые подшивки, взять оттуда рассказы и, изменив имена героев, начало и конец, тронув кое-где текст, им и отослать. Уловка не только сработала – в редакции приняли эти подделки на ура. Что было естественно, раз уж они однажды пробовали это блюдо и оно пришлось им по вкусу. Но скоро мне надоело заниматься подобной стряпней. Чистая потеря времени. В один прекрасный день я не выдержал. «Скажи им, пусть катятся ко всем чертям». Она сделала, как я велел. Результат получился совершенно неожиданный. Из «нашего редактора» его милость превратился в лучшего друга. Мы получили впятеро больше денег, чем за проклятые рассказы. Что получил em>он, не знаю. Если верить Моне, все, что он от нее требовал, – это на полчаса появляться на публике, обычно в кафе-кондитерской. Невероятно! Еще невероятней было другое: однажды он признался, что он девственник. (В сорок девять-то лет!) О чем он умолчал, так это о том, что к тому же еще извращенец. Подписывалось на этот гнусный журнальчик, как мы узнали, порядочное число извращенцев: министры, раввины, врачи, юристы, преподаватели, реформаторы, конгрессмены и прочий подобный народ, о ком никогда не подумаешь, что они интересуются такой макулатурой. Несомненно, крестоносцы порока лучше своих читателей знали, что делают.
В ответ на эти бездарные поделки я написал рассказ об убийце. Я написал от лица человека, близко знавшего его, но на самом деле все факты мне рассказал малыш Керли, который провел ночь в Центральном парке с Мясником, или как там его звали. Когда Керли поведал мне эту историю, мне приснился один из тех кошмаров, где за тобой кто-то долго и упорно гонится и от смерти спасает только пробуждение.
В этом Мяснике меня заинтересовало то, с каким тщанием он готовил свои вооруженные ограбления. Чтобы точно все спланировать, требовалось иметь способности математика и йога.
И вот он стоит в Центральном парке, когда его ищет вся страна, и как последний дурак рассказывает свою историю мальцу вроде Керли. Даже раскрывает некоторые сенсационные подробности дела, которое тогда замышлял.
Он равно мог поджидать жертву на углу Таймс-Сквер и рыскать среди ночи в Центральном парке.
Пятьдесят тысяч долларов было обещано тому, кто доставит его живым или мертвым.
По словам Керли, он неделями скрывался в его комнате, лежал часами на кровати, прикрыв чем-нибудь глаза от света, и мысленно повторял каждый свой предстоящий шаг, каждое движение. Все было продумано до малейшей детали. Но, подобно писателю или композитору, он не приступал к осуществлению своих замыслов, пока не доводил их до совершенства. Он учитывал не только возможность ошибок или случайностей, но так же, как инженер, вычислял коэффициент безопасности предстоящего дела с учетом нервного напряжения и неожиданного нервного срыва. Он мог быть полностью уверен в успехе дела, в способностях и преданности сообщников, но в ответственный момент приходилось полагаться только на себя, на свой ум, свою предусмотрительность. Он был один против тысяч. Не только все фараоны страны были начеку, но и все население. Одно неосторожное движение – и его песенка спета. Конечно, он не собирался даваться живым. Он бы застрелился. Но оставались его напарники – он не мог бросить их на произвол судьбы.
Возможно, выйдя тем вечером подышать свежим воздухом, он был так переполнен предстоящим, настолько уверен, что ничто не помешает осуществлению его замысла, что просто не мог больше сдерживаться. Он схватил первого встречного и открылся ему, полагаясь на то, что жертву парализует ужас. Возможно, его забавляла мысль пообщаться со стражами закона, может, попросить у них огоньку или узнать дорогу, глядя им прямо в глаза, касаться их, благодарить, оставаясь неузнанным. Может быть, ему нужно было подобное испытание нервов, чтобы успокоиться, обрести хладнокровие, потому что одно дело – обдумывать план наедине с самим собой, в надежном убежище, и совсем другое – выйти на улицу, где каждый подозрительно смотрит на тебя, каждый покушается на твою жизнь. Спортсмены должны предварительно размяться. Преступники, возможно, должны делать что-то подобное… Мясник был из тех, кому доставляет удовольствие искать опасности. Это был выдающийся преступник, парень, который мог стать знаменитым генералом или ловким юристом какой-нибудь корпорации. Подобно многим людям такого сорта, он уверял Керли, не раз и не два, что всегда отпускает свою жертву. Он не трус, не подлец и, конечно, не предатель. Он не против людей, а только против Общества. Он действовал в одиночку и потому имел основание гордиться своими подвигами. Тщеславный, как кинозвезда, он ревниво относился к мнению о нем публики. Почитатели? У него их было предостаточно – миллионы. Время от времени он совершал что-нибудь из ряда вон выходящее, просто чтобы продемонстрировать, какого он высокого полета человек. Играл на публику? Конечно. Почему нет? Не все же серьезные дела, надо иногда и позабавиться. Убийства не доставляли ему особого удовольствия, впрочем, совесть его тоже не мучила. Больше всего он любил надувать удачливых типов.
Они всегда считают себя такими чертовски умными!
Керли все еще дрожал от возбуждения, страха, душевных терзаний, восхищения и бог знает чего еще. Не мог говорить ни о чем другом. Твердил нам: следите за газетами. Это будет сенсационное дело. Даже нам он отказался открыть, в чем оно состоит. Он был все еще напуган, все еще загипнотизирован.
– Эти его глаза! – восклицал он снова и снова. – У меня было такое чувство, что я превращаюсь в камень.
– Но было же темно, когда вы разговаривали.
– Это ничего не значит. Они сверкали как угли. Прямо искры сыпались.
– Может, это тебе померещилось, потому что ты знал, что он убийца?
– Только не мне! Никогда не забуду этих глаз. Они будут преследовать меня до самой смерти. – Он содрогнулся.
– Керли, ты действительно считаешь, – спросила Мона, – что у преступника глаза не такие, как у других людей?
– Почему нет? – ответил Керли. – Все у них не такое. И глаза тоже. Не кажется ли тебе, что, когда человек меняется, меняются и его глаза? Это уже глаза иного человека. Я хочу сказать, что они уже не те. В них как будто есть нечто такое – или, наоборот, что-то отсутствует, не знаю что. Какие-то они нечеловеческие, вот все, что я могу сказать. Он еще не успел сказать мне, кто он, а я уже это почувствовал. Это все равно как ощутить сигнал из другого мира. Его голос не был похож на человеческий, я такого еще не слышал. А когда он пожал мне руку, было такое ощущение, будто я прикоснулся к голому проводу. Я хочу сказать, меня словно током ударило. Я бы тут же убежал, но этот его взгляд – я не мог сдвинуться с места, не мог пальцем пошевелить… Теперь я начинаю понимать, что имеют в виду, когда говорят о Сатане. От него шел какой-то странный запах, упоминал я об этом? Не серы, нет, скорее какой-то концентрированной кислоты. Может, он работал с химикатами. Но не думаю. Что-то такое было у него в крови…
– Думаешь, ты узнаешь его, если снова встретишь?
К моему удивлению, Керли замолчал. Вид у него был озадаченный.
– По правде сказать, – ответил он очень неуверенно, – вряд ли. Он был настолько яркой личностью, что не удержался у меня в памяти. Наверно, это кажется неправдоподобным? Тогда объясню по-другому. – (Я был воистину изумлен. Керли определенно делал успехи.) – Предположим, сегодня вечером, в этой самой комнате перед вами предстал святой Франциск. Предположим, он разговаривал с вами. Вспомните ли вы завтра или через день, как он выглядел? Не потрясет ли вас его появление настолько, что его черты совершенно изгладятся из памяти? Может, вы никогда не думали о таком вот возможном случае. Я думал, потому что знал человека, которому были видения. Я в то время был совсем маленьким, но помню взгляд этой женщины, когда она рассказывала о том, что пережила. Я знаю, что она видела не только телесный облик того, кто ей явился, а нечто большее. Когда кто-то является тебе с вышних, в нем есть что-то от неба – и это ослепляет. Во всяком случае, так мне кажется… Когда я увидел Мясника, со мной случилось то же самое, только я знал, что он явился не с вышних. Откуда бы он ни явился, он нес на себе печать того места. Это можно было ощутить, и это внушало ужас. – Он снова помолчал, лицо его посветлело. – Послушай, ведь это ты убедил меня почитать Достоевского. Тогда ты знаешь, что значит быть втянутым в мир абсолютного зла. Некоторые из его персонажей говорят и действуют так, словно обитают в мире, абсолютно для нас неведомом. Я бы не стал называть его адом. Это что-то похуже. Нечто более сложное, более неопределенное, нежели ад. Нечто нематериальное, что невозможно описать. Это можно почувствовать по их реакции. У них непредсказуемый взгляд на все. Пока он не написал о них, мы и не знали о людях, которые мыслят так, как его герои. И это напоминает мне – в связи с этим преступником, – что между идиотами и святыми не такое уж большое различие, я прав? Как вы их отличите? Хотел ли Достоевский сказать, что все мы из одного теста? Что в нас от дьявола, а что от Бога? Может, ты знаешь… Я – нет.
– Керли, ты меня правда удивляешь, – сказал я. – Я это серьезно.
– Ты думаешь, я сильно переменился?
– Переменился? Нет, не так уж сильно, но определенно повзрослел.
– Какого черта, человек же не остается всю жизнь ребенком!
– Это так… Скажи честно, Керли, если бы можно было не опасаться, что тебя поймают, соблазнила бы тебя жизнь преступника?
– Возможно, – ответил он, чуть опустив голову.
– Ты любишь риск, опасность, так?
Он кивнул.
– И ты не стал бы особенно колебаться, окажись кто у тебя на пути?
– Думаю, не стал бы. – Он криво усмехнулся.
– И ты по-прежнему ненавидишь своего отчима? – Не дождавшись ответа, я добавил: – Настолько, что убил бы его, если бы можно было остаться безнаказанным?
– Да! – воскликнул Керли. – Убил бы как собаку!
– За что? Ты хоть знаешь это? Подумай, прежде чем ответить.
– Нечего мне думать, – буркнул он. – Я знаю. Убил бы за то, что он обманул мать. Все очень просто.
– Не кажется ли тебе, что это звучит несколько нелепо?
– А мне наплевать. Это так. Я не могу этого забыть, мало того, никогда не прощу его. Это преступление, если хочешь знать.
– Может быть, ты и прав, Керли, но закон не считает его преступником.
– Кому какое дело до закона? И потом, есть другие законы – поважней твоих. Мы живем не по писаным законам.
– Тут ты прав!
– Я бы оказал обществу услугу, – с жаром продолжал он. – С его смертью только воздух стал бы чище. От него никому никакой пользы. И никогда не было. Меня бы следовало наградить за то, что я покончил бы с ним и такими, как он. Будь наше общество умней, так бы и произошло. В романах люди, совершающие подобные преступления, изображаются героями. Книги – такая же часть жизни, как все остальное. Писатели могут так думать, а я или кто другой – нет? Мои обиды реальны, не выдуманы…
– Ты в этом уверен, Керли? – подала голос Мона.
– Совершенно уверен, – ответил он.
– Но если бы ты был главным действующим лицом романа, – возразила она, – важно было бы то, что случилось с тобой, а не с твоим отчимом. Человек, убивающий своего отца – в романе, – не становится героем только на этом основании. Важны его поступки, то, как он действует в конфликтной ситуации и как разрешает ее. Всякий может совершить преступление, но некоторые из преступлений имеют такое колоссальное значение, что совершившие их становятся чем-то большим, нежели просто преступниками. Ты понимаешь, о чем я?
– Прекрасно понимаю, – сказал Керли, – но давай без этих тонкостей да сложностей. Это все литература! Я тебе говорю прямо, что до сих пор ненавижу его такой лютой ненавистью, что убил бы без сожаления, если б это сошло с рук.
– Я уже вижу большую разницу… – начала Мона.
– О чем ты? – перебил он ее.
– Между тобой и героем романа.
– Не хочу я быть героем романа!
– Знаю, – мягко сказала Мона, – но ты ведь хочешь остаться человеком, не так ли? Если будешь думать так, как ты сказал, кто знает, может, и осуществишь свое желание. Что тогда?
– Тогда? Тогда я буду счастлив. Нет, не совсем так, тогда я успокоюсь.
– Потому что он не будет стоять у тебя поперек дороги, ты это хочешь сказать?
– Нет! Потому что прикончу его. А это другое дело.
Я почувствовал, что пора вмешаться:
– Послушай, Керли, Мону занесло в сторону. Думаю, я знаю, что она имела в виду. Преступник, совершающий преступление, и герой романа, делающий то же, отличаются один от другого тем, что последний не думает, понесет он наказание или нет. Его не заботит, что случится с ним после. Он должен выполнить свою задачу, и все…
– Что только доказывает, – сказал Керли, – что из меня никогда не получится герой романа.
– Тебя никто не просит становиться таким героем. Но если ты увидишь разницу между этими двумя преступниками, то поймешь, что не намного лучше человека, которого так сильно ненавидишь и презираешь.
– Мне наплевать, даже если это и так!
– Тогда забудем об этом. Вероятней всего, он мирно умрет в своей постели, а ты окажешься владельцем ранчо в солнечной Калифорнии.
– А может, на каторге, откуда ты знаешь?
– Может, так, а может, и нет.
Перед тем как уйти, Керли поверг нас в шок, сказав, что Тони Маурер кончил жизнь самоубийством. Повесился в ванной комнате во время вечеринки, на которую созвал друзей. Когда его обнаружили, он висел с застывшей на лице сардонической улыбкой и торчащей во рту трубкой. Похоже, никто не знал, почему он это сделал. Он не бедствовал, любил женщину, с которой жил, красивую яванку. Кто-то предположил, что он сделал это единственно от скуки. Если так, то это было в его духе.
Это известие необыкновенно подействовало на меня. Я все думал: какая жалость, что не удалось узнать Тони Маурера ближе. Он был из тех людей, кого я с гордостью назвал бы своим другом. Но застенчивость помешала мне предложить ему свою дружбу, а он был слишком избалован людским вниманием, чтобы понять меня. Я всегда чувствовал себя неловко в его присутствии. Если быть точней, робел, как школьник. Все, что мне хотелось бы сделать, уже было сделано им… Возможно, существовало кое-что еще, что бессознательно влекло меня к нему, – это его немецкая кровь. Единственный раз в жизни мне повезло узнать немца, который не напоминал всех тех немцев, что я знал. По правде говоря, он был не настоящим немцем, а космополитом. Превосходный образчик «человека позднего города», которого так хорошо описал Шпенглер. Его корни были не в немецкой земле, немецких предках, немецкой традиции, но в тех периодах заката цивилизации, что отличали человека позднего города в Египте, Греции, Риме, Китае, Индии. У него не было корней, и в то же время он ощущал себя дома «везде», то есть там, где была культура и цивилизация. Он с одинаковым успехом мог бы сражаться как на нашей стороне, так и на стороне итальянцев, французов, венгров или румын. Неудивительно, что он (по чистой случайности) провел шесть месяцев во французском лагере для военнопленных – и ему там понравилось. Французов он любил даже больше, чем немцев или американцев. А больше всего любил хорошую беседу.
За все это, а также за обходительность, находчивость, утонченность, неподдельную терпимость и снисходительность я и полюбил его. Ни один из моих друзей не обладал такими качествами. Они были в меру хороши, в меру плохи, ничего выдающегося. Слишком они похожи на меня au fond[112], мои друзья. Всю жизнь я хотел – и, в сущности, жажду этого до сих пор – иметь друзей, совершенно непохожих на меня. Всякий раз, как мне удавалось найти такого человека, я в то же время обнаруживал, что не испытываю к нему внутреннего влечения, необходимого для подлинной, живительной дружбы. Ни один из этих людей так и не стал чем-то большим, нежели просто «потенциальным» другом.
Той ночью мне снился сон. Бесконечный и полный кошмаров. Во сне Мясник и Тони Маурер как бы обменялись личностями. Каким-то непостижимым образом я был заодно с ними или с ним, ибо иногда этот мой таинственный, загадочный сообщник разделялся на две совершенно разные личности, однако нельзя было сказать, вот это Тони Маурер, а это Мясник: даже разделенные, они были одновременно и тем и другим. Эта игра двойников сама по себе причиняла мне ужасные страдания, не говоря уже о том, что я не был уверен, на моей стороне они или нет.
Во сне мы отправились на дело в каком-то неведомом далеком городе, где я никогда еще не бывал, вроде Сиу-Фолса, Тонопы или Ладлоу. Я стоял на стреме, то есть все время был на виду и таким образом постоянно подвергался риску. Я не мог избавиться от мысли, что одно неверное движение, одна малейшая ошибка – и мне придет конец. Указания, даваемые мне, всегда были путаными, зашифроваными, и уходили часы, чтобы разобраться в них. Дело, конечно, мы так и не провернули. Вместо этого мы постоянно убегали, травимые, словно в какой-то дикой забаве. Когда приходилось прятаться – в пещерах, подвалах, на болотах, в шахтных выработках, – мы играли в карты или кости. Причем всегда по-крупному. Расплачивались друг с другом долговыми расписками или же конфедератскими деньгами, которые добыли, ограбив банк. Мясник-Маурер расхаживал с моноклем в глазу и не вынимал его, несмотря на все мои мольбы. Говорил на смеси воровского арго и оксфордского жаргона. Даже объясняя сложные подробности опасного дела, он имел обыкновение уклоняться в сторону, рассказывать байки, долгие и бессмысленные. Следить за его объяснениями было сущим мучением. В конце концов свора линчевателей загнала, скорее, заперла нашу троицу в узком ущелье (похоже, на Дальнем Западе). Всех нас убили, пристрелили, как диких кабанов. Я понял, что еще жив, только проснувшись. Но даже тогда долго не мог в это поверить. Но во мне уже расправлял крылья замысел.
Такой вот сон. Я попытался, отбросив все лишнее, превратить этот сырой материал в динамичный рассказ о беглецах и преследователях с тщательно выстроенным сюжетом и определенным местом действия. Описание охоты на человека получилось, как мне казалось, неплохо, но зыбкая, фантастическая, прерывистая ткань сновидения не поддавалась ясному, логичному пересказу. Это была попытка усидеть на двух стульях. Тем не менее попытка смелая и побудившая меня взяться еще за несколько рассказов, зафиксировавших бы мои фантазии. Может, мне и удалось бы написать что-то в этом духе, не получи мы телеграмму от О’Мары, в которой он настойчиво звал нас приехать к нему в Северную Каролину, место очередного бума, на сей раз связанного с торговлей недвижимостью. Он, как водится, намекал, что затевается крупное дело, и я нужен был «им» для того, чтобы организовать рекламу.
Я немедленно послал телеграмму, прося оплатить дорогу и сообщить размер моего предстоящего жалованья. Скоро я получил ответ: «Не беспокойся полный порядок на дорогу займи».
Мона тут же заподозрила самое худшее. Это в его духе, таково было ее мнение, – всегдашняя неопределенность, уклончивость, неискренность. Дал телеграмму просто потому, что стало одиноко.
Сам не знаю почему, я стал защищать его и с таким энтузиазмом уговаривал Мону – хотя в душе уже соглашался с нею, – что отрезал себе все пути к отступлению.
– Хорошо, – сказала она, – а где ты возьмешь денег на дорогу?
Я растерянно смолк. Но только на минуту. Внезапно мне пришла блестящая идея.
– Деньги? Ну конечно, у той маленькой лесбиянки, которую ты встретила на днях в универсальном магазине, помнишь? В парфюмерном отделе. Вот у кого.
– Что за чушь! – была ее первая реакция.
– Ну-ну, – заметил я, – да она только счастлива будет, если ты к ней обратишься.
Мона продолжала твердить, что об этом не может быть и речи. Но я видел, что она взвешивает мое предложение. Я был уверен, к утру она заговорит по-другому.
– Послушай, – сказал я, словно решил отказаться от всей этой затеи, – не пойти ли нам вечером на какое-нибудь шоу, как думаешь?
Мона думала, что это отличная мысль. Мы зашли в ресторанчик перекусить, посмотрели забавное шоу – в «Паласе» – и вернулись домой, покатываясь со смеху. Мы и правда так смеялись, что я несколько часов не мог уснуть.
Наутро, как я и предвидел, она отправилась к своей маленькой лесбийской подружке. Легко получила взаймы полсотни. Единственное, что было трудно, – это потом отвязаться от нее.
Я предложил не ехать поездом, а добираться автостопом. Это позволит сэкономить на дороге.
– Никогда не знаешь, чего ждать от О’Мары. Может оказаться, что это все сплошные фантазии.
– Вчера ты уверял меня в другом, – поддела Мона.
– Помню, но то было вчера. Предпочитаю действовать наверняка.