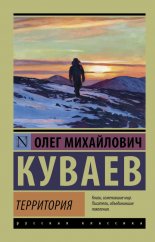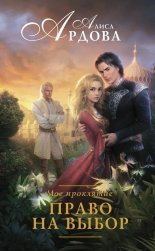Плексус Миллер Генри

В ответ он лишь смеялся. И хладнокровно стал убеждать нас, как замечательно было бы доиграть этот фарс до конца, то есть наутро проснуться всем впятером, продолжая играть каждый свою роль. По его мысли, для Моны это был бы прекрасный шанс сыграть реальную роль. Жена Кронски в восторг от предложения не пришла – для нее все это слишком сложно.
После долгих препирательств мы решили разбудить Кромвеля, вытащить его, если потребуется, за ноги на улицу и отправить в отель. Но прежде, чем поставить его в полустоячее положение, пришлось провозиться с ним почти четверть часа. Колени Кромвеля просто отказывались выпрямляться, шляпа налезала на глаза, рубашка упрямо высовывалась из-под пальто, застегнуть которое мы не сумели. Он ужасно походил на карикатуру Таксиста-забияки. Нас разбирал такой истерический смех, что, спускаясь по лестнице, мы едва не попадали друг на друга. Бедный Кромвель все еще протестовал: уходить еще рано, он должен дождаться Моны.
– Она уехала в Вашингтон и там ждет встречи с тобой, – коварно сказал Кронски. – Пока ты спал, от нее пришла телеграмма.
Оглушенный алкоголем, Кромвель смысла сказанного не уловил. Время от времени он оседал у нас на руках, угрожая растянуться на тротуаре. Наш простой замысел сводился к тому, чтобы дать ему немного очухаться на воздухе и сунуть в какое-нибудь такси. В поисках такси пришлось пройти несколько кварталов. Мы спускались к реке, правда кружным путем, но все равно прогулка ему только полезна. Дойдя до пристани, уселись на железнодорожные рельсы передохнуть. Кромвель лежал между рельсами, смеясь и икая, точно младенец в люльке. Время от времени он просил у нас чего-нибудь поесть. Ему хотелось яичницы с ветчиной. До ближайшего ресторана, открытого в этот час, было не меньше мили. Я предложил сбегать домой и принести сэндвичи. Но Кромвель сказал, что так долго он ждать не может: яичница с ветчиной необходима ему немедленно. Общими усилиями мы с трудом снова поставили его кое-как на ноги и наполовину поволокли, наполовину погнали его по направлению к зданию городской управы. Мимо проходил ночной сторож, решивший осведомиться, что мы в этот час ночи здесь делаем. Кромвель мешком свалился к нашим ногам.
– Это что такое? – потребовал отчета ночной сторож, поддевая Кромвеля ногой, словно тот уже был трупом.
– Все в порядке, он просто пьян, – сказал я.
Ночной сторож нагнулся и принюхался.
– Уберите его отсюда, – распорядился он, – или я вздрючу всю вашу компанию!
– Да, сэр, непременно, – повиновались мы, ухватив Кромвеля под мышки и волоча его ноги по земле.
Спустя несколько секунд сторож догнал нас, держа в руке шляпу Кромвеля. Мы напялили шляпу ему на голову, но она снова свалилась.
– Ну же, – сказал я, открывая рот, – сунь мне ее в зубы!
Мы вспотели и задыхались: волочь Кромвеля оказалось работой нелегкой. Ночной сторож с отвращением взирал на нас секунды две или три, после чего велел:
– Отпустите его! Сюда! Положите его ко мне на спину!.. Эх вы, слабаки.
Вчетвером мы добрались до конца улицы, где разворачивалась, уходя наверх, дорожная эстакада.
– А теперь пусть один из вас, парни, поймает такси, – сказал ночной сторож. – И не таскайте его с собой больше: вы выкрутите ему руки.
Кронски тут же бросился ловить машину. Мы присели на бордюрный камень и стали ждать.
Через несколько минут подъехало такси, и мы затолкали Кромвеля внутрь. Полы рубашки по-прежнему вываливались из-под пальто.
– Куда его? – спросил водитель.
– В отель «Астор», – сказал я.
– В «Уолдорф-Асторию»! – крикнул Кронски.
– Может, вы на чем-нибудь остановитесь? – переспросил таксист.
– В «Коммодор»! – разродился Кромвель.
– Ты уверен? – спросил водитель. – Вы, ребята, меня не разыгрываете?
– В самом деле в «Коммодор», да? – сказал я, всовывая голову внутрь такси.
– Да, – хриплым голосом отозвался Кромвель, – мне подходит любое место.
– Деньги у него есть? – спросил таксист.
– У него до фига денег, – ответил Кронски. – Он банкир.
– Я думаю, одному из вас, парни, лучше поехать с ним, – сказал водитель.
– Ладно, – сказал Кронски и, не раздумывая, сел в машину с женой.
– Эй! – крикнул Кромвель. – А как же доктор Маркс?
– Он подъедет в следующем такси, – сказал Кронски. – Ему нужно позвонить.
– Да, – вдруг спохватившись, крикнул он мне, – а как же твоя жена?
– Все в порядке, – ответил я и помахал им рукой.
Вернувшись обратно в дом, я обнаружил портфель Кромвеля и мелочь, выпавшую у него из карманов. Открыл портфель, увидел в нем множество документов и несколько телеграмм. Последняя была из министерства финансов: в ней Кромвеля просили непременно позвонить в полночь какому-то лицу – позвонить срочно. Я съел сэндвич, просматривая юридические документы, выпил еще бокал вина и решил позвонить в Вашингтон от имени Кромвеля. Чтобы связаться с человеком на другом конце линии, пришлось затратить чертовски много усилий; когда это удалось, мне ответил сонный, хриплый и раздраженный голос. Я сказал, что у Кромвеля сейчас некоторые трудности, но что он позвонит завтра утром.
– А вы? Кто вы такой?.. – настаивая, несколько раз повторил голос.
– Он позвонит вам утром, – проигнорировав вопросы, ответил я. И повесил трубку.
Выйдя наружу, я побежал изо всех сил. Я знал: он позвонит снова. И боялся, что он напустит на меня полицию. Чтобы добраться до телеграфной компании, я сделал довольно большой круг, а оттуда послал телеграмму Кромвелю, в отель «Коммодор». Моля Бога, чтобы Кронски благополучно доставил его туда. Уже выходя с телеграфа, я вдруг спохватился, что Кромвель может не получить сообщение аж до следующего полудня. Дежурный, чего доброго, передаст ему телеграмму только после того, как Кромвель проспится. Я зашел еще в одно кафе и позвонил в «Коммодор», настаивая, чтобы ночной коридорный разбудил Кромвеля сразу же, как только в отель поступит телеграмма.
– Облейте его холодной водой из графина, если понадобится, – сказал я, – но убедитесь, что он телеграмму прочитал… это вопрос жизни и смрти!
Когда я вернулся, Мона прибирала в квартире.
– Кажется, вы порядком повеселились, – сказала она.
– Порядком, – подтвердил я.
Я увидел валявшийся на полу портфель. Он понадобится ему, когда он будет звонить в Вашингтон.
– Слушай, – сказал я, – надо поскорее найти такси и передать эту штуку Кромвелю. Я просмотрел бумаги внутри. Это динамит. Их небезопасно держать у себя.
– Езжай сам! – сказала Мона. – Я слишком устала.
Так я снова оказался на улице и спустя некоторое время подъезжал к отелю, как и предсказывал Кронски, в следующем такси. Войдя в отель, я обнаружил, что Кромвель уже удалился к себе в номер. Я добился, чтобы коридорный отвел меня к нему. Кромвель лежал на неразостланной постели в одежде, шляпа лежала рядом. Я опустил портфель ему на грудь и на цыпочках вышел вон. Затем велел коридорному отвести меня в контору к администратору, объяснил тому, в чем дело, и заставил коридорного засвидетельствовать, что я в его присутствии положил портфель на грудь Кромвелю.
– Назовите, пожалуйста, свое имя! – попросил администратор, несколько настороженный экстраординарностью моих действий.
– Пожалуйста, – сказал я, – доктор Карл Маркс из Политехнического института. Если возникнет какое-нибудь затруднение, можете позвонить мне утром. Мистер Кромвель, агент ФБР, – мой друг. Он выпил чуть лишнего. Надеюсь, вы за ним присмотрите?
– Разумеется, – сказал администратор заметно встревоженным голосом. – Вам можно позвонить в любое время?
– Да, я пробуду там весь завтрашний день, – сказал я. – Но если я выйду, спросите мою секретаршу – мисс Рабинович, – она знает, как со мной связаться. А сейчас мне нужно немного поспать… завтра в девять мне надо быть в операционной. Большое спасибо вам! Доброй ночи!
Коридорный проводил меня до вращающегося турникета. Моя болтовня, по-видимому, произвела на него глубокое впечатление.
– Вам такси, сэр? – спросил он.
– Да, – сказал я и вручил ему найденную на полу мелочь.
– Большое, большое вам спасибо, доктор, – сказал он, кланяясь, шаркая ножкой и одновременно подводя меня к такси.
Я велел таксисту отвезти меня на Таймс-сквер. Там выбрался наружу и поспешил в подземку. Подойдя к кабине для размена, я вспомнил: черт, у меня же не осталось ни цента! Последний четвертак я шоферу отдал. Я поднялся вверх по ступенькам и встал у кромки тротуара, задаваясь вопросом, где и как достать нужную позарез монету? Мимо прошел ночной посыльный. Я всмотрелся в него: не знакомый ли? Затем вспомнил о Гранд-Сентрал. Наверняка там я найду кого-нибудь из знакомых. Я двинулся к Гранд-Сентрал, бодро прошествовал вниз по аппарели, и, конечно же, там за конторкой сидел необъятный, как сама жизнь, мой старый друг Дриггс.
– Дриггс, не одолжишь мне пять центов?
– Пять центов? – удивился Дриггс – Вот тебе доллар!
Мы поболтали с минуту, и я снова нырнул в подземку.
В голове у меня все время вертелась фраза, которую Кромвель несколько раз повторил в начале вечера: «Мой друг Уильям Рэндольф Херст». Я нисколько не сомневался в том, что они друзья, пусть Кромвель и был слишком молод для закадычного дружка газетного короля. Чем больше я думал о Кромвеле, тем больше он мне нравился. Нужно обязательно еще повидаться, тип любопытный. Дай бог, чтобы он не забыл перезвонить тому человеку. А интересно, что он обо мне подумает, когда поймет, что я рылся в его портфеле?
Мы встретились только через несколько дней. На этот раз у папаши Московица. Мы – то есть Кромвель, Мона и я. Встретиться предложил он. На следующий день он отбывал в Вашингтон.
Чувство неудобства, которое могло бы возникнуть при встрече с ним, под воздействием его теплой улыбки и сердечного рукопожатия вмиг развеялось. Кромвель сразу же сказал, как благодарен он мне за все, что я для него сделал, не пускаясь в детали, но взглянув так, что я понял: он знает все.
– Вечно я попадаю впросак, выпив лишнего, – сказал он, чуть покраснев.
Вид у него был еще более мальчишеский, чем в тот вечер, когда я с ним познакомился. Мне показалось, что ему не больше тридцати. Теперь, когда я знал истинное место его работы, меня еще больше изумляла его свободная и беззаботная манера держаться. Он вел себя как человек, у которого нет никаких обязательств. Просто молодой преуспевающий банкир из хорошей семьи.
По-видимому, они с Моной говорили о литературе. Как и прежде, он притворялся, что за современной литературой совсем не следит. Всего-навсего заурядный бизнесмен, немного соображающий в финансах. Политика? Это выше его понимания. Ему хватает работы в банке. И только иногда, раз-другой, небольшой кутеж, хотя, вообще-то, он домосед. И кроме Вашингтона и Нью-Йорка, пока ничего не видел. Европа? Конечно, ему очень хотелось бы съездить в Европу. Но с этим, пока он не может позволить себе настоящий отпуск, придется обождать.
И ему, судя по всему, очень неловко, что единственный язык, которым он владеет, – английский. Но язык, наверное, все же не главное. Были бы хорошие связи.
Я прямо-таки наслаждался, слушая, как он излагает нам свою легенду. Но ни словом, ни жестом его не выдал. Я не осмелился бы поведать то, что о нем знал, даже Моне. И он, по-видимому, понимал, что мне можно верить.
Мы непринужденно болтали, прислушиваясь к гулу зала и умеренно выпивая. Как видно, он уже дал понять Моне, что с колонкой ничего не вышло. Все хвалили ее работу, но главный босс – не знаю уж, кого он назвал, – заключил, что такое – не для газет Херста.
– А как насчет самого Херста? – вызвался я. – Что он сам думает?
Кромвель объяснил, что решение некоторых вопросов Херст доверяет своим подчиненным. Процесс принятия решений в его газетном синдикате вообще очень сложен. Но вполне может случиться, что вскоре подвернется что-нибудь еще, даже более обещающее. Он сообщит, как только вернется из Вашингтона.
Я, конечно, мог расценить его слова лишь как дань вежливости, ибо теперь знал точно, что Кромвеля не будет в Вашингтоне по крайней мере месяца два, а что самое большее через семь или восемь дней он окажется в Бухаресте, где будет без труда изъясняться на языке, на котором говорят в этой стране.
– Херста я, может быть, увижу, когда буду в Калифорнии в следующем месяце, – сказал он не моргнув глазом. – Мне предстоит туда деловая поездка. Кстати, – добавил он с таким видом, словно эта мысль только что пришла ему в голову, – ваш друг доктор Кронски довольно странная личность… Я имею в виду – для хирурга.
– В каком смысле странная? – спросил я.
– Ну, не знаю… Он больше похож на ростовщика или кого-нибудь в этом роде. Или он просто притворялся забавы ради?
– А, вы имеете в виду все эти его истории? Ну, он всегда их плетет, когда выпьет. А так в целом он человек замечательный. И превосходный хирург.
– Надо заглянуть к нему, когда я вернусь, – сказал Кромвель, – у моего мальчика косолапость. Может, доктор Кронски подскажет нам курс лечения?
– Несомненно, – сказал я, упустив из виду, что и я был аттестован как хирург.
Словно угадав, что я заметил свою промашку, и из чистой игривости Кромвель добавил:
– Может, вы сможете просветить меня на этот счет, доктор Маркс? Или это не ваша специализация?
– И в самом деле не моя, – согласился я, – хотя кое-что я подсказать все же могу. У нас было несколько случаев успешного лечения. Все зависит от целого ряда факторов. Понимаете ли, это не так просто объяснить…
Он широко улыбнулся:
– Понимаю. Но хорошо уже то, что надежда есть.
– Надежда, вы знаете, умирает последней, – с теплотой в голосе отвечал я. – Например, в Бухаресте, насколько я знаю, сейчас практикует хирург, вылечивающий эту болезнь в девяноста из ста случаев. Он разработал какую-то особенную методику, нам пока неизвестную. Кажется, что-то связанное с электричеством.
– В Бухаресте, вы говорите? Далеко.
– Да, далеко, – согласился я с ним.
– Может, возьмем еще бутылочку рейнского? – предложил Кромвель.
– Если вы настаиваете, – ответил я. – Я выпью капельку, а потом мне надо идти.
– Не уходите! – попросил он. – Мне нравится беседовать с вами. Знаете, на меня вы производите впечатление более литератора, чем хирурга.
– В свое время я немного писал. Но уже очень давно. У нас, медиков, не остается времени для литературных занятий.
– Точно как в банковском деле, правда? – сказал Кромвель.
– Правда. – И мы добродушно улыбнулись друг другу.
– А ведь было немало врачей, писавших книги, не правда ли? – сказал Кромвель. – Я имею в виду не просто книги, а романы, пьесы и все такое.
– Конечно, – сказал я, – их много. Шницлер, Манн, Сомерсет Моэм…
– И не забудьте Эли Фора, – заметил Кромвель. – Мона мне много о нем рассказывала. Он ведь написал историю искусства или что-то похожее?.. – Он взглянул на Мону за подтверждением. – Я, естественно, его книг не видел. И вообще не могу отличить хорошую картину от плохой.
– А я в этом не уверен, – возразил я. – Думаю, подделку вы распознаете при первом же взгляде.
– Откуда вы это взяли?
– Интуиция. Вы быстро улавливаете все фальшивое.
– Вы наделяете меня слишком большой проницательностью, доктор Маркс. Конечно, в нашем деле как-то привыкаешь, что тебе в любой момент могут всучить фальшивые деньги. Но это, в общем-то, не по моей части. У нас этим занимаются специалисты.
– Естественно, – сказал я. – Но если говорить серьезно, Мона и в самом деле права… почитать Эли Фора стоит. Представляете себе человека, написавшего в свободное от работы время монументальную «Историю искусства»! Он писал ее, делая пометки на своих манжетах, когда посещал пациентов. И еще время от времени летал в отдаленные края вроде Юкатана, Сиама или острова Пасхи. Соседи понятия не имели о его путешествиях. Внешне он вел жизнь вполне заурядную. Был отличным врачом. Но подлинной его страстью было искусство. Я и в самом деле искренне им восхищаюсь.
– Вы говорите о нем, как Мона, – заметил Кромвель, – вы, утверждающий, что для увлечений у вас нет времени?
И тут свое слово вставила Мона. Конечно, Гарри – человек очень разносторонний, он находит время на все. Например, можно ли заподозрить, что доктор Маркс, помимо всего прочего, еще и незаурядный музыкант, прекрасный шахматист, коллекционер марок…
Ничего подобного! Кромвель подозревает, что я способен на многое, о чем из скромности просто умалчиваю. Одно для него ясно: я – человек с ярким воображением. В тот вечер, добавил наш собеседник, он не случайно обратил внимание на мои руки. На его скромный взгляд, они демонстрируют нечто большее, нежели просто умение владеть скальпелем.
По-своему истолковывая его замечание, Мона тут же спросила, не умеет ли он гадать по руке?
– Нет, вовсе нет, – ответил Кромвель, слегка обескураженный. – Но разумеется, могу отличить по руке преступника от мясника и скрипача от аптекаря. Да, собственно говоря, это доступно почти каждому. И для этого не требуется умения читать по линиям руки.
Услышав такое, я заторопился отчаливать.
– Оставайтесь! – просил Кромвель.
– Нет, я в самом деле должен идти, – сказал я, пожимая ему руку.
– Надеюсь, мы скоро встретимся снова, – сказал Кромвель. – В следующий раз возьмите с собой жену. Очаровательная крошка. Я просто в нее влюбился.
– Да, у нее этого не отнимешь, – сказал я, покраснев до ушей. – Ну, до свиданья! И bon voyage![67]
Кромвель поднял бокал. Поверх бокала на меня смотрели насмешливые глаза. У двери я наткнулся на папашу Московица.
– Кто этот человек за вашим столиком? – тихо спросил он.
– Правду сказать, не знаю, – ответил я. – Лучше спроси у Моны!
– Так он, значит, не твой друг?
– Трудно сказать. До свиданья! – И я вырвался на свободу.
В эту ночь я видел тревожный сон. Начался он, как нередко начинаются сны, с преследования. Я преследовал худенького человечка, уходившего от меня по темной улице, спускавшейся к реке. В свою очередь, другой человек преследовал меня. Важно было настичь человечка до того, как тот, другой, настиг бы меня. Худенький оказался не кем иным, как Спиваком. Всю ночь я следовал за ним из одного места в другое, пока он не обратился в бегство. О человеке, шедшем за мной, я ничего не знал. Но кто бы он ни был, легкие у него были здоровые, а ноги быстрые. И у меня создалось неприятное впечатление, что при желании он может догнать меня в любую минуту. Что до Спивака, то, хотя я с удовольствием дал бы ему утонуть, взять его за шкирку было гораздо важнее: при нем были документы, имевшие для меня жизненную важность.
У мола, выдававшегося далеко в реку, я догнал его, крепко схватил за шиворот и развернул. К моему крайнему удивлению, то был не Спивак, а… Сумасшедший Шелдон. Казалось, он не узнает меня, наверное из-за темноты. Бросившись на колени, он, движимый страхом, что ему вот-вот перережут горло, начал умолять меня о пощаде.
– Я не поляк! – сказал я и рывком заставил его подняться на ноги.
В этот момент нас догнал мой преследователь. Это был Алан Кромвель. Вложив мне в руку пистолет, он велел пристрелить Шелдона.
– Смотри, я покажу тебе, как это делается, – сказал он и, больно заломив несчастному руку, принудил его опуститься на колени. Затем приставил дуло пистолета к его затылку.
Шелдон скулил, как пес. Я взял у Кромвеля пистолет и приставил его к шелдоновской черепушке.
– Стреляй! – скомандовал Кромвель.
Я машинально спустил курок, и Шелдон, подскочив игрушечным попрыгунчиком, ничком упал на землю.
– Отлично сработано! – сказал Кромвель. – А теперь поспешим! Завтра к утру мы должны быть в Вашингтоне.
В поезде Кромвель преобразился до неузнаваемости. Он превратился в точную копию моего старого друга и двойника Джорджа Маршалла. Даже говорил он в точности так же, как Маршалл, хотя в данный момент речь была довольно бессвязной. Все это живо напомнило мне былые времена, когда мы, паясничая, строили из себя клоунов перед другими членами нашего славного Общества Ксеркса. Подмигнув мне, он на миг продемонстрировал блестящую пуговицу на внутренней стороне лацкана пиджака – ту самую, которую мы считали честью носить и на которой золотыми буквами было выгравировано: «Fratres semper»[68]. Затем он пожал мне руку нашим старым условным рукопожатием, щекоча мою ладонь, как было принято в нашем кругу, указательным пальцем.
– Ну, убедился? – спросил он, подмигивая мне перекошенными щекой и глазом.
Странно, но его глаза, когда он подмигивал, расширялись до внушительных размеров – это были громадные выпученные глазищи, плававшие на круглом лице парой жирных устриц. Однако метаморфоза была мимолетной. В следующий миг – возвращения к прежнему воплощению, то бишь к Кромвелю, – глаза выглядели совершенно нормально.
– Кто ты? – спросил я. – Ты Кромвель или Маршалл?
Он по-шелдоновски приложил палец к губам и прошипел:
– Ш-ш-ш!
Затем голосом чревовещателя, вырывавшимся из дырки в уголке рта, он быстро, почти беззвучно и все учащающейся скороговоркой – от стараний понять его у меня мгновенно голова пошла кругом! – сообщил, что предупреждение получено им лишь в последнюю минуту, что в штабе гордятся мной и что мне дано ответственное задание – да-да, очень ответственное – тотчас отправиться в Токио. Там мне надлежало, выдавая себя за одного из ближайших помощников самого микадо, пойти по следам похищенных гравюр.
– Знаешь… – и он заговорил еще тише, снова уставив на меня свои ужасные плавающие устрицы, вновь отгибая лацкан пиджака, сжимая мне руку и щекоча ладонь своим указательным пальцем, – ты знаешь, это та самая, которую мы используем на тысячедолларовом банкноте.
И он тут же перешел на иностранный язык – на японский, который, к моему изумлению, я понимал не хуже английского. Далее на языке палочек для еды он объяснил мне, что все дело это было затеяно комиссионером, занимавшимся произведениями искусства и нанятым рэкетирами. Этот малый был большим специалистом по порнографическим гравюрам. Я встречу его в Йокогаме, выдавая себя за врача. А на нем будет адмиральская форма с одной из этих очень смешных шляп-треуголок. Тут он ужасно больно толкнул меня локтем и хихикнул совсем как япошка.
– Мне ужасно жаль, Ген, – продолжал он, переходя на бруклинский говор, – но товар нашли на твоей жене. Да– да, она входит в банду. Поймали ее с поличным – с большим грузом кокаина. – Он снова пихнул меня локтем, еще больнее. – Помнишь последнюю встречу, которую мы организовали, – у Гримми? В тот раз, когда они прямо на нас отключились? Потом я еще не раз проделывал этот фокус. – Он схватил меня за руку и сдавил ее все тем же условным рукопожатием. – Теперь слушай, Генри, и запоминай!.. Когда мы сойдем с поезда, ты пойдешь по Пенсильвания-авеню прогулочным шагом. На ней повстречаешь трех собак. Первые две – для отвода глаз, ненастоящие. А третья подбежит к тебе, чтобы ты ее погладил. Это – условный знак. Погладь пса по голове одной рукой, а другой поищи пальцами у него под языком. Там найдешь свернутую бумажку размером с ячменное зернышко. Ухвати пса за ошейник и иди туда, куда он тебя поведет. Если тебя кто-нибудь остановит, говори всем: «Огайо!» Ты ведь знаешь, что это значит. У них шпионы везде, даже в Белом доме… А теперь слушай, Ген, – и он застрекотал в темпе швейной машинки – все быстрей, быстрей, быстрей, – когда встретишься с президентом, пожми ему руку нашим старым рукопожатием. Там тебя ждет сюрприз, но о нем я ничего не скажу. Помни одно, Ген, он – президент! И ни на минуту об этом не забывай! Он там тебе много чего наговорит… ты же знаешь, он не может отличить дырки в земле от жопы… но не важно, ты просто слушай! И не показывай, что хоть что-то знаешь! В критический момент появится Обсипрешексвизи. Его ты знаешь… он был с нами много лет… – (Я хотел попросить его повторить имя, но ни на миг не смог остановить поток его неудержимой речи.) – Через три минуты прибываем, – пробормотал он, – а я не передал тебе и половины нужного. Самое важное, Генри, ты постарайся понять… – И он еще раз больно пихнул меня локтем в ребра. В тот же момент его голос упал и стал таким тихим, что я мог уловить лишь краткие смысловые обрывки.
Не в силах понять Маршалла, я корчился, как в агонии. Смогу ли я действовать, если самые важные подробности упустил? Конечно, тех трех собак я запомнил. Послание будет зашифровано, но я смогу расшифровать его на корабле. За время путешествия я смогу также довести до ума мой японский, произношение хромает, а ведь мне предстоит разговаривать при императорском дворе.
– Обожди, обожди минуту! – просил я. – Последнее, что ты сказал…
Но он уже спускался по сходням и таял в толпе.
Я шел по Пенсильвания-авеню походкой прогуливающегося фланера, как вдруг с упавшим сердцем подумал: неужели я до такой степени одурманен? На какой-то момент я засомневался: может быть, я сплю? Но нет, я шел по самой настоящей Пенсильвания-авеню, ошибки быть не могло. А потом неожиданно узрел стоявшего у кромки тротуара большого пса. Я знал, что он ненастоящий: ведь пес был привязан к уличному столбу. Еще более весомое подтверждение, что сна у меня ни в одном глазу. Глядя в оба, я высматривал теперь вторую собаку. И чтобы ее не пропустить, даже не повернулся посмотреть на того, кто определенно шел за мной по пятам. Кромвель – или Джордж Маршалл, эти двое в моем сознании теперь нерасторжимо слились – не оповестил меня, что за мной будут следить. Хотя, может быть, и сказал – в тот миг, когда говорил чуть не шепотом. Я все больше и больше впадал в панику. Надо заглянуть в прошлое, необходимо вспомнить, как меня угораздило вляпаться в эту отвратительную историю. Нет, мой мозг слишком устал.
Внезапно я чуть не выпрыгнул из кожи. На углу под дуговой электрической лампой стояла Мона. Она держала в руке пачку «натюрмортов» и раздавала их всем прохожим. Когда я с ней поравнялся, она протянула мне один из них и предостерегла взглядом, говорившим: «Будь осторожнее!» Не спеша я перешел улицу. Некоторое время нес «натюрморт», не заглядывая, а лишь легонько ударяя им себя по ноге, как газетой. Затем, притворившись, будто мне надо высморкаться, переложил «натюрморт» в другую руку и, вытирая нос, искоса прочел следующую надпись: «Конец округл, подобно началу. Fratres semper». Слова поразили меня как удар грома. Наверное, это была одна из многих подробностей, что я пропустил мимо ушей, когда он говорил со мной шепотом. Как бы то ни было, мне хватило присутствия духа изорвать листок на мелкие клочья. Я ронял клочки один за другим с интервалами в сотню или более ярдов и внимательно прислушивался, не замедляет ли шаг идущий за мной, чтобы их поднять.
Я подошел ко второй собаке. Маленькой, игрушечной, на колесиках. Очень похожа на вещь, брошенную ребенком. Проверяя, настоящая она или нет, я тихонько поддел ее носком ботинка. И она мгновенно рассыпалась в пыль. Притворяясь, будто ничего обычнее быть не может, я продолжил свою неторопливую прогулку.
Третью – настоящую – собаку я узрел всего в нескольких ярдах от входа в Белый дом. Человек, следивший за мной, более не шагал со мной в ногу, если, конечно, он незаметно для меня не поменял свою обувь на мягкие тапочки. Как бы то ни было, последнюю собаку я все же нашел. Это был большой и игривый, как щенок, ньюфаундленд. Он размашисто, широкими прыжками, подскочил и, стремясь лизнуть в лицо, едва не сбил меня с ног. Минуту-другую я стоял, гладя его по большой теплой голове, а потом, воровато оглянувшись, нагнулся и залез рукой ему под язык. В самом деле, я нащупал под ним крошечный рулончик фольги. Как говорил Маршалл – или Кромвель, – размером он не превосходил ячменное зернышко.
Мы с псом поднимались по ступенькам лестницы к Белому дому. Я держал пса за ошейник. Все охранники подавали нам условные знаки – широко подмигивали, демонстрируя пуговицу на отвороте лацкана своей униформы. Вытирая ноги о коврик снаружи, я заметил на нем надпись Fratres semper, выведенную большими красными буквами. Навстречу шел президент. Он был в визитке и полосатых брюках, с бутончиком гвоздики в петлице. Он протягивал мне обе руки.
– Но это же Чарли! – воскликнул я. – Ради бога, как ты здесь оказался? Я думал, что должен встретиться с… – Тут я неожиданно вспомнил предостережения Джорджа Маршалла. – Мистер президент, – продолжал я, сгибаясь в глубоком поклоне, – для меня большая честь…
– Входи, входи! – говорил Чарли, пожимая мне руку и щекоча мою ладонь указательным пальцем. – Мы тебя ждем.
Президент или не президент, он ни на йоту не изменился.
Среди других членов клуба Чарли отличался своей крайней степенью молчаливости. А поскольку молчание часто сходит за видимость мудрости, мы, смеха ради, избрали его президентом клуба. Чарли жил как раз в одном из многоквартирных домов напротив, через дорогу. Мы обожали его, но, понятное дело, сойтись с ним близко, конечно же, не могли – из-за его непостижимой неразговорчивости. А однажды он вообще исчез. Шли месяцы, а от него не было никаких известий. Месяцы слагались в годы. Никто о нем ничего не знал. Он, казалось, провалился сквозь землю.
А сейчас он вводит меня в свою святая святых. Президент наших Соединенных Штатов!
– Садись, – предложил Чарли. – Устраивайся поудобнее. – Он положил на столик коробку сигар.
А я лишь пялился и пялился на него. Он выглядел точно таким, как прежде, за исключением, естественно, визитки и полосатых брюк. Его густые золотисто-каштановые волосы были разделены пробором посередине, как прежде. И ногти наманикюрены. Все тот же старина Чарли. И снизу на жилетке он, как прежде, носит блестящую пуговицу Общества Ксеркса Fratres semper.
– Понимаешь, Ген, – начал он мягким, хорошо поставленным голосом, – мне пришлось скрывать мое имя. – Он наклонился вперед и заговорил вполголоса: – Она идет за мной по пятам, понимаешь. – (Под словом она он имел в виду свою жену, с которой, будучи католиком, не мог развестись.) – И за всей этой историей стоит тоже она. Понимаешь… – И он ловко подмигнул мне, перекосив глаз и щеку в точности как до этого Джордж Маршалл.
А потом многозначительно зашевелил пальцами, словно скатывал ими шарик хлебного мякиша. Сначала я не понимал, что он делает, но он продолжал шевелить пальцами, и в конце концов намек до меня дошел.
– А, бумаж…
Он настороженно поднял палец, прижал его к губам и почти неслышно произнес:
– Ш-ш-ш!
Я извлек комочек фольги из нагрудного кармана и развернул ее. Чарли серьезно кивал, не издавая ни звука. Я передал ему записку, чтобы он ее прочитал; не говоря ни слова, он возвратил ее мне, дабы я внимательно с ней ознакомился, после чего я опять вернул записку ему, и он быстро ее сжег. Послание было написано по-японски. В переводе оно означало: «Соединенные в братстве безраздельны. Конец подобен началу. Строго соблюдайте этикет!»
Раздался телефонный звонок; Чарли заговорил в трубку серьезным и тихим голосом. Он закончил словами:
– Впустите его через несколько минут!
– Сюда идет Обсипрешексвизи. Он поедет с тобой в Йокогаму.
Я хотел было спросить, не соблаговолит ли он выразиться яснее, как вдруг резким движением он развернулся в кресле на сто восемьдесят градусов и сунул мне под нос фотографию:
– Ты ведь ее узнаешь? – И снова прижал палец к губам. – В следующий раз увидишь ее в Токио, скорее всего во внутреннем дворике императора.
С этими словами он нагнулся к нижнему ящику стола и достал из него конфетную коробку с этикеткой «Хопджес», – точно такими же в свое время торговали вразнос мы с Моной. Он осторожно открыл коробку и показал ее содержимое: поздравительная открытка на Валентинов день, локон – похоже, с головы Моны, миниатюрный кинжал с ручкой слоновой кости и обручальное кольцо. Я внимательно, не притрагиваясь к вещам, их обследовал. Чарли закрыл коробку и положил ее в ящик стола, затем подмигнул мне, отогнул лацкан жилета и произнес: «Огайо!» Я повторил за ним: «Огайо!»
Вдруг он опять развернулся в своем кресле и сунул мне под нос еще одну фотографию. С нее на меня смотрело другое лицо. Не Моны, а кого-то другого, сильно походившего на нее, неопределенного пола, с длинными, до плеч, волосами, как у индейцев. Поразительное и таинственное лицо, напоминающее лик Рембо – падшего ангела. Глядя на снимок, я испытывал какое-то неловкое чувство. Тем временем Чарли перевернул фото: на другой его стороне оказалось изображение Моны в японском наряде, с волосами, убранными на японский манер, и с глазами, слегка подведенными наискось; тяжелые веки придавали им вид двух темных прорезей. Несколько раз Чарли поворачивал фотографию то одной, то другой стороной. В благоговейном молчании. Однако в чем заключается смысл этой церемонии, я уразуметь так и не смог.
В этот момент в комнату вошел служитель и объявил о прибытии Обсипрешексвизи. Он произнес имя как «Обсикви». В комнату быстрой походкой вступил высокий худощавый мужчина: он сразу же подошел к Чарли и, обращаясь к нему как к мистеру президенту, разразился длинной тирадой по-польски. Я для него, похоже, не существовал вовсе. И хорошо, ибо я уже готов был допустить страшную бестактность, назвав его настоящим именем. Я уже радовался тому, как удачно все складывается, когда мой старый друг Стасю (а это был именно он) закончил свою тираду столь же внезапно, как ее начал.
– Кто это? – спросил он коротко и оскорбительно, кивая на меня.
– Взгляни получше! – сказал Чарли. И подмигнул – сначала мне, а потом Стасю.
– А… это ты, – отозвался Стасю, нехотя протягивая мне руку. – А какое отношение к делу имеет он? – спросил он, адресуя вопрос президенту.
– Это решать тебе, – коротко ответил Чарли.
– Гм… – пробормотал Стасю. – Он же ни на что не годен. Неудачник со стажем.
– Нам это известно, – сказал Чарли абсолютно невозмутимо, – но все-таки? – Он нажал еще раз на кнопку, и в кабинете появился еще один служитель. – Позаботьтесь, Грисуолд, чтобы этих джентльменов в целости и сохранности доставили в аэропорт! Возьмите мою машину!
Он поднялся и пожал нам руки. Теперь поведение Чарли точно отвечало манерам человека, занимающего столь высокое положение. Слов нет, настоящий президент нашей великой республики, и к тому же проницательный и способный президент! Когда мы дошли до порога, он прокричал нам вслед:
– Fratres semper!
Мы повернулись кругом и, отсалютовав на военный манер, повторили:
– Fratres semper!
Ни на самолете, ни внутри его огни не горели. Некоторое время мы хранили молчание. Наконец Стасю разразился потоком речи по-польски. Она показалась мне странно знакомой, хотя, кроме слов пан и пани, я ничего разобрать не мог.
– Можно по-английски? – попросил я. – Ты же знаешь, я по-польски не говорю.
– А ты постарайся, – сказал он, – и польский вспомнишь. Ты ведь на нем говорил когда-то. Нечего притворяться глухонемым! Польский язык – самый легкий на свете. – И он начал издавать шипящие и свистящие звуки, похожие на шипение змей в брачный сезон. – Чихни!.. Хорошо! А теперь сверни свой язык назад, как ковер, и сглотни!.. Хорошо! Видишь? Ничего сверхтрудного… А в основе – всего шесть гласных, двенадцать согласных и пять дифтонгов. Когда сомневаешься в чем-то, плюйся и свисти! Никогда не открывай рот широко! На вдохе прижимай язык к сжатым губам! Вот так!.. Говори быстро! Чем быстрее, тем лучше! И громче, словно собираешься петь. Вот так!.. А теперь закрой нёбо и откашляйся!.. Отлично! Ты быстро усваиваешь. Повторяй за мной и не заикайся! Ochizkishyi seiecsuhy plaifuejticko eicjcyciu[69]. Превосходно! Знаешь, что это означает?.. «Завтрак готов!»
От беглости моей польской речи я пришел в полный восторг. Мы обкатали несколько самых расхожих фраз типа: «Обед подан», «Вода горячая», «Дует сильный ветер», «Поддерживай огонь» и т. п. Речь легко ко мне возвращалась. Стасю был прав: стоило сделать усилие и слова оказывались на кончике языка.
– Куда мы сейчас летим? – спросил я по-польски ради разнообразия.
– Izn Yotzxkiueoeumasysi, – ответил он.
Мне казалось, я помнил даже это длинное слово. Странный язык – польский. Очень толковый, даже если приходится совершать акробатические упражнения языком. Но языку это полезно, придает упругости. Часок-другой речи на польском – и ты более чем готов к урокам японского.
– Что ты будешь делать, когда мы долетим? – Естественно, тоже на польском.
– Dmzybyisi uttituhy kidjeueycmayi[70], – сказал Стасю. Что на нашем наречии означало – «не дрейфь!». Потом он добавил еще несколько ругательств, которые я забыл. – Держи язык за зубами и смотри в оба! Жди распоряжений!
За все время полета он ни разу не вспомнил о прошлом, о наших отроческих днях на Дриггс-авеню, или о своей добродушной старой тетке, которая подкармливала нас продуктами со своего ледника. Она была таким милым существом, его тетя. И говорила по-польски, как пела. Стасю ни на йоту не изменился. Такой же, как тогда, замкнутый, дерзкий, угрюмый и высокомерный. Я помнил страх и трепет, которые он наводил на меня в детстве, – выходя из себя, он превращался в сущего демона. И мог схватить нож или топор и молниеносно кинуться на кого угодно. Милым и щедрым я видел его лишь временами, особенно тогда, когда тетя посылала его за квашеной капустой. Мы щипали ее по дороге домой. Она была такая вкусная тогда, квашеная капуста! Поляки ужасно ее любили. Ее и жареные бананы. Хотя бананы были чересчур мягкие и приторные.
Мы шли на посадку. Впереди, должно быть, Йокогама. Я ни черта не видел, аэропорт обволакивала черная тьма.
И только теперь вдруг понял, что сижу в самолете один. Пошарил руками в темноте, но не нашел никого. Стасю со мной не было. Тихо позвал его, но не получил ответа. И тут я запаниковал. Пот полился с меня градом.
Когда я сходил по трапу, навстречу мне ринулись двое япошек.
– Огайо! Огайо! – восклицали они.
– Огайо! – повторил я.
Мы уселись в коляски рикш и двинулись к городу. По пути электричества я не заметил – одни бумажные фонарики, как на празднике, аккуратные и ухоженные дома из бамбука, тротуары с деревянным настилом. Несколько раз мы проезжали по деревянным мостикам, в точности таким же, как на старинных гравюрах.
Когда мы вступили на территорию императорского дворца, уже светало.
Мне, наверное, следовало дрожать от восторга, но я был спокоен, собран, готов к любым неожиданностям. «Наверняка в лице микадо я встречу еще одного старого друга», – говорил я сам себе, упоенный собственной мудростью.
Мы спешились перед большими, расписанными огненными красками воротами, надели деревянные башмаки и кимоно, несколько раз упали ниц и стали ждать, когда ворота откроются.
Бесшумно и медленно, почти незаметно, они наконец открылись, и мы оказались в середине круглого небольшого двора, устланного камнем с вкраплениями перламутра и драгоценных камней. В центре высилась огромная статуя Будды. Выражение на его лице было строгим и в то же время нездешним. От Будды исходило ощущение покоя, какого я не знал никогда. Я чувствовал, как влечет меня в круг блаженства. Вся Вселенная пришла к экстатическому молчанию.
В одном из скрытых арочных коридоров появилась женщина. Она была одета в ритуальное платье и несла священный сосуд. По мере того как она приближалась к Будде, всё вокруг вдруг стало преображаться. Женщина двигалась танцевальным шагом в такт странной аритмичной музыке, резким стаккато, производимым стуком дерева, камня или железа. Из каждого дверного проема выступили танцовщицы, они несли наводящие ужас стяги, их лица скрывали безобразные маски. Окружив Будду, они затрубили в огромные полые раковины, рождая поистине неземные звуки. И вдруг они мгновенно исчезли, а я остался во дворике один на один с огромным животным, напоминавшим быка. Животное лежало, свернувшись на железном алтаре, более похожем на сковороду. Теперь я видел, что это не бык, а Минотавр. Один его глаз был мирно закрыт, другой взирал на меня с неожиданным добродушием. Неожиданно этот огромный глаз стал мне подмигивать, игриво, флиртующе, словно женщина под уличным фонарем в каком-нибудь непотребном квартале города. Подмигивая, оно все более удобно укладывалось на своем подиуме, словно добровольно готовясь к поджариванию, затем закрыло глаз, притворяясь, будто не прочь вздремнуть. Однако время от времени веко на чудовищном шаре подрагивало, продолжая, по-видимому, подмигивать мне даже во сне.
Мучительно медленно, на цыпочках я приблизился к монстру. Когда до алтаря, который, как я теперь отчетливо видел, имел форму сковородки, оставалось всего несколько футов, я с ужасом обнаружил маленькие язычки пламени, лизавшие его снизу. Чуть пошевеливаясь, Минотавр, казалось, зажаривался в собственном соку – испытывая от этого чувственное наслаждение. То открывая, то закрывая свой огромный глаз. В котором светилось неподдельное лукавство.
Приблизившись еще ближе, я ощутил исходивший от маленьких язычков жар. И уже чувствовал запах паленой кожи. Парализованный ужасом, я застыл в неподвижности, и по моему лицу ручейками сбегал пот.
Но вот одним грузным движением, опираясь на задние конечности, животное село. Меня чуть не стошнило от ужаса: я заметил, что у Минотавра три головы. И все три пары широко раскрытых глаз искоса на меня взирали. Скованный страхом, я угрюмо наблюдал, как отпадала с боков животного обгоревшая кожа, обнажая под ней белую и гладкую, точно слоновая кость, плоть. Постепенно побелели и головы, на которых оттого лишь ярче засветились отливавшие киноварью носы и ноздри и окаймленные кругами синего кобальта глаза монстра. На каждом лбу чернело по звездочке; они мерцали, как настоящие.
По-прежнему балансируя на задних ногах, монстр запел, поднимая головы выше, откидывая гривы, вращая всеми своими чудовищно косящими глазами.
– Матерь Божья! – пробормотал я по-польски, готовый к моментальной отключке.
Песня, поначалу звучавшая как странный экваториальный распев, становилась все более узнаваемой. С искусством поистине сверхъестественным монстр легко и быстро переходил из регистра в регистр, с одной тональности на другую, пока наконец чистым и сильным голосом не запел наш «Звездно-полосатый стяг». И под звуки гимна прекрасная белая плоть Минотавра стала менять свой цвет на ярко-красный, а затем синий. Черные же звездочки на лбах стали золотыми: они сияли, как семафоры.
Мой мозг, не успевавший фиксировать столь озадачивающие метаморфозы, похоже, отказался служить мне. А может быть, я действительно упал в обморок. Во всяком случае, в следующий миг я понял, что Минотавр исчез вместе с алтарем. А на прекрасном лилово-розовом плитняке, на котором пылающими звездами сияли драгоценные камни, исполняла танец живота обнаженная женщина со сладострастными формами и ртом, похожим на свежую рану. Ее пупок, увеличенный до размера серебряного доллара, был окрашен живым карминным цветом; на голове ее сверкала тиара, а запястья и лодыжки были схвачены браслетами. Голую или закутанную в грубое полотно, я бы узнал эту женщину всюду. Ее длинные золотые волосы, ее яростные глаза нимфоманки, ее сверхчувственный рот безошибочно свидетельствовали, что передо мной не кто иной, как Хелен Рейли. Не надели ее общество – или природа – столь яростным собственническим инстинктом, сидеть бы ей теперь в Белом доме с Чарли, который ее покинул. И быть бы ей Первой Леди нашей Благословенной Страны.
Однако времени на размышления мне было не дано. И ее, по-прежнему обнаженную, еще пахнущую потом и благовониями, запихнули в самолет вместе со мной. И мы снова летели – без сомнения, в Вашингтон. Я предложил ей мое кимоно, но она от него отмахнулась. Спасибо, ей удобно и так. Она сидела напротив меня, подняв колени чуть не до подбородка и бесстыдно раздвинув ноги. Сигарету изо рта она, можно сказать, не вынимала. Интересно, что скажет президент, то есть Чарли, когда увидит ее в таком виде? Чарли, который всегда говорил о ней только как о похотливой и ни на что не годной шлюхе. Но как бы то ни было, я с заданием справился. Я вез ее домой, вот что важно. Наверное, теперь Чарли вознамерится получить тот персональный развод, разрешить который вправе один папа римский.
В течение всего полета она не переставала смолить сигарету за сигаретой и не меняла бесстыжей позы; она пялилась на меня, строила глазки, трясла своими необъятными сиськами, временами даже ублажая себя рукой. Для меня это было чересчур – пришлось закрыть глаза.