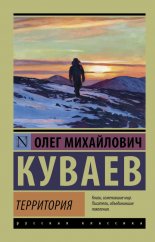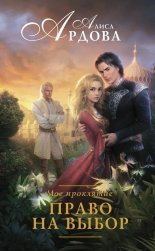Плексус Миллер Генри

– Это легко устроить. – Мона улыбнулась.
– Что ты имеешь в виду?
– Давай как-нибудь вечерком встретимся у папаши Московица. Я скажу, что ты мой давний друг.
– Это мысль. Надо будет зайти к старику. Забавно будет. Можешь сказать, что я врач. Подходит? Но прежде надо разделаться с этими леденцами, – вставил я. – У меня тут появилась одна мыслишка. Если отправить мальчишек-рассыльных по телеграфным агентствам, мы могли бы сорвать солидный куш. Сотни две разошлись бы моментально.
– Хорошо, что напомнил, – перебила Мона. – Хозяин кондитерской пригласил нас в субботу на обед. Хочет отпраздновать наши успехи. По-моему, он хочет взять нас в свой бизнес. Я прошу тебя не делать никаких резких движений, а то старик обидится.
– О чем разговор! Он наш добрый ангел! Сделал для нас больше, чем все наши друзья, вместе взятые.
Следующие дни пролетели за сочинением посланий моим старым приятелям из телеграфной компании. Подумав, я присовокупил несколько и для знакомых чиновников в офисе вице-президента. По ходу дела я сообразил, что вместо пары посыльных потребуется как минимум втрое больше, если мы хотим побыстрей закончить с этим.
Я примерно подсчитал, сколько мы получим с этого мероприятия, – выходило около пятисот долларов. Недурно для ухода на покой из леденцового бизнеса, подумал я, нетерпеливо потирая руки.
Настал решающий день. Я собрал шесть шустрых мальчуганов, снабдил их необходимыми инструкциями и приступил к ожиданию.
К вечеру они начали по одному появляться, с той же ношей в руках. Не продано ни коробки. Ни единой. Я не верил своим глазам. Выложив рассыльным довольно внушительную сумму, я растерянно опустился на пол посреди груды сваленных свертков.
Письма, которые я так старательно прикреплял к каждой коробке, остались невскрытыми. Я недоверчиво перебирал их, сокрушенно качая головой над каждым.
– Невероятно, невероятно, – машинально повторял я.
В самом низу лежали письма, адресованные Хайми Лобшеру и Стиву Ромеро. Я беспомощно мял в руках конверты. Это было выше моего понимания. Если уж нельзя рассчитывать на испытанных друзей вроде Хайми и Стива, то на кого вообще можно рассчитывать?
Моя рука непроизвольно потянулась к конверту, на котором стояло имя Стива Ромеро. Поверх шапки было что-то накорябано. У меня вырвался вздох облегчения. Может, хоть он мне что-то объяснит.
«Спивак перехватил твоего посыльного в конторе. Заставил всех отказаться. Извини. Стив».
Я вскрыл письмо Хайми. То же самое. Конверт Костигана. Аналогичная история. Тут я рассвирепел. Ублюдок Спивак! Так-то он отплатил мне! Ладно, скотина, дай срок! Встретимся – задушу прямо на улице.
Я вертел в руках письмо Костигана. Костиган по прозвищу Кастет. Мы не виделись целую вечность. Он наверняка с удовольствием возьмется проучить Спивака. Все, что ему требовалось, – это заманить Спивака темным вечером куда-нибудь поближе к реке и всыпать как следует. Ничего себе, поработал подлец! Обзвонил все филиалы в Бруклине, на Манхэттене и в Бронксе! Странно, что Хайми мне не сигнализировал. Избавил бы меня от кучи хлопот. Скорей всего, ему некого было попросить об этом.
Я перебирал в памяти всех знакомых громил, в былые годы всегда готовых услужить мне. Служащий ночной смены из отделения на Четырнадцатой улице, азартный игрок; его ублюдок-шеф уже много лет тщетно уговаривал президента компании использовать для доставки телеграмм почтовых голубей. Редко мне попадались более безжалостные и бездушные существа, чем этот hombre[58] из Гринпойнта; он мог пойти на что угодно, если ему посулить пару долларов, которые он тут же спустит на скачках. Был еще один – горбун в рыбной лавке, этакий Джек-потрошитель в штатском. Ночной посыльный, Артур Уилмингтон. Бывший проповедник Слова Божия, он превратился в старую развалину и делал в штаны. Хитрюга Джимми Фальцоне – малыш с лицом ангела и повадками убийцы. Краснорожий громила из Гарлема, пробавлявшийся торговлей наркотиками и поддельными чеками. Вечно пьяный великан Лопес – кубинец, который мог переломать вам все ребра одним движением руки. И поляк Ковальский – дебильный малый, имевший трех жен и четырнадцать детей: этот за доллар был способен на все, кроме мокрого дела.
Для моего предприятия этот сброд совершенно не годился. Я подумал о Гасе – полицейском, который сопровождал Мону в ее походах по Виллиджу, когда она это позволяла. Гас был из тех преданных псов, которые могут до смерти измолотить мужика, если женщина хоть словом заикнется, что тот ее оскорбил. Был еще добрый католик Бакли, частный сыщик. Тот по пьянке любил извлекать из-за пазухи маленькое черное распятие и требовать, чтобы мы поочередно прикладывались к нему. Однажды нам пришлось спрятать его пушку, когда он чересчур раздухарился.
Мона застала меня по-прежнему сидящим на полу в состоянии прострации. Наша неудача, казалось, не слишком ее расстроила. Наоборот, она была даже рада, что все так получилось. Может, это раз навсегда отвратит меня от заведомо обреченных затей. Из нас двоих только она умеет добывать деньги и при этом обходиться без лишней суеты. Когда же я наконец привыкну ей доверять?
– Ладно, с этим покончено, – согласился я. – Если Кромвель не передумает насчет своих ста баксов, как-нибудь выкарабкаемся, а?
Мона с сомнением покачала головой. Конечно, нам двоим сотни в неделю хватило бы, но ведь есть еще алименты, надо помогать ее матери и братьям, то-се…
– А ты не получила те деньги по закладной, о которых спрашивала твоя мать?
Да, еще несколько недель назад. Ей не хочется говорить об этом сейчас: рана еще не успела затянуться. Она вскользь заметила, что, сколько бы ни было денег, у них есть странная особенность моментально улетучиваться. Есть только один выход: сорвать грандиозный куш. Она все больше склоняется к решению заняться операциями с недвижимостью.
– Послушай, пора нам завязывать с этой леденцовой эпопеей, – продолжал настаивать я. – Сходим к патрону на обед, все ему объясним. Меня тошнит от этого купи-продай. И мне не нравится, когда этим занимаешься ты. Это отвратительно.
Мона, казалось, была согласна. Нанося на лицо крем, она вдруг произнесла:
– Ты не хочешь позвать с нами Ульрика? Вы совсем перестали видеться.
Идея мне понравилась. Правда, было уже поздно, но я решил не откладывать и позвонить. Накинул пальто и пошел к телефонной будке.
Часом позже мы втроем сидели в ресторане недалеко от городской управы. Там, где готовят итальянские блюда. Ульрик был рад встрече с нами. Все выспрашивал про наше житье-бытье. Пока исполняли заказ, мы пропустили по стаканчику. Ульрик вкалывал как вол в какой-то рекламной компании и был несказанно счастлив, что наконец-то подвернулся случай отвлечься. Он был в отличном настроении.
Найдя в его лице благодарного слушателя, Мона стала в красках описывать наш леденцовый бизнес – правда, в общих чертах. Ульрик внимал с немым изумлением. Прежде чем начать комментировать услышанное, ему хотелось узнать мое отношение ко всему этому. Прояви я словоохотливость, он тут же весь обратился бы в слух, будто и понятия не имел ни о чем подобном.
– Живут же люди! – закудахтал он. – Если бы только я мог отважиться на что-нибудь подобное. Почему со мной ничего такого не происходит? Так, значит, вы продаете сласти в кафе «Ройал»? Ну вы даете! – Он покачал головой и хихикнул. – С О’Марой общаешься? – спросил он после паузы.
– Да, но скоро он уезжает. Хочет двинуть на юг. Надеется там разбогатеть.
– Надеюсь, вы не будете сильно скучать без него.
– Буду, – возразил я. – Я люблю его, несмотря на все недостатки.
Ульрик понимающе кивнул, как бы говоря, что я излишне снисходителен, хотя это и нельзя назвать пороком.
– А этот, как его, Осецки… как он поживает?
– В Канаде. Его друзья – помнишь тех двоих? – обхаживают его подружку.
– Понятно. – Ульрик провел языком по ярко-красным губам. – Заботятся, стало быть. – Он издал еще один смешок.
– Кстати, – он повернулся к Моне, – тебе не кажется, что Виллидж сильно изменился, и, как водится, не к лучшему. Я на днях здорово оплошал, притащив туда своих виргинских знакомых. Веришь, мы почти сразу смотались. Куда ни ткнись, одни притоны да бордели. Может, конечно, у нас просто не хватает пороху… Есть там один ресторанчик, кажется, где-то возле Шеридан-сквер. Ну и заведение, доложу я вам.
Мона рассмеялась:
– Это там, где вечно околачивается Минни Кошелка?
– Кошелка?
– Ну да, педик шизанутый, он у них поет и играет на пианино… и ходит в женском платье. Неужели не видел?
– Видел, конечно. Просто не знал, что его так зовут. В самую точку. Шут гороховый, ей-богу. Я бы не удивился, если бы он на люстру влез. А какой у него язык – мерзкий и поганый… – Он повернулся ко мне. – Все меняется, Генри. Вообрази меня рядом с двумя степенными, чопорными виргинцами. Сказать по правде, по-моему, они ни слова не поняли из того, что он нес.
В этих притонах и борделях, как презрительно назвал их Ульрик, мы бывали постоянно. Но хоть вслух я и посмеялся над брезгливостью Ульрика, в глубине души я был с ним согласен. Виллидж и впрямь деградировал. Куда ни плюнь, сплошные злачные места, в которых ошивались педики с лесбиянками, проститутки, фальшивомонетчики, мошенники всех мастей. Я не стал рассказывать Ульрику, что, когда мы в последний раз были у Поля и Джо, там было полно гомиков в матросской форме. Какая-то похотливая сучка все норовила вцепиться Моне зубами в грудь – прямо в гостиной. Выбравшись, мы чуть не споткнулись о двух «матросиков». Со спущенными штанами они возились на балконном полу, сопя и похрюкивая, словно свиньи, дорвавшиеся до грязной лужи. Я считал, что это слишком даже для Гринич-Виллиджа. Но, как уже заметил, не собирался делиться увиденным с Ульриком: бедняга бы этого не вынес. С него хватало россказней, которыми его щедро потчевала Мона, – об отвергнутых ею клиентах-покупателях, этих залетных птицах, как он называл их, – из Уихокена, Милуоки, Вашингтона, Пуэрто-Рико, Сорбонны, да мало ли еще откуда. Он не собирался ставить под сомнение ее слова, но у него не укладывалось в голове, что вполне приличные люди могут быть так подвержены соблазнам. Добро бы она отшила их один раз, но ведь потом все повторяется снова и снова.
– Как она только с ними управляется? – вырвалось у него, но он тут же прикусил язык.
Ульрик решил переменить тему:
– Да, Генри, совсем забыл, тот человек, Макфарланд, часто спрашивает о тебе. Нед, естественно, не понимает, как тебя угораздило отказаться от такого предложения. Он постоянно твердит Макфарланду, что ты образумишься и придешь. Ты произвел на старика колоссальное впечатление. Конечно, у тебя могут быть другие планы, но если ты все же передумаешь, то бьюсь об заклад, что сможешь получить от Макфарланда все, что пожелаешь. Он как-то шепнул Неду, что готов разогнать всех, лишь бы заполучить такого, как ты. Я подумал, что нелишне тебе иметь это в виду. Никогда не знаешь, как все обернется.
Воспользовавшись секундной паузой, Мона решила, что пора и ей присоединиться к нашей беседе. Вскоре мы заговорили о бурлеске. Ульрик обладал феноменальной памятью на имена. Он помнил не только, как звали комиков, субреток, исполнительниц танца живота за последние двадцать лет. Он мог назвать все театры, где видел их, перечислить, в каком сезоне и с кем он был на том или ином представлении. С бурлеска он перешел к музыкальной комедии, а от нее к балам Quat’z’Arts[59].
Наши нечастые посиделки втроем всегда отличались бессвязностью, сумбуром и хаотичностью. Мона не умела сосредоточиться ни на чем дольше двух с половиной минут, ее манера общаться с собеседником могла кого угодно довести до исступления. Стоило вам дойти до самого интересного места, обронить случайно какое-то слово, как в голове у нее всплывали какие-то сложные цепи ассоциаций, требовавшие немедленного обсуждения. Не имело ни малейшего значения, о чем мы говорили: о Чимабуэ, о Фрейде, о братьях Фрателлини, – ее ассоциации были бесконечно далеки от темы разговора. Только женщины способны связать несвязуемое. Мона была не из тех, кто, выговорившись сам, предоставляет и другому такую возможность. Вернуться к прерванной теме было все равно что пытаться переплыть реку с быстрым течением. Того и гляди опять отнесет куда-нибудь вбок. Приходилось полагаться на милость стихии.
Ульрик не без труда привыкал к такой форме общения. Жаль, конечно, было подвергать его такому испытанию, хотя, дай ему волю, он и сам готов был заболтать кого угодно. Его ничего не упускающий глаз, мягкие изучающие пальцы, которыми он касался вещей, особенно любимых, его неистощимая память вкупе с ностальгией по былым временам, страсть к предметности, точности, детальности (времени, месту, ритму, среде, габаритам, плотности) – все это придавало его речи колорит, присущий живописи старых мастеров. Слушая его, я подчас грезил, что передо мной – один из тех, давно ушедших. Иными словами, человек из другого времени. При всем том он не был ни педантом, ни аскетом, ни брюзгой. Он просто жил в другом измерении. Говоря о тех, кого он любил, – о художниках, – он как бы становился одним из них. У него был дар – не теряя собственного «я», отождествлять себя с теми, кого он почитал, перед кем благоговел и преклонялся.
Он часто говорил, что пьянеет от общения со мной. Что не может при мне в точности выразить то, как ему видится. Ему казалось, что раз я пишу, то, следовательно, превосхожу его и в искусстве рассказчика. Хотя на самом деле все было наоборот. Если не считать нечастых моментов, когда я либо заводился ни с того ни с сего, либо был в ударе, либо когда отказывали тормоза, рядом с Ульриком я казался себе неловким, косноязычным заикой.
Ульрика восхищал хаос, лежащий в основе всей моей жизни. Он никак не мог примириться с тем, что, вскормленные одной и той же средой, вышедшие из одной и той же косной германо-американской колыбели, мы стали настолько разными, шли в совершенно противоположных направлениях. Конечно, он все несколько утрировал, сгущал краски. Я же скромно не мешал ему, зная, что он обретает горькое и мучительное удовлетворение, возводя в превосходную степень мои чудачества и выверты. Порой приходится быть великодушным, хоть от этого и краснеешь.
– Знаешь, – произнес Ульрик, – когда я рассказываю о тебе друзьям, мне самому не верится в то, что я говорю. За то недолгое время, как возобновилось наше знакомство, мне кажется, ты успел прожить десяток жизней. Я ведь почти ничего не знаю о том, как ты тогда жил, – взять хотя бы тот период, когда ты жил со вдовой и ее сыном. Или когда закатывались грандиозные пирушки с Лу Якобсом, – ведь так его звали? Хорошее было для тебя время, хоть и трудное. Неудивительно, что этот Макфарланд почувствовал в тебе что-то, пусть и чужеродное. Я понимаю, что сильно рискую, вновь заводя этот разговор, – тут он бросил быстрый, умоляющий взгляд в сторону Моны, – но, право же, Генри, все эти приключения, которых ты ищешь на свою голову, скитания, к которым тебя так неудержимо тянет… прости, я не хотел тебя обидеть… Конечно, по натуре ты наблюдатель, созерцатель… – Тут Ульрик окончательно стушевался, запнулся и пошел на попятную. Из его горла вырвался сдавленный смешок, он запыхтел, облизнул пересохшие от волнения губы, отхлебнул коньяка, похлопал себя по ляжкам, поочередно оглядел нас с Моной и залился смехом. – Да что это я, в самом деле! Ты же все сам знаешь! – смог наконец выговорить он. – Заикаюсь тут перед тобой, мямлю, как двоечник, не выучивший урока. В общем, вот что я хочу сказать: тебе нужно как-то разнообразить свою жизнь. Общаться с людьми, которые тебе под стать. Путешествовать, иметь деньги, испытывать себя, открывать новое… Короче, больше риска, больше свершений…
Я с улыбкой кивнул, чтобы он продолжал.
– Конечно, та жизнь, которую ты сейчас ведешь, куда богаче, глубже моих представлений о ней… интересней для тебя как писателя. Художнику не дано выбирать, из чего сложится его творчество. Это задано изначально, предопределено складом его натуры. Оно дается свыше или предопределяется складом натуры. Эти странные личности, которые липнут к тебе, словно ты медом намазан, – в них наверняка скрыто неизмеримое множество тайн и загадок. Их можно разгадывать бесконечно. Но цена, Генри, цена! Я бы и вечера не выдержал в их обществе! С удовольствием слушаю твои рассказы о них, но общаться с ними – упаси бог! Я хочу сказать, что ты не получаешь от них и малой толики в ответ на то внимание, какое ты уделяешь им. Ну вот, опять сел на свою лошадку. Конечно, я не прав! Тебе лучше знать, что для тебя хорошо, что плохо. У тебя же чутье художника.
Тут я не выдержал и прервал его:
– Вот тут ты и в самом деле не прав. Я никогда не задумываюсь, что для меня хорошо, что нет. Я беру то, что попадается на моем пути, и стараюсь выжать из него максимум. Я ведь не выбираю этих людей. Ты прав, они тянутся ко мне – но и я к ним тянусь не меньше. Иногда мне кажется, что с ними у меня больше общего, чем с тобой, с О’Марой, с любым из моих всамделишных друзей. Кстати, раз уж об этом зашла речь, как ты считаешь, есть ли они у меня, настоящие друзья? А вот я знаю: случись что, ни на кого из вас рассчитывать не приходится.
– Это ты верно сказал, Генри. – Его нижняя челюсть отвисла, приняв неестественный вид. – Вряд ли кто из нас достоин называться твоим другом. Ты заслуживаешь лучшего.
– Черт! Я совсем не то имел в виду. Прости, у меня просто вырвалось.
– А что сталось с тем врачом, твоим другом… Кронски? Ты давно не упоминал о нем…
– Понятия не имею. Наверно, в зимней спячке. Проявится, не волнуйся.
– Вэл обращается с ним отвратительно, – вставила Мона. – Не понимаю почему. Если хочешь знать мое мнение, вот кто настоящий друг. Вэл вообще не умеет ценить настоящих друзей. Кроме тебя, Ульрик. Хотя и приходится порой напоминать, чтобы он позвонил тебе. Он такой забывчивый.
– Ну, тебя-то ему легко забыть не удастся, – возразил Ульрик. Он хлопнул себя по ляжкам и глуповато ухмыльнулся. – Прости, я сморозил бестактность, да? Но ты ведь не обиделась? – Он накрыл ее руку своей и слегка пожал.
– Уж я позабочусь об этом, – раздалось в ответ. – Ты ведь, поди, не думал, что у нас все так затянется?
– По правде говоря, не думал, – согласился Ульрик. – Но теперь, когда я узнал тебя, понял, как много вы значите друг для друга, я уже не удивляюсь.
– Послушайте, а не двинуть ли нам отсюда? Хочешь, оставайся у нас. О’Мара сегодня не придет.
– Решено! Ловлю вас на слове. Могу я устроить себе пару выходных или нет? Я попрошу, чтобы нам принесли пару бутылок… Ты что предпочитаешь?
Когда зажегся свет, Ульрик в изумлении застыл на пороге.
– Как здесь чудесно! – выдохнул он восхищенно. – Хорошо бы вам осесть здесь надолго. – Он прошел к моему столу и уставился на царивший там беспорядок. – Всегда мечтал увидеть рабочее место писателя, – произнес он задумчиво. – Проникаешься идеями, которыми насыщены страницы его произведений. Все это безумно интересно. Знаешь, – он положил руку мне на плечо, – я часто думаю о тебе, когда сам работаю. Вижу тебя склонившимся над машинкой, пальцы как сумасшедшие носятся по клавишам. На твоем лице восхитительно-сосредоточенное выражение. Оно было у тебя даже в детстве. Ты, конечно, этого не помнишь. Правда-правда… Черт возьми, как оно все забавно сложилось. Мне порой не верится, что вот этот писатель – еще и мой друг, очень старый друг. Есть в тебе что-то такое, Генри, – я еще в ресторане пытался выразить, что именно, – что делает тебя похожим на мифического героя, прости за напыщенность, не подберу другого слова. Ты ведь понимаешь, о чем я? – Его голос стал чуть ниже, вкрадчивее, гуще, медоточивее. Но отнюдь не утратил искренности. Оглушительной искренности. Глаза заблестели от возбуждения, в уголках рта показались пузырьки слюны.
Я был вынужден прервать его словоизлияния, иначе нам грозила опасность умереть от умиления друг у друга в объятиях.
Когда я вышел из ванной, они с Моной были увлечены каким-то серьезным разговором. Он так и не снял пальто и шляпу. В руках его был лист бумаги с ведомыми одному мне словами, который я держал при себе на всякий случай. Я понял, что теперь он взялся за Мону, пытаясь разузнать мои, так сказать, профессиональные привычки. Писательство было искусством, обладавшим в его глазах невероятной притягательной силой. Он был ошеломлен количеством того, что я успел насочинять с тех пор, как мы виделись в последний раз. Его пальцы с трепетом касались книг, которые громоздились на столе.
– Можно посмотреть? – впился он глазами в мои пометки, лежащие тут же.
Я, разумеется, не возражал. Больше того, я готов был вывернуться наизнанку, чтобы только он смог разглядеть всю мою подноготную. Меня забавляло, что он придает столько значения любой мелочи. Вместе с тем я не мог не сознавать, что это единственный человек, которому действительно интересно то, что я делаю. Собственно, благоговел он перед писательством как таковым и только после этого перед тем, у кого – кем бы тот ни был – хватало пороху иметь дело с этим джинном. Мы могли провести ночь напролет, обсуждая каракули, набросанные на моем заветном листке, или небольшую вещицу, над которой я тогда корпел и которая называлась «Дневник футуриста».
Этот человек жил в другом времени, был одним из тех, кого мои знакомые припечатали словечком «старомодный». Конечно, чем, как не старомодностью, можно было объяснить такое по-детски наивное восхищение магией слова. В Средние века люди были по духу другими. Тогда можно было проводить часы, дни, недели, месяцы, обсуждая мелочи, которые кажутся нам пустым звуком. Их способность впитывать информацию, вникать, поглощать, концентрироваться на ней кажется феноменальной, чуть ли не патологической. Они были художниками до мозга костей. Любовь к Искусству текла в их жилах так же естественно, как кровь. Одно было неотделимо от другого. Это была та жизнь, которой так жаждал Ульрик, пусть он и отчаялся хоть когда-нибудь осуществить свою мечту. Он лелеял тайную надежду, что, может быть, мне удастся отыскать слова и поведать всем об этой сокровенно целостной жизни, в которой все переплелось в одно.
Он расхаживал по комнате, держа в руке бокал, яростно жестикулируя, издавая горловые нечленораздельные звуки, поминутно причмокивая, словно неожиданно обнаружил себя в раю. Какой же он идиот, что осмелился так говорить со мной в ресторане! Здесь ему открылась та сторона меня, с которой прежде он сталкивался лишь поверхностно. Каким богатством духа веяло от стен, в которых мы обитали! Чего стоят одни пометки на полях моих книг! Они красноречиво свидетельствуют о жизни, извечно закрытой для него. Это просто кладезь идей. Жилище человека, который умеет работать. А он еще обвинял меня в пустой трате времени!
– Неплохой коньяк, а? – Ульрик перевел дух. – Чуть меньше коньяка и чуть больше размышлений – вот путь к мудрости, для меня во всяком случае. – Он скорчил одну из своих неповторимых гримас, в которых известным только ему одному образом сочетались восторг, лесть, самоуничижение и торжество.
– Как ты умудряешься найти время для всего этого, можешь объяснить? Уму непостижимо, как ты… – простонал он, плюхаясь в мягкое кресло и умудрившись не пролить ни капли драгоценной жидкости. – Суть в том… – он торопился закончить свою мысль, – что ты любишь то, что ты делаешь. А я – нет. Мне давно следовало это понять и избрать другой путь… Звучит как смертный приговор, не правда ли? Можешь смеяться сколько влезет, я знаю, как смешон бываю временами…
Я возразил, что смеюсь не над ним, а вместе с ним.
– Какая разница? Смейся, не стесняйся, – продолжал он. – Ты единственный человек, который, я уверен, будет писать голую правду. В тебе нет жестокости, и ты честен. А у тех, с кем мне доводится общаться, этого качества чертовски мало. Впрочем, эта старая песня наверняка уже надоела. – Он подался вперед и подарил мне одну из своих самых теплых и сердечных улыбок. – Знаешь, мне, как всегда некстати, только что пришла в голову мысль. Единственное, от чего я испытываю удовольствие, даже, скорее, любовь, – это когда рисую ту негритянку, Люси. Самое ужасное – я никогда, никогда не смогу ей вставить… Ты ведь знаешь Люси: она позволяет делать с собой все что угодно… Да что там говорить… И вот она сидит передо мной обнаженная. Вот так-то! Чертовски хорошо сложена! – Он сдавленно хрюкнул, подавив чуть было не сорвавшийся с губ хохот, больше похожий на ржание. – Иногда ее поза может свести с ума. Жаль, что ты этого не видел. Просто сдохнуть можно. Но она вечно бросает меня на полдороге. И я как дурак каждый раз тащусь в ванную остужать конец под холодным душем. Это жутко изматывает. М-да. – Он обернулся, дабы узреть реакцию Моны.
Невозмутимость, с которой она ответила, повергла Ульрика в неописуемое изумление.
– А почему ты меня никогда не зовешь позировать?
У Ульрика забегали глаза. Он недоуменно переводил взгляд с нее на меня, опять на нее, опять на меня.
– Черт подери, как же это я сам не догадался? Почему мне самому никогда не приходило в голову? Надеюсь, наш друг не станет возражать?
Ночь неспешно канула за воспоминаниями, разговорами о будущем, идеей без остатка погрузиться в изучение ночной жизни, напоследок мы, по обыкновению, отдали дань великим живописцам. Перед тем как окончательно провалиться в сон, Ульрик пробормотал:
– Надо бы прочитать эссе Фрейда о Леонардо… Как думаешь, или не стоит?
– Выспаться тебе хорошенько стоит, – промычал я сонно.
Громкий звук выпущенных – само собой, без злого умысла – на волю газов подтвердил его солидарность с моим предложением.
Несколько дней спустя нас пригласил на обед наш благодетель из кондитерской. Мы устроились в погребке на Аллен-стрит, мрачной и безжизненной улице, где мимо нас с ревом и грохотом постоянно проносились взад-вперед поезда. Владельцем заведения был араб, друг кондитера. Радушный хозяин угощал нас восхитительными блюдами. Я получил истинное наслаждение от общения с этим человеком, открытым, прямодушным и искренним. Он в подробностях изложил нам историю своей юности, воспоминания о которой слились в сплошной нескончаемый кошмар. Единственным светлым лучом в нем была зыбкая мечта однажды добраться до Америки. Просто, трогательно и красочно поведал он нам о том, какой представлял себе Америку, живя в краковском гетто. Для него, как и для миллионов других обездоленных, обреченных на извечный мрак отчаяния, она, разумеется, была воплощением рая. Конечно, Ист-Сайд оказался не совсем таким, какой Америка виделась издалека, но ему здесь нравилось. Он хотел когда-нибудь перебраться в тихий зеленый уголок, может быть в Кэтскилл-Маунтинз, и открыть там курорт. В его речи промелькнуло название городка, где я как-то мальчишкой провел каникулы; с тех пор там воцарились немногочисленные представители избранного племени, и от прелестной маленькой деревушки, которую я когда-то знал, не осталось и следа. Но я без труда мог представить, что ему она покажется раем.
Вдруг, будто что-то вспомнив, он умолк. Встав из-за стола, он принялся шарить в карманах пальто. Наконец, просияв как школьник, он протянул нам с Моной по маленькому свертку, обернутому папиросной бумагой. Это были скромные сувениры в знак его восхищения нашими успехами на поприще леденцового бизнеса, заявил наш благодетель. Мы развернули каждый свой. Мону ждали прелестные наручные часики, меня – тонкой работы авторучка. Смущаясь, он выразил надежду, что мы останемся довольны подарками.
Разговор коснулся дальнейших планов на жизнь. Он сказал, что нам стоит продолжать начатое и, если, конечно, мы ему доверяем, еженедельно откладывать у него какую-то часть наших заработков на черный день. Он вполне сознает, что у нас деньги текут сквозь пальцы, как вода. И ему хотелось бы, чтобы мы открыли свое дело, арендовали небольшую контору и наняли нескольких человек, которые бы работали на нас. Он не сомневался, что у нас все получится. Начинать нужно с нуля, считал он, и использовать наличные, а не брать постоянно в кредит, как принято у американцев. Он извлек чековую книжку и продемонстрировал, сколько сбережений лежит у него на счете. Там было больше двенадцати тысяч долларов. От продажи магазина он выручит еще пять, а то и все десять. Если дела у нас пойдут хорошо, он мог бы продать магазин нам.
И снова мы растерянно подыскивали слова, не зная, как, не обидев, развеять его иллюзии. Я попытался было – с превеликой осторожностью и со всей мягкостью, на которую был способен, – заикнуться о том, что у нас другие планы относительно собственного будущего, но, завидев изменившееся выражение его лица, с поспешной покорностью спрятал свои доводы в карман. Да, мы будем продолжать. Станем леденцовыми королями Второй авеню. Может быть, переберемся, как и он, на лоно природы и поможем ему обустроить курорт в Ливингстон-Мэнор. Может быть, скоро и детьми обзаведемся. Пора становиться серьезней. Что до моего писательства, то когда мы крепко встанем на ноги, тогда появится время подумать и об этом. Толстой ведь начал писать на склоне лет, после того как удалился от дел, не так ли? Я утвердительно кивнул, не желая разочаровывать собеседника. На полном серьезе, без тени иронии, он поинтересовался, не кажется ли мне, что было бы очень здорово написать книгу о нем, о его жизни, о том, как он из чернорабочего с гранитного карьера стал владельцем крупного курорта. Я сказал, что это отличная идея и что мы еще вернемся к этому разговору.
В общем, в хорошенький переплет мы попали. Впервые за всю жизнь я не мог просто взять и отделаться от человека. Я был убежден, что с честными и порядочными людьми так поступать нельзя. К тому же Кромвель до сих пор не объявил о своем окончательном решении дать нам на откуп газетную колонку. (Он опять уехал куда-то на несколько недель.) Так, может быть, до его возвращения продолжить, не сильно напрягаясь, эту карамельную забаву? Мона же считала, что это время надо употребить с пользой, а именно заняться недвижимостью. Матиас будет счастлив ссудить ее деньгами, пока она не провернет первую продажу.
Увы! Несмотря на все благие намерения, леденцовый бизнес был обречен. Настал вечер, когда Моне с большим трудом удалось продать всего пару коробок. Я вновь стал провожать ее, торча, как прежде, на улице с двумя неподъемными чемоданами и уткнувшись в томик Эли Фора. (Его «История искусства» настолько захватила меня, что я мог с закрытыми глазами наизусть цитировать целые куски из книги, вплетая туда собственные измышления.) Шелдон куда-то испарился, О’Мара уехал на юг, Осецки сидел в Канаде. Мертвый сезон. Виллидж и Ист-Сайд наскучили нам, и мы решили попытать счастья поближе к цивилизации. Увы! Бродвей сильно изменился с тех пор, как его воспел Джордж Коэн[60]. Здесь царили шумные, враждебные нравы, то и дело возникали склоки, стычки, воздух взрывали оскорбительные выкрики, презрительные ухмылки, самозабвенное оплевывание всех и вся. Как раз тогда со мной случился дикий приступ геморроя. С содроганием вспоминаю, как висел на высокой ограде напротив Лидо, пытаясь облегчить боль, перенося тяжесть тела с ног на руки. Последнее посещение Лидо закончилось попыткой управляющего, бывшего боксера, запереть Мону в своей конторе и там изнасиловать. Старый добрый Бродвей!
Пора было сворачивать предприятие. Денег никаких мы не скопили, а напротив, еще задолжали патрону. А я, между прочим, еще должен был приличную сумму Мод, которую втянул в эту аферу, уговорив варить эти сладкие «импортные леденцы». Бедняжка охотно ввязалась в это дело в надежде, что оно позволит нам как-то разобраться с алиментами.
Короче, дела шли хуже некуда. Мы спали чуть ли не до захода солнца, вместо того чтобы вставать утром, как все нормальные люди. Матиас не мог уразуметь, что нашло на Мону. Прибыль сама шла к ней в руки, но она позволяла ей уплывать прямо из-под носа.
Иногда происходили абсолютно непостижимые вещи, вроде внезапно подкосившей меня икоты, длившейся три дня и заставившей вызвать врача. Не успел я задрать рубашку и почувствовать на своем животе прохладные пальцы, как все прекратилось. Мне было неловко, что я заставил человека тащиться сюда из самого Бронкса. Он же, напротив, выглядел вполне довольным – возможно, отчасти потому, что, как оказалось, со мной можно сыграть партию в шахматы. Он считал в порядке вещей перекинуться в партию-другую в свободное от абортов время. Удивительный был человек, чуткий, чувствительный! Отказался взять с нас деньги. Настоял, чтобы мы сами позаимствовали у него немного. Взял с нас слово обращаться к нему всякий раз, когда окажемся в затруднительном положении, будь то аборт или деньги. Пообещал в следующий раз принести с собой что-нибудь из Шолом-Алейхема. (Тогда я еще не слышал о Мойше Надире, иначе попросил бы его дать почитать «Эхо жизни».)
После его ухода я не смог удержаться от мысли, что это типичная черта врачей-иудеев. Ни разу в жизни ни один врач, в котором текла хоть капля еврейской крови, не пожелал получить от меня плату за визит. Всем им было свойственно увлекаться искусством и науками. В свободное время каждый из них посвящал себя кто музыке, кто рисованию, кто литературе. И самое главное, все предлагали мне свою дружбу. Как это не похоже на общую массу маститых арийских эскулапов! Мои попытки найти среди последних хоть одного, кто сколько-нибудь интересовался чем-либо, помимо медицины, оказались тщетными.
Я потребовал у Моны объяснения этому явлению.
– Евреи более человечны, – последовал лаконичный ответ.
– Пожалуй, ты права. Они даже умирающего заставят почувствовать себя лучше.
Примерно неделю спустя, судорожно соображая, где бы разжиться пятьюдесятью долларами, я вдруг вспомнил о своем зубном враче, также принадлежавшем к избранному племени. Ставшим уже привычным кружным путем я отправился к почтовому отделению на Двадцать третьей улице, где старик Крайтон служил ночным посыльным; я намеревался попросить его передать записку. По дороге я рассказал Моне о таинственных узах, связывавших меня и ночного письмоносца. Заодно напомнив, как однажды ночью он спас нас, появившись в берлоге Джимми Келли.
Нам пришлось подождать, потому что Крайтон отсутствовал, выполняя очередное поручение. Коротая время, я разговорился с ночным сторожем, одним из бывших мошенников, вставших на путь истинный, которых О’Рурк держал в ежовых рукавицах. Наконец появился Крайтон. Ему не удалось скрыть своего удивления при виде моей жены. Но он тактично сделал вид, что видит ее впервые.
Я объяснил служащему, что заберу с собой Крайтона на пару часов. На улице поймал такси, собираясь доехать с ним до Бруклина и подождать за углом, пока он не управится с моим делом. Когда мы тронулись, я пространно изложил суть нашей поездки.
– Вам не нужно никуда ехать! – воскликнул мой спутник. – Мистер Миллер, я тут кое-что скопил и с радостью одолжу вам сотню или даже две, если это поможет вам выйти из затруднения.
Я начал было отказываться, но в итоге дал себя уговорить.
– Утром первым делом занесу вам, – пообещал Крайтон.
Мы доехали до дому, немного поболтали у дверей, после чего он направился к подземке. Сошлись на полутора сотнях.
Было солнечное раннее утро, когда Крайтон пришел, как мы и договаривались.
– Можете не спешить с возвратом, – присовокупил он.
Я тепло поблагодарил и взял с него слово, что он непременно зайдет к нам как-нибудь на обед. Он пообещал появиться, как только у него выпадет выходной.
На следующий день я прочел в газете, что ночью Крайтон поджег дом, в котором жил, и сгорел в нем заживо. Никаких подробностей и объяснений этого жуткого поступка не было.
Что ж, так у нас появился невозвратный долг. В свое время я завел обычай записывать в небольшой кондуит все суммы, которые мы когда-либо занимали. То есть все, о которых я был в курсе. Выяснить, сколько Мона брала у своих «кавалеров», не представлялось возможным. Как бы то ни было, я твердо решил возвращать хотя бы то, что занимал сам. По сравнению с ее долгами это были сущие пустяки. И все-таки перечень выглядел устрашающе. Строчки пестрели займами в пять, а то и меньше долларов. Но для меня эти крохи были исполнены особым смыслом. Они исходили от людей, готовых ради меня расстаться с последним. Вот эти три с полтиной мне одолжил Савардекар, один из моих бывших ночных посыльных. Хилый, болезненный, он перебивался, питаясь горсткой риса в день. Вероятнее всего, он давно вернулся к себе на родину, в Индию, где готовился обрести святость. Наверняка ему уже ни к чему были эти несчастные три с полтиной. Но я почувствовал бы себя лучше, бесконечно лучше, будь я в силах послать их ему. Порой даже святому могут пригодиться деньги.
Размышляя так, я вдруг понял, что в тот или иной момент моей жизни каждый, буквально каждый индус, с которым я водил дружбу или просто был знаком, без колебаний ссужал меня деньгами. Раз за разом происходила одна и та же трогательная сцена, когда они извлекали деньги из потрепанных кошельков. Тут мой взгляд упал на строчку, в которой значились четыре доллара и семьдесят пять центов. Ими я обязан парсу Али Хану, имевшему привычку писать мне удивительные письма, где он делился своими наблюдениями за положением дел в телеграфной компании, а заодно и в городском хозяйстве в целом. Ему легко удавался эпистолярный жанр, в котором, как правило, он использовал высокий стиль. Помимо заповедей Христовых и бесконечных изречений Будды, каковые он то и дело цитировал (видимо, мне в назидание), с его стороны было совершенно естественным, например, предложить мне написать мэру и потребовать установить на домах светящиеся номера. Али Хан полагал, что это могло бы существенно облегчить работу ночных почтальонов.
Стоит вспомнить еще об одном малом (мы прозвали его Элом Джолсоном), которому я был должен ни много ни мало шестнадцать долларов. Надо сказать, у меня появилась гнусная привычка стрелять у него деньги при каждой встрече на улице. При этом я не испытывал ни малейшей неловкости, видя его искреннюю радость быть мне полезным в таком пустячном деле. Расплачивался я тем, что покорно выслушивал очередную мелодию его собственного сочинения, которую он тут же на улице и напевал. Количество его песенок, валявшихся у разных издателей на Тин-Пэн-Элли[61], перевалило уже за сотню. Время от времени он выступал на любительских вечерах, устраивавшихся в театрах по соседству. Его любимым детищем была песня про Авалон, которую он мог исполнять как нормальным голосом, так и фальцетом, в зависимости от пожеланий публики. Однажды, когда мы с приятелем сидели в «Малой Венгрии», мне не хватило денег и пришлось вызвать посыльного, чтобы отправить записку в управление. Посыльным оказался Эл Джолсон. Я опрометчиво пригласил его с нами выпить. Слово за слово, он спросил, не будем ли мы против, если он исполнит нам одну из своих песенок. Я был в полной уверенности, что он сейчас что-нибудь промычит вполголоса, но нет: я и слова вымолвить не успел, как Эл уже стоял посреди зала с кепкой в одной руке и со стаканом в другой, демонстрируя изумленным посетителям всю мощь своих легких. Допев до конца, он обошел присутствующих, предлагая им наполнить кепку. А покончив с этим, вернулся к нам и предложил тут же потратить свой шальной заработок на выпивку. Услышав, что об этом не может быть и речи, он под столом украдкой сунул мне в руку пару банкнот.
– С меня причитается, – тихо шепнул он.
В самых больших должниках я ходил у своего дяди Дейва. За мной было долларов семьсот, если не считать процентов. Этот дядя, Дейв Леонард, был женат на сестре моего отца. Много лет он был булочником, но потом, лишившись на работе двух пальцев, решил попробовать себя в чем-нибудь другом. Родившись в Америке и будучи янки до мозга костей, он умудрился остаться совершенно неграмотным. Даже собственного имени не мог написать. Но какой это был человек! Какой невероятной широты души! Я частенько подкарауливал его у входа в театр Зигфельда[62]. Он подрабатывал перепродажей театральных билетов, имел с этого несколько сот в неделю – работенка при этом была, как вы понимаете, не пыльная. Если его не было у Зигфельда, я отыскивал его на ипподроме или в «Мете»[63]. Обычно мне удавалось его перехватить в одной из этих трех точек в антракте. Стоило Дейву меня увидеть, как его рука тянулась в карман, готовая отстегнуть мне требуемую сумму. У него всегда была при себе толстенная пачка купюр. Не моргнув глазом он отсчитывал мне полтинник с той же легкостью, что и десятку. И при этом никогда не спрашивал, зачем мне нужны деньги.
– Заходи в любое время, ты знаешь, где меня найти, – говорил он. Или: – Поболтайся тут чуток, а потом пойдем перекусим. – Или: – Не хочешь сходить вечером на представление? Могу предложить билет в партер.
Да, Дейв – это был король. Всякий раз, расставаясь с ним, я благословлял его в душе. Узнав, что я намерен стать писателем, он пришел в невероятное волнение. Скажи я, что собираюсь податься в маги, это бы произвело на него меньшее впечатление. Как всякий неграмотный человек, он благоговел перед языком. Но за его возбуждением скрывалось нечто большее. Дейв всегда понимал меня. Он видел, что в нашей семье я – белая ворона, и это вызывало у него странную гордость. Он с умилением вспоминал, как я играл на фортепьяно, был уверен, что у меня талант. Его дочь, которой я давал уроки музыки, стала профессиональной пианисткой. Узнав, что я забросил музыку, он был потрясен. Если мне нужно пианино – он его достанет, он знает место, где можно взять недорого.
– Ты только скажи, Генри!
Потом он учинил мне допрос с пристрастием о природе писательства. Автор как – придумывает все заранее или ему приходится сочинять по ходу дела? Конечно, писатель должен прежде всего грамотно писать, рассуждал мой дядя. И непременно быть в курсе того, что печатают в газетах. Он был свято убежден, что писатель должен знать обо всем на свете. Он мечтал увидеть мое имя красующимся не важно где – на обложке ли книги, журнала, на газетной странице.
– Трудно, должно быть, написать книгу, – рассуждал он вслух. – Разве упомнишь, о чем писал неделю назад? А действующие лица! С ними как быть? Записывать на бумажку и класть ее на виду?
Его интересовало мое мнение о тех писателях, имена которых ему доводилось слышать. Или о журналистах, преуспевших и теперь купавшихся в деньгах.
– Я тут подумал, Генри, вот бы и тебе стать обозревателем или корреспондентом… – Как бы то ни было, он всегда желал мне только добра. Он был уверен, что меня ждет успех. Мне ведь столько дано, и тому подобное. – Ты уверен, что тебе этого хватит? – озабоченно спохватывался он, имея в виду только что выданные деньги. – Ладно, не хватит, придешь завтра. – И потом, о чем-то вспомнив: – Послушай, у тебя есть немножко времени? Хочу представить тебя своему другу. Он мечтает познакомиться с тобой. Между прочим, когда-то работал в газете.
Заговорив о Дейве и его неизменной доброте, я вдруг вспомнил, что уже сто лет не видел своего кузена Джина. Я знал о нем только то, что несколько лет назад он перебрался из Йорквилля и теперь живет на Лонг-Айленде с двумя сыновьями-подростками.
Я послал ему открытку, в которой предложил встретиться. Он сразу ответил, указав место встречи на какой-то станции метро у последнего вагона.
Я вознамерился накупить, как полагается, всякой всячины к столу, вина, но с трудом наскреб несколько монет, которых едва хватало на дорогу туда и обратно. Раз у него есть работа, успокаивал я по пути свою совесть, вряд ли он сильно нуждается. В последний момент я предпринял последнюю, но, как оказалось, тщетную попытку стрельнуть доллар у слепого, который продавал газеты у городской управы.
Увидев Джина, поджидающего меня на платформе с маленьким свертком под мышкой, я онемел. В его волосах уже показалась седина. На нем были штаны, судя по всему неоднократно латанные, грубый свитер и кепка с козырьком. Только улыбка осталась такой же лучезарной, а рукопожатие крепким, как прежде. Когда мы поздоровались, его глубокий, низкий голос слегка задрожал. Все тот же голос, запомнившийся мне, когда мы были еще мальчишками.
Минуту-другую мы стояли, как бы заново узнавая друг друга. Потом он произнес с неизбывным йорквилльским акцентом:
– Прекрасно выглядишь, Генри.
– Да ты и сам хоть куда, разве что похудел немного.
– Старею, – ответил он, стягивая с головы кепку и демонстрируя заметную плешь.
– Брось, тебе ведь чуть больше тридцати. Молодой еще!
– Нет. Я выдохся. Мне тяжело пришлось, Генри.
Сказал так просто и буднично, что я сразу поверил ему. Он всегда был простой, искренний, прямодушный.
Спустившись по лестнице, мы попали в какое-то унылое, богом забытое захолустье. Что-то подсказывало мне, что худшее еще впереди.
Из обрывков его рассказа постепенно складывалась история его жизни, – история, заставившая мое сердце мучительно сжаться. Начать с того, что работал он два-три дня в неделю. Никому ныне не нужны были изящные футляры для трубок. На фабрику его пристроил отец. (Похоже, это было при царе Горохе.) Он считал, что нечего тратить время на учебу. Я хорошо помнил этого зануду, его отца: зимой и летом он носил красную фланелевую рубаху, а перед ним – неизменная банка с пивом. Один из тех тупоголовых немцев, которых ничто не переделает.
Джин женился, у них родилось двое детей, а когда они были совсем крошками, жена умерла от рака. Умирала она долгой, мучительной смертью. Он потратил все накопленные сбережения, влез по уши в долги. Это случилось, когда они только-только переехали. Как раз в это время его турнули с фабрики. Он пробовал разводить тропических рыб, но толку из этого не вышло. Вся беда в том, что ему нужна была надомная работа: смотреть за детьми было некому. Он стирал, готовил, гладил, чинил одежду и все такое. И чувствовал себя страшно, чудовищно одиноким. Так и не смог оправиться после смерти горячо любимой жены.
Все это он рассказывал, пока мы добирались до его дома. Поглощенный собственными невзгодами, он ни слова не спросил о том, как я живу. Выйдя из автобуса, мы долго шли по пыльным, закопченным улицам предместья. Наконец выбрались на какой-то пустырь, на самой окраине которого кособоко притулилась его крошечная обшарпанная хибара, как две капли воды похожая на лачуги, в которых ютилась белая беднота на глубоком Юге. Несколько чахлых растений у входа тщетно силились придать этому убожеству жилой вид. В них было что-то нестерпимо жалостное. Мы вошли в дом, где нас встретили его сыновья, двое симпатичных, явно недокормленных подростков. Тихие, не по-детски серьезные и замкнутые. Я никогда прежде их не видел. И я вдруг почувствовал еще больший стыд за то, что явился с пустыми руками.
Я что-то забормотал в свое оправдание.
– Перестань. Уж я-то знаю, как это бывает, – прервал Джин мои жалкие объяснения.
– Но, знаешь, у нас не всегда так. Послушай, в следующий раз, очень скоро, все будет по-другому, обещаю. Я приду и жену свою приведу.
– Не стоит об этом. Я очень рад, что ты пришел. У нас есть остатки чечевичной похлебки и немного хлеба. Перебьемся как-нибудь.
Он снова заговорил. Заговорил о тех днях, когда в доме не было ни крошки еды и, отчаявшись, он вынужден был пойти к соседям и просить у них чего-нибудь поесть – не для себя, для детей.
– Но почему ты не обратился к Дейву? Я уверен, он бы обязательно помог тебе, – недоумевал я.
Мой вопрос причинил ему боль.
– Понимаешь, не хочется клянчить у родственников.
– Но Дейв не просто родственник.
– Знаю, Генри, но мне нелегко просить. Проще голодать. Если б не дети, я бы так и делал.
Пока мы разговаривали, мальчики выскользнули за дверь и вскоре вернулись с охапкой капустных листьев, сельдерея и пучком редиски.
– Нехорошо так делать, – мягко пожурил их Джин.
– А что они такого сделали? – не понял я.
– Залезли в соседский огород, благо хозяин в отъезде.
– Ну и молодцы! – отозвался я. – Черт побери, Джин, они все правильно сделали. Не пойму, то ли ты слишком скромный, то ли чересчур гордый.
Тут я себя одернул и счел необходимым извиниться. В самом деле, какое у меня право осуждать его за верность исконным жизненным принципам? Он был воплощением доброты, кротости, подлинного смирения. Ни в одном его слове не было ни грана фальши. Никого не винил, ни на что не жаловался. Повествовал о своих невзгодах как о несчастном случае, о хроническом невезении, выпавшем на его долю. Повествовал без пафоса и ожесточения.
– Может быть, они еще и вина нароют, – полушутя-полусерьезно заметил я.
– Ох, совсем забыл. – Джин сконфуженно покраснел. – У меня есть, надо только спуститься в погреб. Домашнее… Из бузины… ты такое пьешь? Я берегу его как раз для таких случаев.
Мальчишки уже спускались вниз. С каждой очередной вылазкой они становились более раскованными.
– Хорошие ребята, Джин. Что с ними будет, когда они вырастут?
– На фабрику не пойдут, уж это я точно знаю. Хочу попробовать устроить их в колледж. Без хорошего образования сейчас нельзя. Младший, Артур, хочет стать врачом. А старший – совсем дикарь. Мечтает уехать на Запад и стать ковбоем. Надеюсь, с годами у него это пройдет. Начитались дурацких вестернов, вот и результат.
Тут его осенило: ведь он даже не поинтересовался, есть ли у меня дети.
– Дочь растет. От первой жены.
Он с изумлением воспринял то, что я женился во второй раз. У него, похоже, не укладывалось в голове, как вообще можно развестись.
– Твоя жена тоже работает?
– В некотором роде да. – Не мог же я ему в двух словах поведать о сложностях нашей совместной жизни.
– Ты по-прежнему в цементной компании?
Цементная компания! Я чуть со стула не свалился.
– Окстись! Я теперь пишу книги. Разве ты не знал?
– Пишешь книги? – Теперь настал его черед удивляться. Его лицо осветилось радостью. – Знаешь, а я даже не очень удивлен. Помню, в детстве ты всегда читал нам вслух. А мы клевали носом. Не помнишь? – Он умолк, видимо вспоминая, и весь как-то сник. Потом вновь заговорил: – Конечно, ты ведь получил образование…
Меня поразило, как он произнес эти слова. Так мог говорить мальчишка-иммигрант, которому в диковинку естественные права, положенные каждому американцу.
Я напомнил, что в школе ничем особенным не выделялся: по сути, мы с ним были в одинаковом положении. И вдруг у меня сорвалось с языка: а ему-то удается выкраивать время для чтения?
– А как же! – просиял он. – Читаю помаленьку. Что еще остается? – Он показал на полку у меня за спиной, где стояли книги.
Я обернулся. Диккенс, Вальтер Скотт, Теккерей, сестры Бронте, Джордж Элиот, Бальзак, Золя…
– Не люблю я всех этих новомодных авторов, – пояснил он в ответ на мой невысказанный вопрос.
Мы сели за стол. Мальчики с жадностью набросились на еду. Я вновь почувствовал угрызения совести. Если бы не я, им бы досталось вдвое больше. Покончив с похлебкой, мы принялись за овощи. В доме не было ни масла, ни приправ, ни даже горчицы. Хлеб был тоже на исходе. Я порылся в кармане в надежде, что там завалялась хоть какая-нибудь мелочь, и выудил монетку в десять центов. У меня еще оставались деньги на обратную дорогу.
– Пусть твои молодцы сгоняют за хлебом.
– Не надо, – отозвался Джин. – Обойдутся. Привыкли.
– Прекрати. В конце концов, могу я себе хоть что-то позволить?
– Но у нас нет ни масла, ни джема!
– Что с того? Так съедим. Не впервой.
Пока мы препирались, дети незаметно улизнули из-за стола.
– Господи! – Я все еще не мог поверить. – Плохо дело! Ты же совсем без гроша!
– Не переживай, Генри. Все не так уж плохо. Какое-то время мы вообще ели лебеду.
– Не продолжай. Это бред! – Я начал медленно закипать. – Здесь нельзя голодать. Эта страна ломится от еды. Джин, чем есть сорняки, уж лучше сидеть на паперти. Черт подери, никогда не слышал о таком.
– Ты – другое дело. Ты объездил свет. Много повидал. А я нет. Я кручусь как белка в колесе в этих четырех стенах… Если не считать времени, когда я работал на мусорном баркасе.
– Что? На мусорном баркасе? Что это значит?
– То и значит, – спокойно ответил Джин. – Мы возили отбросы на Бэррен-Айленд. Так было, пока дети жили у родителей жены. Тогда у меня появилась возможность поменять работу… Помнишь старика Кислинга из муниципалитета? Это он меня устроил. Мне даже нравилось. Конечно, вонь была жуткая, но человек ко всему привыкает. Я получал восемьдесят долларов в месяц, вдвое больше, чем на трубочной фабрике. Хорошо было, выходишь из бухты, огибаешь гавань, а дальше – открытое море. Этот баркас был моим единственным шансом повидать мир. Однажды в шторм мы сбились с курса. Нас носило несколько дней. Хуже всего было то, что кончился запас еды. И пришлось жрать объедки, которые мы везли. В общем, прекрасный опыт. По правде говоря, я не жалею о том времени. Все лучше, чем на фабрике. Хотя воняло гадостно…
Он замолчал, погрузившись в воспоминания. Лучшие дни! Вдруг он спросил, читал ли я Конрада – Джозефа Конрада, того, который писал о море.
Я кивнул.
– Вот это настоящий писатель, Генри. Если бы ты когда-нибудь смог писать, как он… М-да… – Он замолчал, не зная, как закончить фразу. – Мне больше всего у него нравится «Негр с „Нарцисса“». Я его раз десять читал. И каждый раз мне нравится все больше.
– Я помню ее. Я прочитал его почти всего. Он и вправду прекрасно пишет. А ты Достоевского читал?
Нет. Джин даже не слышал его имени. Он что, романист? Поляк? Что-то польское в имени.
– Я пришлю тебе его «Записки из мертвого дома». Кстати, – осенило меня, – у меня же полно книг. Можешь брать что угодно. Я тебе дам. Только скажи что.
Джин не хотел меня затруднять. Хватит с него того, что есть. Он любит перечитывать все по многу раз.
– Но ведь есть же и другие имена…
У него нет сил интересоваться новыми именами. Правда, его сын, старший, – тот читает запоем. Может, я ему что-нибудь пришлю?
– Из какой области?
– Что-нибудь современное.
– Кого именно?
– Ну, Холл Кейн, Райдер Хаггард, Хенти…