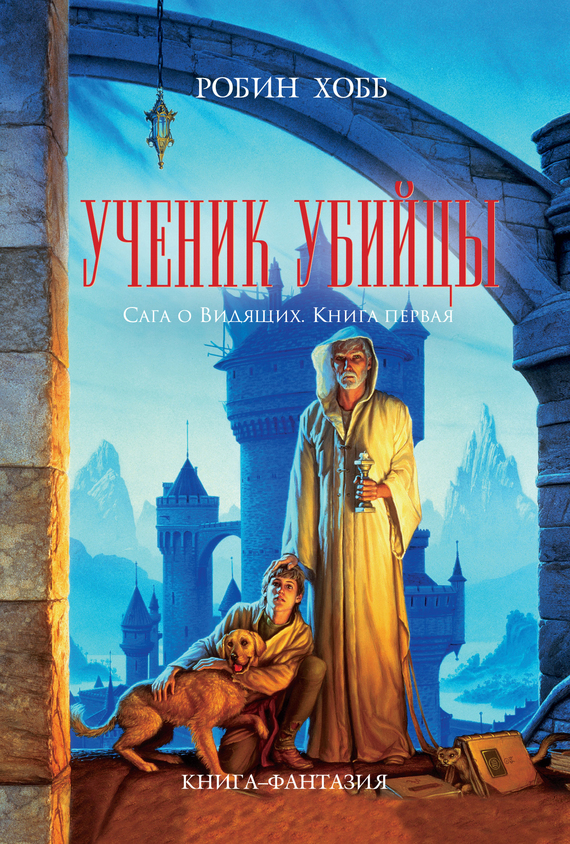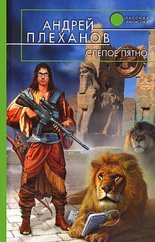Доспехи бога Вершинин Лев

Итак, я уже — не я, и Олла — не Олла, и Буллу, выкрашенный настоем чернокорня, впряжен не в щегольскую двуколку, а в самую обычную крестьянскую фуру; конек, кажется, обижен, он то и дело оглядывается, фыркает с откровенным неодобрением, но тут уж ничего не поделаешь — что имеем, то имеем; глубоко в сумке, приколотая к аккуратно сложенному парадному камзолу, прячется до лучших времен нефритовая лекарская ящерка, а вслед за солнцем едет в разбитой телеге немолодой менестрель с хворым мальчишкой-учеником — и если кому-то по-прежнему интересна моя скромная персона, пусть попробует искать каплю воды в бушующем море.
Впрочем, после той памятной ночи, хвала Вечному, приключений не было — кроме ветхой сумы, старенькой лютни и песен, нечего взять с менестреля, а песни нынче не в цене. Пару раз, правда, посматривали искоса на лошадку, прикидывали, но я улыбался, поглаживая замок арбалета, и мужички поспешно отводили глаза — эти зверушки наглеют только в стае…
Спасибо им, что не довели до греха, — сеичас я готов убивать без предупреждения.
После пережитого в «Тихом приюте» Олла не выходит из комы. Ее глазки все время полузакрыты, и я не знаю, видит ли она что-нибудь, а о гипнозе не может быть и речи после свежего опыта с аборженом. Я даю ей густые протертые соки, которыми щедро снабдил нас умница Тайво; девочка глотает. Еще она дышит. Это и все признаки жизни.
— В Калуму, сеньор, — сказал Тайво, сочувственно глядя на меня, измотанного дозелена. — В Калуму, и поскорее!
— Неужели нет ничего ближе?
— Если девочке еще можно помочь, так только там, — Тощий был очень серьезен. — Ручаюсь, ее примет сам Преосвященный Шеломбо.
Это имя трактирщик произнес с придыханием, но мне было не до того.
— Калума так Калума, — кивнул я.
Тайво, храни его Вечный, взял на себя практически все хлопоты по сборам и маскировке, предусмотрел все мыслимые случайности, подробнейше объяснил дорогу. От меня было мало проку: я корчился от бешенства и бессильной ненависти, жалея, что давешние бандиты сдохли слишком легко. Подумать только, ведь Олла уже шла на поправку! Улыбалась, глядела ясно и внимательно, возилась с Буллу… Но даже и в том, близком к помешательству, состоянии до меня все-таки дошло: нет худа без добра, ведь все равно девчонку надо где-то пристроить, не тащить же ее с собой в ставку кибера…
А лучше Калумы, судя по смутным намекам Тайво, места не сыщешь.
Только рекомендательного письма не дал нам хозяин, туманно пояснив:
— Этого не надо, там и так будут ждать.
Жаль было двух с половиной суток пути, но что поделаешь! Да и промелькнули они на диво быстро. Уже к полудню замаячила вдали двойная вершина, вся в белых и цветных лоскутах — эту красоту ни с чем не спутаешь, раз сто, если не больше, любовался я ею, просматривая архивные видеоотчеты, да и Тайво, объясняя дорогу, поминал калумские купола и пагоды, замирая от восторга.
Но по мере приближения открывалась нижняя треть холма, и ни на стереокадрах, ни в рассказах Тайво не была она такой — черно-серой, усыпанной струпьями пепла и гари, словно траурной лентой опоясалась Священная Гора…
Впрочем, как и обещал Тайво, у подножия нас встречали — вернее, встречал высокий сухощавый жрец в желтой тоге, а двое одноусых крепышей в коротких туниках и шестерка щитоносцев с длинными копьями стояли поодаль, дожидаясь распоряжений.
— Мы ждали вас, — торжественно произнес жрец. Я и не сомневался: гильдия трактирщиков, чтя Вечного, не забывает и старых богов; ее финансовые и прочие связи с Калумой весьма прочны, а следовательно, рекомендации Тайво Тощего, члена совета старейшин гильдии, здесь имеют вес. Однако быстро прошла информация, не иначе, Тайво послал почтовую птицу.
— Следуйте за мной, — продолжал жрец. — За лошадью приглядят.
И я пошел за ним — вперед и вверх, сквозь пожарище, — перешагивая через обломки мшистого гпанита. Их было много, чем дальше, тем больше. Одноусые несли на носилках Оллу, копьеносцы двигались по бокам, образовав плотное полукольцо.
Справа, между засыпанной обломками щебневой дорожкой, по которой шли мы, и сетчатыми воротами в таком же сетчатом заборе, окружающем полукруглый бассейн, виднелись обгорелые развалины некогда аккуратных домиков; я насчитал их с десяток.
У самой дорожки лежал обломок мраморной статуи, сорванной с закопченного пьедестала, — женский торс без головы, а голова лежала шагах в трех в стороне, облепленная мокрой землей, лицом к небу.
— Благая Лагаль, дарующая любовь, да святится имя ее, — не оборачиваясь, пояснил идущий впереди. — Приспешники Ллана, будь проклято имя ересиарха, называют ее прислужницей порока. А вот здесь… — он указал на огромную груду обломков, — стояла обитель Вийюла Целителя, да святится имя его.
Судя по стене, торчащей из пепелища, в обители было не менее трех этажей. В груде щебня копались пожилой, совершенно седой мужчина и двое мальчишек, лет восьми—десяти, грязные, с ног до головы перепачканные землей и сажей. Мужчина, медленно и аккуратно орудуя маленькой лопаткой, время от времени извлекал из-под завала крохотные пузатые сосуды — красные, синие, белые, благоговейно прикасался к ним губами и передавал мальчишкам. Те молча обтирали кувшинчики и пиалушки тряпьем и бережно складывали их в низкий деревянный сундучок без крышки; два сундучка, уже заполненные до отказа, стояли чуть в стороне. Но гораздо чаще попадались разбитые сосуды, и седой мужчина равнодушно отбрасывал их.
Лица всех троих, и взрослого, и мальчишек, были тупо-отрешенны.
Я шагнул было к ним, но идущий впереди вытянул руку, преграждая мне путь.
— Не надо, — сказал он, понизив голос. — Сейчас он никто, но еще неделю назад он был великим посвященным. Он повел младших сыновей к источнику кормить священных змей и ничего не знал, пока не вернулся, а изверги подожгли обитель, а тех, кто пытался спастись, убивали стрелами. Теперь он копает, и днем, и ночью; он говорит, что если сумеет найти тысячу тысяч целых сосудов, благой Вийюл, да святится имя его, вернет ему семью… — Голос проводника дрогнул. — Здесь были больница и странноприимный дом. Всегда очень много паломников, а сейчас еще и беженцы. Никто не думал, что мятежники налетят на Калуму. А они налетели. Теперь все, кто был в обители, — здесь… — он ткнул пальцем в сторону развалин. — Никто не знает, сколько душ погибло. А раскапывать некому. Вот только он со своей лопаткой… — Короткое молчание. — Однако поспешим. Преосвященный не может ждать.
Склон становился все круче.
Как на ладони видна была вся Нижняя Калума, прибежище мелких божков, ничтожных перед ликом Вечного, но снисходительно терпимых Им, ибо Он слишком велик, чтобы помогать в повседневных нуждах простонародью — а кто-то ведь должен помогать, ибо и простонародье достойно заботы свыше. Примерно так объясняют процветание Священной Горы, официально срытой с лица земли полвека назад, розовощекие богословы, протирающие рясы в кабинетах имперской канцелярии. Доказывать недоказуемое — их работа, к слову сказать, весьма высокооплачиваемая, и они с ней неплохо справляются, судя по сорока томам трактата «О непротиворечии множественностей единству», книжищи темной й заумной, однако однозначно позволяющей светским властям смотреть сквозь пальцы на существование капища, что светские власти с удовольствием и делают — в ублаготворение того же простонародья, упорно желающего веровать в стародавних божков, а еще больше — по причине обильной дани, ежегодно привозимой отсюда.
Такая вот диалектика.
Сейчас на месте Нижней Калумы — черное пепелище; пристанища знахарей, провидцев, заклинателей выжжены дотла; головорезы Багряного полагают излишним чтить кого-либо, кроме Вечного…
Но чем выше поднимались мы по взгорку, тем меньше попадалось развалин — налетчиков было немного, и они, испепелив подножие холма, не решились углубляться в узенькие переулки Калумы Верхней. Из краснокаменных, наполовину утопленных в землю домиков навстречу нам выходили старики в черных широких шароварах, зауженных на щиколотке, в черных куртках, перепоясанных толстыми жгутами; головы старцев были укутаны белыми повязками. Почти все они опирались на высокие посохи и почти все были согбенны. Они выходили, нетвердо держась на слабых ногах, шаркая по гравию туфлями с острыми, лихо загнутыми вверх носками и без задников, они останавливались на обочине дорожки, безмолвно рассматривая нас, и выцветшие от возраста глаза их были бесстрастны.
Молчальники.
Тайво рассказывал о них. Они будут молиться за Оллу, когда Преосвященный даст знак, и старые боги Брдоквы не смогут не отозваться на их мольбу.
Уж скорей бы он дал этот знак!
…Странное творится со мной с той самой ночи в «Тихом приюте». Меня трясет от нетерпения, как гончую, взявшую след. Хотя какой, к лешему, след — я до сих пор даже приблизительно не знаю, с какой стороны подступиться к исполнению. А дни уходят один за другим. Нельзя не пристроить Оллу, нельзя не выполнить задание…
Невроз у меня, однако. Реактивный. Скорее всего на фоне незавершенного курса профилактики и постоянного недосыпания. Главврач был прав. И ведь всего две недели с небольшим длится эта гонка. Если так дальше пойдет, та рухлядь, что от меня останется, вряд ли сумеет управиться с другой рухлядью, именуемой в документации объектом «Айвенго».
Поразительно, но только сейчас я отдаю себе полный, трезвый отчет в своем состоянии. Стою у входа в пещеру, куда несколько минут назад внесли Оллу, пялюсь на причудливый орнамент и жду.
Опять жду.
Ждать и догонять — ну и работенка мне досталась…
— Тебя зовут, человек, — жрец в желтой тоге легонько касается моего плеча; кажется, он изрядно удивлен. — Иди.
И я вхожу.
Вернее, пробираюсь, согнувшись в три погибели — лаз слишком низок, войти не наклоняясь по силам разве что карлику; маленькая хитрость, известная и у нас, на Земле: любой посетитель, даже не желая того, склонит голову.
Пещера пуста.
Против входа, спиной к темной нише и лицом ко мне, сидит на возвышении, закрыв глаза, выпрямив плечи, скрестив ноги и положив тонкие руки на острые колени, голый бронзовый идол. Перед возвышением на носилках — все так же неподвижно, полузакрыв глаза, — лежит Олла. В пещере довольно светло, хотя ни окон, ни светильников нет; скорее всего за спиной истукана спрятан гнилушечник, причем не простой: он источает яркий, трепещущий, какой-то живой свет.
Кажется, мне снова предлагают подождать.
Ждать не придется.
Глубокая, четко вербализованная звуковая телепатема; приятно низковатый голос звучит внутри головы, в височных ее частях. На всю Землю мастеров телепатической вербализации, хоть звуковой, хоть визуальной, — наперечет, и все они — уникумы, продукты целенаправленной селекции, невероятного стечения обстоятельств, достижений генной инженерии и воздействия бог весть еще какого количества самых разнообразных факторов. Но даже лучшие из них не способны на подобное…
Сосредоточься, Идущий По Следу, у нас мало времени…
Свечение делается ярче, теплее, его переливы обретают четкий ритм.
Пытаюсь собраться. В конце концов, мы тоже не только пальцем деланы, кое-каким азам обучались; главное — поймать волну собеседника, нащупать его самого, показать, что со мной надо говорить на равных…
Я очень стараюсь.
Но ничего не выходит.
Чужая воля обволакивает меня мягким непробиваемым коконом.
Унизительно ощущать себя букашкой под микроскопом. Но букашке легче — она по крайней мере не осознает своего ничтожества.
Все ничтожны перед лицом Вечности, но каждый вправе возвыситься и быть замеченным Ею, заплатив положенную цену. Прозрев, я лишил себя глаз, чтобы не мешали видеть. Обретя слух, я залил уши смолой, чтобы не мешали слышать. Удостоившись дара говорить, я отсек ставший ненужным язык.
Мне вдруг делается легче. Перестала ныть спина, и пружина, которой я был все эти дни, ослабла. Зато где-то вдалеке опять загудел проклятый колокол…
Бом-м-м…
Меня взламывают без спросу и жалости, как я — несчастного братка в трактире…
Тебе больно? Прости. Так надо.
Розово-золотое марево касается воскового личика Оллы.
Душа ребенка бродит во тьме. Молчальники Калу-мы в силах вернуть ее к свету, но это тяжкий и долгий труд, а глупцы, отрицающие множественность единства, скоро придут опять. Пусть Арбих дан-Лал-ла поможет ребенку выйти из мрака…
Колокол замирает.
А потом…
Нет, я не знаю, как назвать то, что было потом.
Исчезло все; кокон обернулся мягким, слабо мерцающим туманом, растворившим меня без остатка.
Я оставался собою, но одновременно стал и частью всего окружающего, мельчайшей, но неотъемлемой частицей здешнего мира.
Я был молекулой Вечного, который (как, оказывается, просто!) суть бесконечное единство множеств — и ничего более.
Я был песчинкой обреченной Калумы, но мне не было страшно, потому что смерть (разве непонятно?) — всего лишь преддверие новой жизни.
Я — был.
И Шеломбо — жрец ли, достигший последнего предела святости и перешагнувший этот предел, или божество, воплощенное в ревностном служителе своем, — говорил со мной, спрашивал и сам отвечал на мои вопросы; он понимал, что я — чужой в его мире, но не отвергал меня, чужака; он ощущал, что я принес в его мир беду, но не осуждал, а жалел, как не осуждал, а жалел глупцов, обрекших Калуму огню и мечу; он знал, что я, пусть и помимо собственной воли, опасен для его мира, но не желал — хотя и мог! — останавливать меня, а только просил, и снова, и вновь, и опять заклинал: не навреди!
Тысячи, сотни тысяч, миллионы разноцветных нитей пронизывали пелену тумана, сплетаясь в видения — яркие, живые.
Вот — алтарь; губастый кряжистый молодец, одетый богато, но вызывающе вульгарно, браво выкатив грудь, бережно поддерживает под руку щупленькую девушку в подвенечном платье; лицо невесты скрыто тончайшим покрывалом; легкий ветерок, налетев, откидывает вуаль — и я вижу: это Олла; она совсем не повзрослела, и в глазах ее все та же пустота, но щеки румяны, а на губах играет загадочная улыбка…
Вот — бескрайняя равнина, пропитанная кровью и потом; трава истоптана ногами дерущихся людей; битва длится уже много часов, воины рвут и режут друг друга в бессмысленном азарте убийства; на холме развевается огромный, алый с золотом стяг, а к холму неторопливой рысью движется конница; впереди, под голубым вымпелом, всадник в пластинчатой броне, без шлема; он оборачивается — и я вижу: это тот самый, губастый и кряжистый, только сейчас на лице его не сытая радость, а отчаянная решимость и с трудом скрываемый страх…
Вот — узкая улочка, зеленый садик, квадратная темная дверь, украшенная массивным медным трезубцем; крыльцо в три ступеньки, тесный коридор, еще одна дверь, тоже с трезубцем; крохотный кабинетик — почти келья, тяжелый стол, заваленный свитками и книгами в кожаных переплетах; посреди комнатки стоит, переминаясь с ноги на ногу, некто большой, кряжистый; он глядит исподлобья на сидящего за столом, а тот пишет себе и пишет, не обращая внимания ни на что; но вот наконец откладывает перо, надтреснуто кашляет, поднимает голову — и я вижу…
Нет.
Я не вижу.
Россыпь молний рассекает туман, рвет его — рвет меня! — на куски, на клочья, на части, и я опять становлюсь самим собой, только собой; это невероятно больно, но еще больнее — чувствовать, что все увиденное рассыпается, исчезает, уходит прочь; я не хочу забывать… не хочу… не хочу…
Но я теперь — всего лишь я, не больше того.
Обрывки цветного тумана плывут вокруг, мешают видеть; протираю глаза, и радужные круги постепенно выцветают.
В голове полнейшая, гулкая тишина.
Из черной ниши в глубине пещеры тянет волглой сыростью.
Напротив меня — плохо различимый во мгле — голый бронзовый идол, холодный, безжизненный и равнодушный.
Я выхожу.
Вокруг меня — небо.
Светло-серое, чуть-чуть подкрашенное розовым.
Сколько же я пробыл в пещере — неужели весь вечер и всю ночь?
Жрец и его свита — на тех же местах, в тех же позах, что и вчера; можно биться об заклад, что они никуда и не уходили.
Всколыхнув складки желтой тоги, чуть приподнимается тонкая рука; подчиняясь знаку, один из клейменых протискивается в лаз и, несколько мгновений спустя, выводит из пещеры Оллу. Девочка идет словно бы в полусне, глаза ее по-прежнему закрыты, но на ногах она держится твердо.
— Твоя лошадь отдохнула и накормлена, — бесстрастно говорит жрец. — Поторопись; тебе надлежит покинуть Калуму до восхода.
— Послушай, достойнейший…
Я не собираюсь возражать. Я просто хочу напомнить, что я хотя и не лошадь, но все же не меньше счастливчика Буллу нуждаюсь в отдыхе и еде. Но жрец прерывает меня; кажется, он тоже мастак читать мысли, хотя до Шеломбо ему далеко…
— Провизия в повозке. Отдыха не будет. Ты покидаешь Калуму сейчас же. Такова воля Преосвященного.
Желтые складки идут волнами; длинный палец с ухоженным желтым ногтем указывает туда, где розовое, понемногу сгущаясь, становится алым.
— Развилка у седьмого знака-камня. Свернешь налево, а потом держи прямо, никуда не сворачивая. Еще до полудня вы будете на тракте, и да хранит вас Вечность.
…Он ошибся в одном: не до полудня, а спустя битых два часа после того, как солнце вошло в зенит, услышал я негромкий, ровный гул, похожий на шум морского прилива, а потом Буллу обогнул заросший кустарником взгорбок, и тропа растворилась в потоке телег и людей, бесконечной лентой двигавшихся по тракту. Повозки шли медленно, почти впритык — тяжелые фуры, запряженные круторогими волами, щегольские двуколки, похожие на древние земные ландо, дряхлые шарабаны с выцветшими гербами на дверцах, сколоченные на скорую руку волокуши. Вереницей брели караваны мулов, лошадей и осликов, навьюченных грудами рухляди, рядом шли усталые люди, нагруженные не легче животных — узлами с тряпьем и всякой домашней утварью, полосатыми матрасами, кипами одеял, подушками. Узлы были всюду — на повозках, на крышах карет, на тележках, на спинах мулов, осликов, лошадей. На узлах, держась за веревки, сидели старики и старухи, грязные, покрытые пылью, застывшие, безучастные ко всему. К ним жались перепуганные дети, захватившие с собой самое дорогое — старую куклу, клетку с синей птичкой, лопоухого толстого щенка, отчаянно мяукающее нечто, похожее на гривастую кошку. Старик благородного вида в помятом бархатном берете набекрень сидел, обняв горшок с полутораметровым кактусом, чуть поодаль седой мул с трудом волочил такую же седую старуху, прижавшую к груди огромный медный котел, и надраенные до блеска бока посудины отражали лучи утреннего солнца. Подростки вели под уздцы мелкую живность, впрягшись в лямки, вместе со взрослыми тащили волокуши, помогая изнуренным животным.
А по обочинам шли те, у кого не было ни повозки, ни ослика, ни денег, чтобы уплатить за право уложить хоть что-то на чужую телегу, шли целые семьи — по пятнадцать—двадцать человек, старики и старухи, отцы и матери семейств, молодые парни, девушки, подростки. Одни тащили на себе необъятные вьюки, другие несли на плечах хнычущих малышей.
Медленно, обгоняемая всеми, рядом с нами прошла семья с коровой. Пожилую буренку вел на веревке, привязанной к рогам, селянин лет шестидесяти; старуха, семеня рядом, на чем-то громко настаивала, а он, упрямо не соглашаясь, мотал кудлатой головой. Корова выступала медленно, торжественно, и вся семья — человек пятнадцать обоего пола и всех возрастов — приноравливалась к ее шагам. Чумазые малыши на плечах старших братьев и сестер пугливо озирались по сторонам.
Тучи пыли, пропитанные нескончаемым криком, клубились над трактом…
— Люди, люди! Смотрите! — раздался истерический женский визг, перекрывший всеобщий гомон.
В безоблачном, ослепительно ярком небе зависла, слегка извиваясь, тоненькая, быстро наливающаяся чернью вуаль. Она разворачивалась, затягивая небосвод, и спустя несколько минут солнце пригасло, превратилось в тусклый, мертво-белесый круг, и ветер обжег ноздри мельчайшими крупинками гари.
— Калума? — негромко, словно не в силах поверить, спросил кто-то.
И вдруг сквозь серую пелену прорвались тяжелые, смоляно-черные тучи, медленно расползающиеся по горизонту.
Движение замерло. Поток беженцев словно споткнулся, наткнувшись на непреодолимую преграду; люди, оцепенев, всматривались вдаль. Потом все загудело, закричало, заревело в едином хоре ужаса и отчаяния. Бросая узлы, спрыгивая с повозок, люди падали на колени, воздевали руки к небесам. Бились в постромках лошади, надрывно ревели волы, обезумев, рвались куда-то ослики…
Встрепенулся и Буллу.
Взвизгнул, дернулся, пытаясь встать на дыбы.
До отказа натянув вожжи, я левой рукой набросил на гривастую голову плащ, и лошадка успокоилась.
А толпа бесновалась еще долго.
Не час и не два пришлось ждать нам, пока люди, отрыдав, стали понемногу приходить в себя, пока вспомнили, что нужно жить дальше и нужно идти дальше; пока переловили и утихомирили разбежавшуюся скотину, пока собрали вывалившийся из вьюков, запыленный, потоптанный десятками ног и копыт скарб…
Когда же серая слипшаяся масса вновь поползла вперед, я хлестнул Буллу нагайкой — и мы влились в поток, бесследно растворившись в нем.
Потом нас догнала ночь.
Люди располагались здесь же, посреди тракта и на обочинах, перекусывали, запивая скудную снедь водой из придорожных колодцев, и падали вповалку, чтобы с рассветом вновь тронуться в путь; то и дело у крохотных костров вспыхивали перебранки; кто-то кому-то угрожал, кто-то плакал, где-то в отдалении истошно вопил ребенок — а я, как ни странно, заснул, накрутив на правое запястье поводья, а левой рукой обняв Оллу.
Прошел еще день, и еще ночь.
И еще сутки.
И еще.
А на четвертый день, ближе к полудню, людская река замерла у перекрестка. Перерезав тракт, шла по торной дороге конница, шла, вздымая мелкую пыль, бряцая стременами; плечо к плечу, по восемь в ряду двигались всадники — молча, торжественно. Лиц не было видно под опущенными забралами, и только плащи слегка колыхались в такт мерному конскому шагу.
Фиолетовые плащи с белыми и золотыми языками пламени. И фиолетовое знамя реяло над бесконечной колонной.
— Орден! — вздохнул кто-то, накрепко притертый ко мне толпой. — Они… они все-таки покинули Юг… Хвала Вечному!
Он попытался высвободить руку для знамения, но, не сумев, всхлипнул и срывающимся голосом забормотал благодарственную молитву. Ее подхватили стоящие рядом; тягучий, торжественный речитатив расползся по толпе.
А конница шла…
ЭККА ВОСЬМАЯ, не без оснований утверждающая, что нет в мире ничего выше Справедливости, которая не знает исключений
Что есть на свете страшнее обиды людской?
Ничего.
Иное дело, что лишь глупец станет обижаться на родителей своих: зачем-де меня зачали таким, как есть? Жизнь она и есть жизнь; не с кого спрашивать — напротив, с тебя самого спросят, когда отживешь и вернешься туда, откуда пришел…
Вот так и живут — не спрашивая, ни вверх лишний раз не всматриваясь, ни назад не оглядываясь, от первого дня до последнего часа. Да и мало кто пожелает оглянуться; многим хватает доли, определенной еще до рождения. Кто вилланышем родился, так вилланом и помрет… ну, а сеньорский наследник и в старости останется сеньором. Так уж заведено в мире: у каждого на плечах лежит свой камень и каждый в одиночку бедует свою беду, а счастливых нет.
Кто красив, считает морщинки да сединки. Кто богат, жаждет иметь больше и больше, если же больше некуда — чахнет и сохнет преждевременно, трясясь над коваными сундуками. Кто близок к владыкам, трепещет, опасаясь опалы, но и сами владыки не спят по ночам, вслушиваясь во тьму: не слышны ль шаги убийцы?
Трус боится смерти, герой — бесчестия.
И даже исполненный мудрости страшится пустоты.
Но это все дано свыше; оспаривай не оспаривай — не будет толку. А если слишком уж упрям да боек, тогда жди смерти: будет тебе час, перед Вечным представ, высказать ему, Сотворившему Все, свою обиду. Авось на чем и поладите…
Земная же неправда — совсем иное дело; свербит она обидой нуднее любой язвы и жжется больней раскаленного железа; ведь не свыше она ниспослана, а людьми выдумана, ими, проклятыми, установлена, силой утверждена и пером в хартии вписана.
А раз так — ее следует упразднить. Ибо когда Вечный клал кирпичи, а Светлые месили раствор, — кто тогда был сеньором?
Вслушайся — и услышишь!
Раньше за такие слова бичевали прилюдно, да не плеткой ласковой, а убийцей кнутом, совсем еще недавно за такие речи прижигали лоб казенным клеймом и ссылали в рудники, а то и хуже, на галерную каторгу, а ныне — слушай-слушай! — вещает о том, уже не запретном, каждое Древо Справедливости.
Вкрадчиво шелестит его листва, увитая алыми лентами, манит, зовет, завораживает.
Ныне в каждой деревне, в каждом местечке, да и в городских посадах, захлестнутых великим мятежом, волнуются на ветру такие деревья, от земли до кроны выкрашенные радостным багрянцем, как было заведено в дни Старых Королей, и под сенью густых шепчущихся ветвей раз в семь дней собираются старейшины, избранные свободной сходкой, а сойдясь, соединяют влюбленных, и прекращают мелкие споры, и, досконально обсудив дела насущные, творят именем Вечного скорый суд, обеляя невинных, примиряя заблудших и карая злобствующих.
Сколько их ныне, Деревьев Справедливости?
Разве что ветру, гуляке из гуляк, под силу сосчитать…
Но не до того ветру. Ему, любопытному, и без этого есть на что поглазеть.
Пламенем охваченная, корчится Империя.
Горит, дымит, трещит искрами опадающих башен Север; там, в болотистых урочищах Тон-Далая, еще дерутся, удерживая немногие уцелевшие замки, беловолосые сеньоры, но без подмоги едва ли смогут устоять северяне.
Липкой сажей измазан обугленный Восток; он уже полностью в руках ратников Багряного, и некому там заглушить негромкий шелест ветвей Древа Справедливости.
Во всю силу гудит пал и на лесистом Западе.
Лишь южные земли, домен Вечного Лика, пока еще молчат; в тех дальних, у рубежа Великой Пустоши лежащих краях сгорблены плечи у людей и безнадежны взгляды, ибо суров закон Ордена, крепка рука магистра и коротка расправа братьев-рыцарей в фиолетовых плащах…
Но и там хрупка тишина: что ни день, уходят из ставки короля по южным тропам незаметные люди с серыми, расплывчатыми лицами. Уходят, чтобы стучаться в дома южан и спрашивать у встречных: кто же был сеньором, когда Вечный клал кирпичи? Они поют в час казни и, смеясь, плюют в священное пламя.
А значит, недолго осталось ждать Югу.
Скоро полыхнет и там.
…Шелестит листва.
Шепчет нечто, неясное грубому людскому слуху, словно пытается подсказывать Ллану верные решение. Но Ллан редко прислушивается к советам раскидистой кроны. Что понимают листья в делах человеческих, даже если это — листья Древа Справедливости?
Третий, последний из отмеренных для отдыха дней стоит в семи милях от долины Гуш-Сайбо, готовясь к последнему броску, войско Багряного. Рукой подать от этих мест до стен Новой Столицы, где, по слухам, уже собрались для последнего боя дружины сеньоров. Приди королевское воинство сюда месяца два, даже и полтора тому, столица была бы взята с ходу, ибо некому было ее защищать.
Но Вудри Степняк, первый воевода, сказал на Совете: велико наше войско, но не так велико, как следовало бы, и почти не обучено оно. Нельзя идти на столицу; пройдем по землям, закалим людей в мелких стычках, дадим отважным набраться опыта, а робким — наполнить сердца отвагой. Сеньоры же, добавил первый воевода, пускай стягивают силы в кулак; одним ударом и покончим с ними!
Так сказал на Совете Вудри Степняк, и никто не возразил, ибо среди всех вождей не было ни единого, превосходящего первого воеводу воинским опытом; Багряный же, как всегда, молча, подождав миг-другой, но не дождавшись иных мнений, кивнул головою: быть по сему!
И стало по сему.
Серебристо-серой змеей растянувшись вдоль дорог, тремя колоннами проползло по стране мятежное войско, вырастая и вырастая с каждой милей, высасывая мужиков из деревень и предместий, сглатывая замки и оставляя за собою их обглоданную, надтреснутую каменную шелуху. И вот: остановилось в трех переходах от Новой Столицы. Свилось в клубок, навивая все новые и новые кольца трех подтягивающихся к голове хвостов.
Люди отдыхают.
Они рады лишнему часу без отягчающего тело железа. Иные спят, плотно завернув голову в домотканые куртки; дерюга, она хоть и не сукно, а от лагерного шума отгораживает не хуже сукна; другие кидают кости, хохоча при добром броске и яростно бранясь при неудачах; кое-кто, сторожко оглядываясь по сторонам, пускает по кругу флягу с огнянкой. Взвизгивают дудки, всхлипывают нестройные песни; они тоскливы, как вилланская жизнь, а новых, повеселее, еще не успели сложить певцы.
Вместе со своими бойцами, у тех же костров — вожаки пехотных сотен.
Тысячники же — отдельно, в высоких шатрах, разбитых не наспех, а умело, с толком и пониманием. Как и вожаки всадников. Уж им-то, несокрушимым, дозволено многое, и нет им нужды прятать огнянку. Больше того: сотникам конницы разрешено и владение пленницами — одной на троих. Но немногие пользуются своим правом. Ибо снуют по лагерю неприметные люди с серыми, незапоминающимися лицами: они видят и слышат все, а приметив несовместимое с Великой Правдой, доносят Высшему Судии, чья память крепка, воля тверда, а суд беспощаден. Кому охота зазря расставаться с пернатым шлемом и идти в следующую битву застрельщиком, да еще среди пехтуры?
Отдыхают воины Правды.
Но не все. Нет, далеко не все.
Под шелестящей листвой стоит простой табурет, сбитый из неструганых деревяшек. Неустойчив, непрочен. Вот-вот, треснув, рассыплется. Хоть и легко, почти невесомо иссушенное постами тело Ллана, зато неизмеримо тяжела воля, обремененная долгом решать судьбы людей…
— Боббо, Орлиный отряд…
На коленях перед Лланом вихрастый веснушчатый паренек, скорее всего недавний подпасок. Одутловатое лицо помято, глаза беспомощно моргают; он ничего не может понять; он вертит головой и дергает плечами, пытаясь хоть немного ослабить веревки, жестко скручивающие запястья.
— Взят пьяным на посту. Прятал две фляги огнянки, — добавляет соглядатай.
Ллан пристально вглядывается в голубизну выпученных глаз. Совсем молод Боббо, можно сказать, почти дитя. Великое прегрешение допустил, а ведь наверняка и не ведал, что творит. За огнянку на первый раз полагается порка. Но прятал же, а не пил. И сразу две фляги, а не одну. Значит, готов был и других к прегрешенью склонить?..
Огорченно покачав головой, Ллан указывает налево, туда, где чернеет вырытая на рассвете глубокая яма. Духом свежеразбуженной земли тянет из глубины.
— Пошел, пошел, сынок, — поторапливает страж. — Не задерживайся!
Боббо, словно не понимая, что сказано Высшим Судией, послушно плетется к краю ямы, и стражники, жалея паренька, не подталкивают его древками. Пьянчужку подводят и пинком сбрасывают вниз, к другим связанным и стонущим.
А к Ллану ведут нового, уже которого за этот долгий день.
— Зимбру, Алая сотня! Преклонил колени перед истуканом Вийюла…
Взмах рукой: в яму!
— Ариментари, Белая сотня! Трижды помянул Вечного всуе…
В яму!
— Йаанаан! Отряд Второго Светлого…
Этот худ, жилист, чернобород, кожа отливает синевой. Южанин. Один из немногих пока что южан, откликнувшихся на зов короля. Руки сильные, жилистые. Глаза злые, бестрепетные. Это — боец. Такими не разбрасываются попусту.
— Каково нарушение?
— Сообщено: хранит золото. Проверкою подтвердилось!
Вот как?
Не раздумывая, Ллан кивает в сторону ямы. Йаанаан не желторотый Боббо: даже связанный, он рычит и упирается, трем дюжим стражникам с трудом удается утихомирить его и, брыкающегося, рычащего, косящего налитыми мутной кровью глазами, сбросить вниз.
— Давай следующего, — командует старшой, потирая ушибленную челюсть.
На коленях — пожилой, немужицкого вида. Морщины мелкой сеткой вокруг глаз; чистая, тонкой ткани куртка с аккуратными пятнышками штопки. Не иначе, из городских. Брови Ллана сдвигаются, глаза подергивает иней. Высший Судия не любит горожан, даже и «худых». Все они — питомцы каменных клеток. Все — отравлены гнилью. Из каменных, обнесенных стенами клоак вышло все зло: тисненое и кованое, стеганое и струганое. А правда не в роскоши. Правда проста и понятна, она в честном труде и бесхитростной доброте. Деревня-мать проживет без городских штук, вертепам же без нее не протянуть и года. Все, живущие за стенами, предатели, отказавшиеся от матери. А тот, кто предал мать, предаст любого…
— Даль-Даэль! Писарь Пятой сотни… Так и есть. Из этих.
— Отпустил сеньорского щенка. Пойман с поличным!
Рядом с писарем — мальчишка в вышитых лохмотьях.
Скручен до синевы. Всхлипывает.
Короткий взмах худой руки. Даль-Даэль падает ничком и тянется губами к прикрытым драными полами рясы сандалиям Ллана.
— Пощади, отец… Я не мог… У меня самого дети…
Сквозь плачущего преступника смотрят расширенные глаза Высшего, на сухом, туго обтянутом кожей лице — недоумение. Почему не в яме? — одним взглядом спрашивает он, и темная пахучая земля принимает визжащее.
— Цфати, отряд Второго Светлого! Прилюдно усомнился в милосердии Высшего Судии…
Ллан слегка вздрагивает.
Цфати смотрит ему прямо в глаза; он, кажется, приготовился к самому худшему, но в сердце его нет страха; у Цфати исхудалые щеки, высокий, изрытый морщинами лоб и ясный взор искателя истины, готового умереть за нее и в смерти — победить.
— Да! Тебе в лицо повторяю, Ллан: ты не кроток, не милосерден, и суд твой неугоден Вечному! — громко говорит Цфати и расправляет плечи. — А теперь — убивай! Я готов!
Но Высший Судия не спешит подавать знак беззаветным, совсем наоборот…
— Цфати, Цфати, — сокрушенно качает он головой, — ты горяч и тороплив, а горячность — враг разума. Грязь есть грязь, а чистота есть чистота; если грязи немного, значит ли это, что ее не следует выметать?
Смельчак молчит. Ему нечего сказать в ответ.
— Друг мой, — голос Судии мягок и укоризнен, — Вечный свидетель, никто не был наказан мною безвинно; если хочешь оспорить, назови хотя бы одно имя!
Цфати опускает глаза. Да, без вины Ллан не карает никогда. Но…
— Согласись, Цфати, — лукаво прищуривается Ллан, — что даже сеньор, живущий праведно, заслуживает снисхождения большего, нежели праведник, впавший в грех…
Впалые щеки правдолюбца жалко подрагивают.
Он сокрушен в прах, он раздавлен, он не способен возразить.
Всем ведомо: охранную грамоту с багряной печатью послал отец Ллан Арбиху дан-Лалла, известному добрыми делами, а ведь Арбих богат и знатен…
— Уведите его, — приказывает Высший Судия. — Восемь ударов плетью ему и три дня строгого поста. Кто там еще?