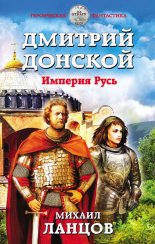Глаза Рембрандта Шама Саймон
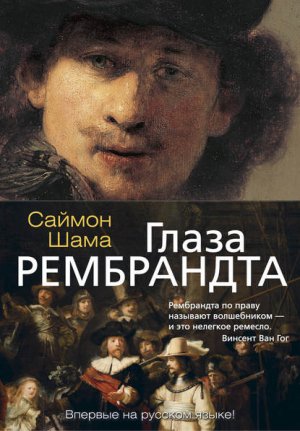
Спустя два года, в июле 1584-го, когда Вильгельм наконец смирился с тем, что Фландрия и Брабант (включая его родной город Бреду) завоеваны испанскими войсками под командованием Алессандро Фарнезе, и перенес свою штаб-квартиру в скромный бывший монастырь в Дельфте, краснодеревщик Бальтазар Жерар разрядил в принца два пистолета, когда тот спускался по лестнице из своей опочивальни. Поскольку Жерар снизу целился в сходящего по ступеням принца, пули пробили Вильгельму желудок, а потом легкие навылет и вышли из его тела, вонзившись в оштукатуренную стену. «Господи, смилуйся над моей душой и над этим несчастным народом», – были его последние отчетливо различимые слова, хотя, когда его спросили, покидает ли он сей мир, вверив себя Христу, умирающий лишь едва слышно ответил: «Да». Жерар был схвачен на территории дворца Принсенхоф, когда пытался перебраться через стену дворцового сада. При нем обнаружили только два пузыря, которые он намеревался надуть, чтобы переправиться вплавь через окружающий сад канал.
Спустя три года, 1 марта 1587 года, Ян Рубенс умер в своей постели в большом доме в Кёльне. По-видимому, перед своей последней болезнью он пережил какой-то духовный перелом или, возможно, по-настоящему нуждался в отпущении грехов. Он опять принял католичество. Вновь сделавшийся честным человеком и даже уважаемым гражданином, он был погребен в церкви Святого Петра. К этому времени его жена Мария привыкла к скорби, хотя и не примирилась с ней. Трое из ее детей: Хендрик, Эмилия и Бартоломеус – скончались еще до смерти отца. Сколь тяжкое бремя несчастий она несла все эти годы, сколь мучительно переносила изгнание из родной страны, отлученная от родных ей людей, от веры отцов. Теперь ей пора было отправляться домой и, насколько возможно, возвращать утраченное.
Глава третья
Пьетро Паоло
Святые окружали ее всюду.
К 1587 году, когда Мария Рубенс вернулась в Антверпен, половина его населения исчезла, стотысячный город превратился в небольшой городок с пятьюдесятью тысячами жителей, словно над его кирпичными домами с остроконечными крышами пронеслось моровое поветрие. Солнечные лучи пробивались сквозь густой лес мачт, но корабли в порту уже давно стояли на приколе. Пыль густым слоем покрывала ткацкие станки и типографские печатные машины. Скамьи и набитые сеном мешки в тавернах частенько пустовали. Однако католические святые (не говоря уже об апостолах, Учителях и Отцах Церкви, мучениках, патриархах, отшельниках и мистиках) толпой повалили назад, занимая прежние места в нефах и в часовнях, на алтаре и на клиросе, претерпевающие муки и унижения на страницах житий и превозносимые на холсте. Среди них были святые, чтимые всей Церковью, особенно те, кого на Тридентском соборе провозгласили помощниками в борьбе с ересью и сомнениями. Из них самым популярным считался кающийся святой Франциск, смуглый и скорбный, готовый принять стигматы на скалистой вершине горы Верна. Однако не забыли и местных святых, которые пользовались любовью в тех странах, откуда происходили; их стали особенно почитать после того, как в 1583 году Иоганн Молан опубликовал официальный список нидерландских святых обоего пола, «Indiculus Sanctorum Belgii». В их числе выделялись блаженная дева Амальберга, тело которой, по преданию, доставил в Гент по реке косяк осетров, святая Вильгефортис (почитаемая в Англии под именем Анкамбер), окладистая борода которой уберегла ее от домогательств потенциальных насильников, но не от гнева отца-язычника, приказавшего обезглавить ее, невзирая на растительность на лице. Напротив, отец святой Димфны угрожал вступить с нею в кровосмесительный брак и неутомимо преследовал свою дочь-беглянку, а наконец настигнув во фламандской деревушке Гиль, повелел отрубить ей голову за исповедание христианства и непокорность. Впрочем, ей суждено было умереть смертью не столь ужасной, сколь та, что выпала на долю святой Тарбуле: ту, прежде чем распять, распилили надвое, а потом уже поневоле прибивали к двум крестам, тем самым обрекая на самое безобразное и страшное мученичество[94]. К тому же новое поколение католических живописцев, графиков и скульпторов не дрогнув изображало анатомические органы того или иного святого, в особенности подвергшиеся мукам: вырванный язык святого Ливина (брошенный псам, но чудесным образом вернувшийся в уста святого и как ни в чем не бывало продолживший осуждать его гонителей), отрезанные груди святой Агаты, глаза святой Луции (выколотые ею собственной рукой, дабы они не соблазняли влюбленного в нее язычника). Исчерпывающие и не скупящиеся на жуткие детали мартирологи, вроде «Анналов» («Annales») Барония и «Тайного архива мученичеств» («Sanctuarium Crucis») Биверия, гарантировали, что у иллюстраторов агиографических сочинений не будет недостатка в повергающих в трепет примерах. Контрреформация с ее обостренной щепетильностью запретила художникам изображать сомнительные чудеса, однако лубочные картины и статуэтки по-прежнему запечатлевали таких местных чудотворцев, как святой Трудон или добрая ведьма – святая Христина, прославившаяся чудесными исцелениями страждущих во время ночных полетов в небесах. А художники проявляли немалую изобретательность, изображая атрибуты святых и будучи уверены, что добрые католики, хорошо знакомые с печатными житиями, по отдельным подробностям вспомнят всю историю. Например, достаточно было показать Клару Монтефалькскую, с ее непременной принадлежностью – весами, чтобы верующие восстановили в памяти удивительное повествование о том, как после кончины святой в теле ее были обретены три шарика, каждый из которых весил столько же, сколько два других, вместе взятые. Чудесным образом перенесенные в ее мощи, они служили таинственным подтверждением неделимого единства Святой Троицы.
Но прежде всего благочестивый Антверпен был городом Марии, его оберегала ее тезка Святая Дева, дух которой все еще витал в стенах великого собора. Первое, что сделал Алессандро Фарнезе, захватив город в 1585 году, – это повелел убрать статую мифического основателя Антверпена Сильвия Брабона, возвышавшуюся перед городской ратушей, и заменить ее фигурой Девы Марии, попирающей змею ереси. (Он надеялся, что правоверные христиане правильно истолкуют попирание змеи как символ Непорочного зачатия и народная легенда будет зримо заменена христианским догматом.) Однако Мария Рубенс вновь увидит Богоматерь и в иных бесчисленных воплощениях, на гравюрах, на холсте, и никогда она не будет мстительной. Она представала верующим как Мария Заступница, Maria Mediatrix, обнажающая грудь пред Отцом Небесным, тогда как Сын Ее указывал на свои пронзенные ребра, и вместе они взывали к Богу Отцу, моля помиловать грешников. Передавая свои четки апостолам и святым (особенно святому Доминику), Дева Мария ниспосылала исцеление пораженным чумой. Бенедиктинцам и цистерцианцам, вернувшимся в свои монастыри, возможно, ближе была Мария Млекопитательница, всецело поглощенная священным «lactatio», поданием млека, с улыбкой изливающая сладкое млеко прямо в жаждущие уста святого Бернарда Клервоского, «медоточивого учителя»[95]. Иногда она представала Марией Непраздной, с чревом, налившимся, словно плод в августе, над коим властвует созвездие Дева, или Марией Скорбящей, смежившей очи, дабы не видеть, как с креста снимают тело Ее Сына, посеревшая (или пожелтевшая, или позеленевшая) плоть которого испещрена кровавыми каплями там, где была пронзена шипами. А иногда Ее изображали возносящейся на небеса, прямо в полете, подъявшей очи горе, облаченной в небесно-синие одеяния, или Марией во славе, восседающей на престоле: он был установлен на плотных облаках, а семь ангельских хоров (дирижерами которых выступали Софиил, Разиил, Матиил, Пелиил, Иофиил, Хамаил и Ханиил) пели ей осанну, устремив взоры на Ее осененное нимбом чело.
На самом деле несчастный обескровленный Антверпен нуждался в любом заступничестве, какое только мог получить. Не сумев вновь захватить северные провинции Нидерландов, Альба в 1575 году с позором вернулся в Испанию. Однако его уход не принес стране ожидаемого мира и благоденствия. Из-за банкротства испанской короны ее войска лишились денежного довольствия, а король Филипп внезапно проявил чрезмерную щепетильность в том, что касается грабежа, обычной замены нерегулярной и запаздывающей оплаты. Устав ждать и не получая ничего, кроме пустых обещаний, в 1576 году его солдаты во Фландрии взбунтовалось, решив силой овладеть тем, что, как они полагали, причитается им по праву. Будучи богатейшим городом Нидерландов, Антверпен, естественно, представлял для них идеальную цель и на три дня сделался жертвой безудержного насилия: сотни его жителей были убиты, тысячи подверглись нападениям, а их дома и мастерские – разграблению[96].
Поэтому неудивительно, что, когда летом следующего, 1577 года в город вступил Вильгельм Оранский, выжившие поначалу славословили его как спасителя. Одним из первых законодательных актов, изданных Вильгельмом после того, как он полностью взял под контроль Антверпен от имени Генеральных штатов, был указ, которым предписывалось снести все фортификационные сооружения Альбы, включая крепость, откуда испанский гарнизон совершал карательные экспедиции против местного населения. Не пройдет и двух лет, как Вильгельму придется восстановить эти укрепления, готовясь отразить очередной натиск испанцев, на сей раз возглавляемых новым командующим, проницательным и решительным Алессандро Фарнезе. В самом городе Вильгельм не пользовался всеобщим доверием и не вызывал безусловного восторга. Наиболее упрямые кальвинисты припоминали, как он колебался в 1567 году, когда они требовали собрать ополчение в помощь мятежникам за пределами города, и решили, что принц не прошел проверку на конфессиональную профпригодность. Вильгельм не без тревоги возражал, что теперь и он может назвать себя «calvus et Calvinista», «храбрым кальвинистом» (хотя в таком заявлении слышалась скорее покорность судьбе, нежели религиозный пыл), но протестантские священники не оценили его каламбур. Когда в 1581 году стало известно, что католики Бреды, родного города Вильгельма, открыли ворота испанцам, городской совет Антверпена, состоящий исключительно из протестантов, отбросил притворное стремление к религиозному миру, которое провозглашал прежде, и решил довершить начатое в 1566 году великое очищение. На сей раз оно было санкционировано официально и проводилось в строгом соответствии с предписаниями – никаких самозваных банд с молотками. Но результат оказался тот же. Картины и скульптуры, установленные в церквях по приказу Альбы после первой волны иконоборчества, были в свою очередь убраны, а стены вновь побелены. На угольно-черном фоне, там, где некогда взирала на верующих Святая Дева в своей неизреченной милости, вновь появилась надпись золотыми буквами по-древнееврейски и по-фламандски: «Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим».
Однако дважды побеленному Антверпену не суждено было остаться протестантским. В 1584 году, несомненно воодушевленный вестью об убийстве Вильгельма, Фарнезе вновь осадил город. Лишившись всякой надежды на спасение, антверпенцы промучились почти полтора года, но в конце концов, не выдержав голода, открыли ворота. Новый наместник, в детстве живший в Брюсселе и лишь потом получивший серьезное христианское воспитание в подлинных испанских традициях, не был столь мстителен, как Альба, однако тоже не отличался терпимостью. Под бдительным оком испанских советников он приказал сместить с постов всех протестантов. Заблудшим душам, отошедшим от истинной Церкви, было дано четыре года, чтобы вернуться в лоно ее или отправиться в изгнание. Последовал драматический исход, который стал одним из наиболее важных моментов европейской истории. Из Южных Нидерландов в северные свободные провинции Утрехтской унии перебралось не менее ста тысяч человек (включая тех, кто бежал от Альбы и его террора 1567 года), составивших переселенческое поколение Голландской республики. Судя по тому, что тридцать две тысячи, треть населения Антверпена середины века, покинули город в первые месяцы после его падения, до осени 1586 года, многие не видели смысла ждать, когда подойдет к концу назначенный Фарнезе срок[97].
Сохранить верность протестантизму оказалось нелегко. Однако религиозные преследования были не единственной причиной исхода. На протяжении поколений детям рассказывали, что город берет свое название от «handt-werp», отрубленной руки, брошенной в воды Шельды. То была кисть великана Антигона, провозгласившего себя сборщиком пошлины за пересечение устья Шельды и отрубавшего руки всем, кто отказывался платить. Лишь Сильвий Брабон, герой – основатель города, нашел в себе мужество и силы отсечь великану руку и бросить ее в воды речного устья, тем самым даровав потомству порт, свободный от вражеских посягательств. Но ныне свободе Антверпена угрожал не ужасный людоед, а осмелевший отрок, юнец. Устье Шельды патрулировал флот гёзов из северных провинций, причем в Лилло, на правом берегу, его поддерживала новая крепость северян, пушки которой простреливали реку на всю ширину. Военные корабли, оснащенные орудиями, и новый форт вместе мертвой хваткой сдавили горло антверпенской торговле. Отрезанные от заморских источников сырья и вынужденные платить грабительские цены за переход к континентальным поставщикам и рынкам, мануфактуры одна за другой закрывались. Банкиры выводили капиталы за пределы города, ставя ремесленников перед выбором – разориться или эмигрировать. За несколько месяцев процветающий город обеднел, двери богаделен захлопывались перед голодными, оборванными, нищенствующими. Даже Фарнезе, который никогда не сомневался в том, что материальная нужда – справедливая плата за победу Католической церкви и испанской короны, однажды, не в силах более сдерживаться, написал: «Нет зрелища горшего, нежели страдания этих несчастных». К концу 1595 года, с приближением зимы, за городские стены, на север и восток, потянулся нескончаемый караван повозок и подвод, нагруженных самым необходимым: горшками и кастрюлями, деревянными остовами кроватей, стульями и скамьями. Снялись с насиженных мест целые отрасли промышленности, особенно текстильной – производство льняных, байковых, шерстяных тканей и шпалер. Владельцы мастерских и подмастерья со своими ткацкими станками и шпульками, технологиями и капиталом вновь показывались на свет божий на берегах лейденских, гарлемских, дельфтских каналов, превращая то один, то другой скромный провинциальный городок в маленькое экономическое чудо[98].
Впрочем, это движение не было односторонним. Католическое духовенство, в 1579–1581 годах бежавшее от засилья кальвинистов, с радостью откликнулось на агрессивную контрреформистскую политику Фарнезе. Иезуиты, доминиканцы и капуцины стали возвращаться во Фландрию и в Брабант в надежде, что их разоренные монастыри еще сохранились. Соборы вновь приняли капитул и хор, вновь запели воссозданные органы, оглашая нефы торжественными аккордами. А что же Мария Рубенс? Вероятно, она тосковала по знакомой, привычной среде: по гостеприимному крову родственников, по беседам со старыми друзьями, по вечерням в соборе Антверпенской Богоматери. Столько лет стараясь не выделяться, лишний раз не обращать на себя внимание, она, видимо, наконец решила, что хватит скрываться и таиться, ведь она купила дом под номером 24 на самой роскошной улице Антверпена – Мейр, куда и переехала с троими детьми: Бландиной, Филиппом и Питером Паулем. Откуда же взялись деньги на явно недешевую покупку? Возможно, что-то вернули ей родственники Пейпелинксы, но нельзя исключать также, что в последние кёльнские годы, когда Яну было позволено возобновить юридическую и коммерческую карьеру, он сумел возвратить какую-то часть своего состояния, утраченного по собственной вине. Нельзя сказать, чтобы Мария так уж благоденствовала в Антверпене, но ее финансовые обстоятельства явно складывались лучше, чем в Германии. В своем завещании, составленном в 1606 году, она упоминает «жертвы», на которые ей пришлось пойти в годы после возвращения на родину, особенно для того, чтобы обеспечить приданым дочь Бландину, которая 25 августа 1590 года вышла за Симона дю Парка. Бландине тогда уже исполнилось двадцать шесть – по меркам того времени она считалась если не старой девой, то все же достаточно зрелой, чтобы вызывать беспокойство матери, всегда опасавшейся: вдруг, наслушавшись досужих пересудов и перешептываний у нее за спиной, добропорядочные семейства станут избегать Рубенсов и сочтут брачный союз с ее детьми сомнительной честью? Поэтому шансы ее дочери удачно выйти замуж упрочило приданое, которое давало доход в двести флоринов в год – скромное, но достаточное состояние.
Выдав дочь замуж, Мария немедля приняла важные меры. Возможно, после того, как она выделила Бландине значительную часть капитала, у нее просто не осталось выбора. Дом на улице Мейр опустел; мальчикам, Филиппу и Питеру Паулю, она нашла достойных покровителей, к которым те и отбыли. Филиппа, ученого отрока шестнадцати лет, отослали в Брюссель, где ему предстояло служить секретарем у Жана Ришардо, сказочно богатого, великолепно образованного члена Тайного совета, дом которого превосходил роскошью все, что только можно было вообразить в Брабанте эпохи Контрреформации. Красноречивого не по годам, Филиппа также назначили домашним учителем сына Ришардо, Гийома. Питеру Паулю исполнилось всего двенадцать. Он посещал латинскую школу Ромуальдуса Вердонка, находившуюся во дворе собора. Она представляла собой одно из пяти учебных заведений, специально созданных Фарнезе для подготовки целой когорты хорошо образованных священников, признававших непререкаемый авторитет Церкви, но вооруженных искусством риторики и при случае способных одержать победу в диспуте с софистами, либертенами, вольнодумцами и, если понадобится, предерзкими еретиками. Впрочем, выбор школы не определял будущее поприще мальчика. Солидное знание древнегреческих и латинских текстов, на примере которых усердно изучались грамматика и риторика, а также Священного Писания, религиозных и философских книг пойдет ему только на пользу, какую бы карьеру он впоследствии ни избрал: при дворе, в конторе или в исповедальне. Возможно, Мария полагала, что Ян (который, судя по всему, сам начал обучать обоих сыновей еще в Германии) одобрил бы такой выбор. Латинские школы, где ученикам, замершим на жестких скамьях, назначались гигантские дозы Плутарха, Цицерона и Тацита, стали колыбелью для следующего поколения католических гуманистов, вышедших из среды антверпенских патрициев.
Как же следовало поступить с одаренным не по годам мальчиком теперь, когда его брата отправили в Брюссель, сестру выдали замуж, а мать переехала в более скромное, более приличествующее почтенной матроне жилище на Клостерстрат, удобно расположенное неподалеку от собора? Высокий для своих лет, с копной темных кудрявых волос, с большими, живыми, выразительными глазами, с полными розовыми губами, Питер Пауль, вероятно, уже обнаруживал задатки того природного изящества и утонченного обаяния, перед которым впоследствии не сможет устоять ни один меценат, князь церкви или властитель. Рубенс навсегда останется человеком, в присутствии которого большинству людей хочется улыбаться – не иронической или снисходительной, но веселой и сочувственной улыбкой. В 1590 году эта непринужденная сердечность представлялась неотъемлемым свойством придворного. Поэтому Питера Пауля отправили служить украшением маленького двора Маргариты де Линь, графини де Лалэн, в Ауденарде, в тридцати милях к юго-западу от Антверпена, на влажной, поросшей густыми травами фламандской равнине. Граф, который, подобно многим мелким баронам, мог похвалиться длинной чередой титулов, феодальных владений, поместий и наследственных судебных должностей, умер в 1585 году, оставив двух дочерей и красивый особняк Отель д’ Эскорне в самом Ауденарде, где его вдова все чаще проводила время в совершенном одиночестве. Хотя по прошествии времени ужасный скандал в семействе Рубенс уже не будоражил воображение антверпенских сплетников, графиня почти наверняка что-то о нем знала, ведь девятнадцать лет тому назад именно ее родственница, другая Лалэн, вдовствующая графиня Хогстратен, одной из первых навестила Марию в ее кёльнском доме, утешая во время Великого поста 1571 года, когда ту охватило самое черное отчаяние. А теперь она помогала прекрасному, «tellement charmant», сыну Марии Рубенс, назначив его на должность пажа.
Все биографы Рубенса, начиная с автора «Жизнеописания», опубликованного в XVII веке, склоняются к мысли, что Питер Пауль ненавидел придворную службу. Всю свою жизнь Рубенс красноречиво сетовал на «золотые цепи», сковывающие придворного. Однако роптать на них он не уставал, даже когда носил их сам. Опыт жизни в Ауденарде, вероятно, обернулся для него не одной потерей времени. Маленькие нидерландские дворы, особенно те, что располагались в сельской глуши, еще носили на себе отпечаток затейливой геральдической и ритуальной архаики, сохранившийся с конца Средневековья, с тех пор, когда над страной властвовали герцоги Бургундские, законодатели придворного этикета. В качестве пажа или оруженосца от Рубенса действительно требовалось прислуживать дамам, принимать непринужденно-элегантные позы, изящно одеваться, демонстрируя стройные ноги в безукоризненных чулках, носить камзол и плащ так, чтобы непременно виднелся эфес шпаги. В его обязанности входило уметь охотиться с соколом и с гончими, с бодрым видом стрелять кроликов, танцевать вольту не запыхавшись и не засыпать во время исполнения мадригалов. Отроку, увлеченному Вергилием, некоторые из этих ритуалов действительно могли показаться тягостными. Однако кое-что в Отель д’ Эскорне, пожалуй, могло и завораживать Рубенса, с его рано пробудившимся интересом к истории: гробницы Лалэнов в фамильной часовне, внушающие мысль о покаянии и чистилище, статуи предков нынешних сеньоров, лежащих на спине или коленопреклоненных, сложивших каменные персты в молитвенном жесте, облаченных в длинные одеяния или в кольчуги и шлемы крестоносцев. Хотя Рубенс составил свой «Альбом костюмов» значительно позже, он, вероятно, уже знал, какие фасоны носили в старину, и запечатлел их на гравюрах, используя в качестве образца могильные изваяния давно покойных графов и графинь. Может быть, свои первые зарисовки он сделал именно в безмолвии склепа?
Или еще раньше?
Спустя много лет, в 1627 году, когда Рубенсу исполнилось пятьдесят пять и он прослыл в Европе «принцем живописцев и живописцем принцев», он предпринял плавание на барже из Утрехта в Амстердам. Во время визита в Голландскую республику Рубенса должен был принимать Геррит ван Хонтхорст, однако он заболел и поручил всячески холить, лелеять и ублажать великого фламандца своему ученику Иоахиму фон Зандрарту, кстати, земляку Рубенса, выходцу из семьи кальвинистских эмигрантов-валлонов. Рубенс говорил, а Зандрарт слушал, а впоследствии изложил его рассказы в своей книге под названием «Немецкая академия зодчества, ваяния и живописи», посвященной жизнеописаниям художников[99]. В годы юности, подчеркивал знаменитый мастер, он любил копировать маленькие гравюры на дереве Ганса Гольбейна и швейцарского художника Тобиаса Штиммера. Даже в зрелом возрасте Рубенс не переставал рисовать фигуры, скопированные с библейских сцен Штиммера: на одном листе – Адама, изгоняемого из рая и благоговейно преклоняющего колена перед грозным архангелом, на другом – пораженного недугом человека, распростертого на спине под медным змием[100]. Однако более вероятным представляется, что в отрочестве его зрительное воображение пробудил именно сюжетный характер иллюстраций Штиммера. Это могло произойти еще до того, как семейство Рубенс вернулось в Антверпен, поскольку Штиммер был не только плодовитым художником-иллюстратором, но и яростным хулителем папы и Католической церкви, без устали осмеивавшим их в своих работах. Выходит, едва ли Рубенс мог увидеть эти гравюры в школе Вердонка, ведь она и подобные ей учебные заведения изначально задумывалась как бастионы католического конформизма. «Образы библейской истории, заново запечатленные в гравированных оттисках» Штиммера впервые были опубликованы в Базеле в 1576 году и относились именно к той разновидности душеспасительной протестантской литературы, которую Ян Рубенс спокойно мог давать в руки детям, пока еще исповедовал лютеранство в Кёльне.
Конечно, нельзя исключать также, что Мария привезла базельские иллюстрации к Библии с собой в Антверпен, но, когда бы Рубенс впервые ни взял в руки перо или карандаш и ни попытался воспроизвести стремительные, напряженные линии Штиммера и его густую штриховку, ксилографии, несомненно, произвели на Питера Пауля сильное впечатление, и тому были веские причины. Обрамленные напоминающими кариатид эмблематическими фигурами, мифическими и библейскими, сопровождаемые стихами из Священного Писания и нравоучительными рассуждениями о важности исповедания христианства, эти маленькие гравюры представляют собой чудо драматической краткости и лаконизма. Иногда Штиммер виртуозно использует крохотный формат, открывая перед взором созерцателя пространство широко раскинувшегося пейзажа, на фоне которого расставляет крупные, скульптурно вылепленные фигуры – изгибающиеся, низвергающиеся наземь, страстно жестикулирующие. Например, именно в таком пасторальном ландшафте, с каменистыми холмами, плевелами и цветами, Каин, облаченный, словно древнегерманский дикарь, в звериные шкуры, с растрепанными, стоящими дыбом волосами, с массивной геракловой палицей на плече, мрачно воззрился на распростертое у его ног стройное тело своего поверженного брата Авеля. В другом случае Штиммер предлагает абсолютно новаторскую визуальную интерпретацию жертвоприношения Исаака: обреченного мальчика он показывает сзади, обращенным к зрителю спиной. Его обнаженные хрупкие плечи и шея, подошвы босых ног трогательно выделяются на фоне равнодушных, белых, пустых небес, колеблемых ветром деревьев, птиц, кружащих над горою Мориа. Отрок, преклонивший колена возле разложенного жертвенного огня, замер, тело его совершенно неподвижно, лишь волосы развеваются под ветром. Он словно воплощает собою совершенное смирение и повиновение и не замечает ни внезапного неудержимого вмешательства ангела, схватившего занесенный меч праотца Авраама прямо за клинок, ни водоворота темных теней, клубящихся на переднем плане гравюры слева.
Многие приемы Штиммера: размещение на фоне широко раскинувшегося пейзажа массивных, исполненных экспрессии, представленных в движении фигур, передача необыкновенного напряжения, исходящего от изгибающихся, извивающихся тел, от воздетых в страстных жестах рук, от бегущих ног, гармоничное равновесие в изображении многолюдных сцен, умение подчеркнуть сияние света или непроглядность тьмы, живописное использование линии – станут привычной частью художественного инвентаря Рубенса, и потому трудно оспаривать, что именно Штиммер (а вместе с ним, возможно, и Гольбейн) пробудил в Рубенсе тягу к искусству. Восхитительная легкость, с которой швейцарец мог наколдовать складки развевающегося одеяния, львиную гриву, разверстую пасть кита, перья ангельских крыльев одним движением резца, оставляющего глубокие линии на мягкой грушевой древесине гравюрной доски среди кудрявых стружек, – скупым, рассчитанным жестом творя целый сложный мир, не могла не очаровать способного мальчика, уже умеющего обращаться с перочинным ножом, пером и кистью.
Тобиас Штиммер. Каин и Авель. Гравюра на дереве из цикла «Библейская история в новых образах». Базель, 1576. Колумбийский университет, библиотека Эйвери, Нью-Йорк
Тобиас Штиммер. Жертвоприношение Авраама. Гравюра на дереве из цикла «Библейская история в новых образах». Базель, 1576. Колумбийский университет, библиотека Эйвери, Нью-Йорк
Поэтому кто знает, может быть, какой-нибудь исключительно талантливо выполненный рисунок убедил его мать, что Питер Пауль создан скорее для искусства живописи, нежели для придворного притворства? Ведь спустя всего полгода с тех пор, как она отослала его к графине де Лалэн в Ауденарде, Мария Рубенс вернула сына домой и отдала его в учение антверпенскому мастеру Тобиасу Верхахту, известному главным образом маньеристическими пейзажами со стаффажем. Верхахт отнюдь не был значительной фигурой в гильдии Святого Луки. Однако в глазах Марии, быть может еще не до конца уверенной, какое поприще избрать младшему сыну, больший вес имели не столько посредственное дарование Верхахта и его умеренная слава, сколько тот факт, что он приходился ей родней: Верхахт был женат на внучке отчима Яна Рубенса, торговца специями Лантметере. Верхахт побывал в Италии (вот это пришлось бы Яну весьма по вкусу) – возможно, вместе с самим Питером Брейгелем он писал картины во Флоренции, – где произведения фламандцев, fiamminghi, в особенности сельские жанровые сцены, неизменно пользовались спросом. Теперь он брал в учение молодых живописцев. Чего же еще желать?
Возможно, Верхахту, с его притязаниями на известность за пределами Фландрии и солидными родственными связями, удалось уверить Марию, что, если именно он возьмет в ученики Питера Пауля, мальчика из патрицианской семьи, перед которым, казалось бы, открывалось поприще юриста или богослова, тот, сделавшись живописцем, не утратит своего высокого социального положения. Большинство фламандских художников, хотя далеко не все, были сыновьями живописцев или имели еще более скромное происхождение. Гильдию Святого Луки по-прежнему воспринимали как некое торговое объединение, ведь в нее входили без разбору и живописцы, и золотых и серебряных дел мастера, и стекольщики. Сама этимология слова «schilder», восходящего к средневековой росписи рыцарских щитов («schild»), указывает на весьма низкий статус этого ремесла. Некоторые из наиболее знаменитых живописцев старшего поколения прославились не только своими талантами. Величайший из них, Франс Флорис, чьи картины на библейские сюжеты украшали Атнверпенский собор, был также печально известным неисправимым пьяницей, который, по словам Карела ван Мандера, любил похваляться, будто способен перепить всех своих соперников, и утверждал, что однажды остался на ногах после того, как выпил за здоровье каждого из тридцати членов антверпенской гильдии суконщиков, а потом, с каждым из них, – за свое собственное. «…Нередко полупьяный или даже совсем пьяный, возвратясь домой, [он] брался за кисти и писал одно за другим целое множество произведений», – с нескрываемым восхищением писал ван Мандер[101]. Еще более прискорбные эпизоды пятнали биографию Иеронима Вирикса, плодовитого иллюстратора Священного Писания и агиографических сочинений. В 1578 году, во время попойки, необычайно разгульной даже по меркам Вирикса, он бросил оловянную пивную кружку в голову трактирщице и убил ее. Лишь спустя год друзья смогли освободить Вирикса из тюрьмы, при условии, что он покается перед семьей убитой и загладит свою вину, в том числе выплатив круглую сумму.
Вряд ли Мария Рубенс желала, чтобы младший сын водил компанию с такими людьми. Однако ее семейный и дружеский круг имел представление о совершенно ином типе художника – ученом живописце, «pictor doctus», и Мария была уверена, что, сделавшись таковым, Питер Пауль превратится в образец утонченности и изящества. Более того, для выбора подобного поприща настал самый благоприятный момент. Ушло старшее поколение художников. Великий Питер Брейгель умер в 1569 году, Франс Флорис – годом позже. Михил ван Кокси, которому в свои девяносто явно не стоило взбираться на леса новой ратуши, погиб, сорвавшись с высокого помоста. Обильную дань собрали также война и религиозные преследования. «Покинул Антверпен» пейзажист Ганс Бол, по словам Карела ван Мандера, «ввиду грядущих смут и ужасов войны, враждебной искусству»[102], а вместе с мастером переселились в Голландию и ученики – талантливый Якоб Саверей и его брат Рулант, анабаптисты. Лукас де Хере отправился в Англию, где поступил на службу к королеве Елизавете и стал рупором сопротивления испанско-католическому Крестовому походу.
Именно в тот период, когда Церковь испытывала величайшую потребность возместить ущерб, нанесенный ей за две волны иконоборчества, в 1566 и 1581 годах, Фландрия и Брабант внезапно оскудели талантами. Более того, предписания, сформулированные на последнем заседании Тридентского собора в 1563 году и касавшиеся картин на религиозные сюжеты, предполагали, что благочестивые и искусные живописцы, в соответствии с указаниями собора, сумеют отличить допустимые темы от недопустимых, не утрачивая при этом молитвенного рвения. В первую очередь надлежало придерживаться общего правила, согласно которому дозволялось изображать исторически достоверные и зримые деяния (например, Нагорную проповедь, Крещение и страсти Христовы), а невыразимое, несказанное (например, облик Бога Отца) – нет. Чудеса, в том числе апокрифические, следовало трактовать с величайшей осторожностью. Однако это мудрое отделение сказочных подробностей от чудес, совершенных Божественным произволением, не могло быть предпринято в ущерб главной цели Контрреформации: удержать в лоне Церкви верующих (а также спасти души скептиков и еретиков) посредством визуальных образов, исполненных драматической экспрессии и способных до глубины души растрогать зрителей. Для осуществления такого замысла требовались живописцы, которые одновременно были бы драматургами, основательно знающими богословие, – отчасти поэтами, отчасти учеными.
В девяностые годы XVI века подобных идеальных художников было днем с огнем не сыскать, а потому те, кто обладал хотя бы малой толикой требуемых качеств, не преминули воспользоваться ситуацией. Например, Мартен де Вос, сделавший карьеру на фоне культурного вакуума, был главой гильдии Святого Луки во дни террора, развязанного Альбой, в конце семидесятых годов XVI века. По возвращении Вильгельма Оранского он немедля принял протестантизм. В начале восьмидесятых годов слыл любимым художником патрициев-кальвинистов. Затем, когда ультиматум Фарнезе не оставил протестантам иного выбора, кроме как повиноваться или отправиться в изгнание, вновь раскаялся и вернулся в лоно Католической церкви. Наградой за столь бесстыдный прагматизм в деле веры стали деньги и почести. Ему постоянно заказывали картины на исторические сюжеты, портреты и книжные иллюстрации. А в 1594 году де Восу перепал и вовсе лакомый кусочек: ему поручили изготовить архитектурные декорации, долженствующие украсить Антверпен к триумфальному вступлению нового правителя Испанских Нидерландов, эрцгерцога Эрнста.
Небывалый успех Мартена де Воса мог убедить Марию Рубенс, что перед ее сыном действительно откроется блистательная карьера живописца, пользующегося расположением Церкви и государства. И в самом деле, репутация де Воса, по крайней мере отчасти, зиждилась на том факте, что его воспринимали как художника, тяготеющего к итальянскому стилю, путешествовавшего по Италии, учившегося у самого Тинторетто. Нельзя отрицать, что наиболее изысканным из его сюжетных картин, например «Мадонне с Младенцем, приветствующим крест», в какой-то степени присущи интенсивные серовато-синие, насыщенные багровые и дымно-черные тона, угловатые формы, порывистые, стремительные движения, свойственные венецианскому мастеру. Обучаясь у Тобиаса Верхахта, ни один начинающий художник не мог получить знания и умения и достичь уровня, который позволил бы ему войти в те круги, представителем которых был де Вос. На первый взгляд переход к Адаму ван Норту, другому учителю, почти не улучшал перспективы Рубенса. Подобно де Восу, ван Норт был еще одним лютеранином, обратившимся в католичество удобства ради и именно поэтому поддерживавшим отношения с целым классом людей, на протяжении нескольких лет неоднократно менявших вероисповедание, не в последнюю очередь с Рубенсами. За год до того, как Мария с мальчиками вернулась в Антверпен, ван Норт женился на дочери одного из наиболее известных протестантских семейств города, Нюйтов. Однако венчание, в соответствии с ультиматумом Фарнезе, состоялось в Антверпенском соборе согласно строгим католическим правилам, и, как бы то ни было, Адам ван Норт отныне слыл одним из несокрушимых столпов Контрреформации и, подобно де Восу, был вознагражден участием в подготовке триумфального вступления в город эрцгерцога Эрнста в 1594 году.
Однако никакие перечисленные заслуги не могли возместить отсутствие вдохновенного наставничества; ни Верхахт, ни ван Норт решительно не были способны пестовать гений. Теперь, четырнадцати-пятнадцатилетним отроком, Рубенс уже познакомился с гравированными репродукциями картин великих итальянских мастеров и, вероятно, осознал, сколь неуклюже его фламандские учителя копируют их манеру. Если сам он искал третьего наставника, под руководством которого мог формально завершить годы ученичества и получить соответствующее свидетельство, то нуждался в менторе, чьими «верительными грамотами» было бы куда более глубокое и изящное следование влиятельным принципам классического итальянского искусства, чем это удавалось Верхахту и ван Норту.
И такой наставник появился в Антверпене в конце 1592 года, как раз когда Мария и ее сын занимались поисками нового учителя. Отто ван Вен был придворным художником у самого блистательного Алессандро Фарнезе, мастер некогда написал портрет правителя и в придачу к прочим официальным титулам был вознагражден несколько туманным званием «инженера-аншефа», «ingnieur-en-chef». Он ничем не напоминал Верхахта, ван Норта или, если уж на то пошло, Мартена де Воса. Он происходил из патрицианской семьи, получил классическое образование, обладал изысканными манерами и притязал на признание за пределами Нидерландов. Возможно, гуманист и географ Абрахам Ортелий (кстати, автор трактата об искусстве) по-дружески преувеличивал, написав в альбоме, «album amicorum», ван Вена, что, подобно Памфилию, которого Плиний восхвалял как одаренного равно в литературе и в живописи, Отто был «первым в нашем мире, кто сумел соединить изящную словесность с искусствами», однако в Нидерландах конца XVI века он, несомненно, мог почитаться экзотическим культурным явлением, истинным воплощением ученого художника, «pictor doctus», которого искал Рубенс.
Редкостной образованностью могли похвалиться уже предки Отто. Его отец Корнелис ван Вен, подобно Яну Рубенсу, ученый юрист и член магистрата, уверял, что происходит от побочной линии герцогов Брабантских, хотя в какой-то момент его семья перебралась в дождливую и влажную Зеландию. Корнелис ван Вен вырос в Лейдене, бургомистром которого сделался в 1565 году, в ту пору, когда религиозный раздор бушевал, точно морская буря. О его богатстве и высоком социальном статусе свидетельствовал прекрасный дом на площади Синт-Питерскеркхоф, куда он переехал вместе со своей семьей. Однако, в отличие от многих современников, Корнелис сохранил безрассудную и бескомпромиссную верность своей Церкви и королю, даже когда по крайней мере один из его десяти детей, Симон, решил принять кальвинизм. После того как Лейден осадили войска Альбы, а жители в ярости обрушились на Католическую церковь и происпански настроенных сограждан, чему не приходится удивляться, ван Вену пришлось покинуть город. В октябре этого года он уехал из Лейдена, как можно предположить, не без спешки, и отправился в Антверпен. Впрочем, возможно, ван Вен убедился, что жесточайшая католическая реакция, достигшая тогда апогея, ничуть не лучше своей протестантской противоположности, ибо в феврале 1573 года он просил выпустить его якобы в Ахен, но в действительности перевез семью в Льеж, под юрисдикцию князя-епископа Герарда де Грусбека. Именно там Отто, которому в ту пору исполнилось двенадцать лет, в значительной мере получил образование, сделавшись протеже поэта и художника Доминика Лампсония.
Обучение у Лампсония стало важным фактом его биографии. Лампсоний был весьма посредственным художником, однако роль, которую он сыграл как писатель, биограф северных живописцев и неутомимый защитник самостоятельной ценности северного искусства, трудно переоценить[103]. Сам Лампсоний учился в Риме у Федерико Цуккаро, а вернувшись в Северную Европу, переписывался с пожилым Тицианом. Однако именно благодаря флорентийцу Джорджо Вазари, автору «Жизнеописаний живописцев», который вовсе не упомянул северных художников в издании 1550 года, а в редакции 1568 года пренебрежительно отозвался о них как «всевозможных фламандских artifici [подражателях]», раздосадованный Лампсоний открыл свою истинную пропагандистскую миссию: утверждение назло врагам ценности и достоинств нидерландского искусства. Оскорбительное замечание Вазари повторяет высказывание, приписываемое Микеланджело португальским гуманистом Франсишку де Оландой, будто фламандскую живопись занимает главным образом «внешняя точность… [О]ни пишут стены и каменную кладку, зеленую траву на лугах, древесную сень, реки, мосты и именуют сии картины пейзажами… все эти виды, хотя и приходятся некоторым по вкусу, лишены смысла и искусства, не учитывают законы симметрии и пропорции, исполнены без умелого выбора деталей и оригинальности и, наконец, не вникают в суть вещей и говорят об отсутствии творческого зрения»[104]. Памятуя о том, что лучшая защита – это нападение, Лампсоний в «Портретах», своих жизнеописаниях северных художников, отверг надменное мнение, что ценна якобы только историческая живопись, а пейзажи-де предназначены для украшения крестьянских жилищ. Лампсоний возражал, что столь жесткие ограничения годятся для итальянцев, в полной мере воспринявших классическую традицию, однако в остальной Европе они повлекли за собой академическую сухость и утрату естественности, которую скорее по силам возместить нидерландцам, с их склонностью живо и ясно запечатлевать картины внешнего мира. Именно те жанры, которые Вазари и Микеланджело презрительно именовали банальными и которые, по мнению итальянцев, требовали не искусства истинных художников, «pittori», а всего лишь умения подражателей, «artifici», с точки зрения Лампсония, составляли славу нидерландской живописи. Художники, особенно им превозносимые, – Херри мет де Блес, Иоахим Патинир, Гиллис ван Конинксло – как раз и служили образцом такого искусства.
В том же духе Лампсоний пытался объединить самоценную, как он настаивал, нидерландскую традицию и страсть венецианской живописи к «colore», цвету, играющему главную роль в моделировании формы. Совершя революцию в живописи, Тициан фактически прямо противопоставил венецианскую школу флорентийской и римской, с их утверждением, что рисунок, «disegno», представляет собой непосредственное воплощение лежащего в основе любого произведения творческого замысла, его божественного знака, «dio-segno».
Отто ван Вен. Автопортрет. 1584. Рисунок из «Альбома» («Album Amicorum»). Королевская библиотека, Брюссель
Отто ван Вен, находясь в обществе Лампсония, волей-неволей проникся духом соперничества между югом и севером, который всячески насаждал его учитель. Ему еще только предстояло решить, примкнет ли он к тем, кто стремился сделать северное искусство более утонченным, уподобить его стиль итальянскому или последует за своим учителем, провозгласившим неповторимость нидерландской живописи. В любом случае, лишь отправившись в Италию, он мог понять, что его ждет. В 1575 году ван Вен приехал в Рим с рекомендательным письмом от князя-епископа Льежского, адресованным кардиналу Кристофоро Мадруццо. Оно обеспечивало ему доступ в высшие круги римских аристократов-гуманистов. Пять лет промариновав себя в античной мудрости и в созерцании величественных произведений Микеланджело и Рафаэля, Отто ван Вен вынырнул на поверхность, совершенно преобразившись и представ миру гением «Вением», утонченным знатоком литературы и искусства, владеющим многими языками, воплощением изящества и благовоспитанности, однако не отрекшимся от своих северных корней. Теперь у «Вения» не было отбоя от щедрых вельможных заказчиков. Из Рима он отправился в Прагу, где некоторое время работал для императора Рудольфа II, как и его придворные, живо интересовавшегося философией. Оттуда он перебрался в Мюнхен, ко двору эрцгерцога Баварского Эрнста, а поскольку этот принц носил также титул курфюрста Кёльнского, нельзя исключать, что пребывание ван Вена в Кёльне совпало с детскими годами Рубенса, в ту пору жившего там с родителями.
В конце 1583 или в начале 1584 года Отто ван Вен вернулся в свой родной город Лейден. Хотя в городе полную победу одержали кальвинисты, его родители, возможно еще в 1576 году, решили возвратиться домой и провести остаток дней в роскошном доме на Синт-Питерскеркхоф, который их детям, принявшим протестантизм, удалось спасти от конфискации. Однако, подобно множеству семей, ван Вены оказались разделены религиозными разногласиями и разбросаны по разным провинциям истерзанных войной Нидерландов. Симон-кальвинист теперь жил в Гааге; Гисберт-гравер, которого Отто на семейном портрете изобразил с блокнотом в руках, так и остался католиком и гражданином Антверпена. Две из его сестер, Мария и Агата, переселились на север, вышли замуж и теперь жили в Харлеме, но Альдегонда так и не уехала из католического Брабанта. Приятно воображать, как все они собираются в лейденском доме родителей, чтобы позировать Отто для семейного портрета, хотя вполне возможно, что он писал картину, используя отдельные портретные наброски.
Это полотно – наиболее полное выражение двоякой сущности ван Вена, его итальянского блеска и нидерландской солидности. В центре картины, облаченный в броские шелковые одежды и являющий разительный контраст со строгим братом-кальвинистом Симоном, размещается сам Отто. Образованный космополит, живописец-джентльмен до мозга костей, с аккуратно причесанными светло-русыми волосами, с подстриженной la marquisetto бородкой, в эффектно отделанном кафтане, он держит палитру в тонкой, изящной руке. Подобно белке, с вызовом взирающей с кожаной, с золотым тиснением драпировки, украшающей покой, где происходит воссоединение семьи, Отто, такой же проворный, быстроглазый и жадно стремящийся к накоплению, научился взбираться очень и очень высоко. Однако картина, где неловко теснятся несколько поколений, где пришлось пожертвовать пространственной глубиной, чтобы разместить всех членов семьи, могла быть написана только в Нидерландах. Это в значительной мере произведение странника, вернувшего домой.
Впрочем, долго он дома не задержится. В Лейдене он не жалел усилий, чтобы на страницах его альбома, якобы предназначенного для дружеских посланий и девизов, но на самом деле служащего чем-то вроде собрания рекомендательных писем, оставили автографы известнейшие люди города, католики и протестанты, в том числе интеллигенты-гуманисты, философы, богословы, географы. Пора было извлечь пользу из своей безупречной биографии. Отто направился на юг, в Брюссель, где быстро сделался придворным художником Фарнезе и написал свой первый известный запрестольный образ «Мистическое обручение святой Екатерины», беззастенчиво стилизуя живопись под манеру болонской школы, и в особенности Корреджо. В 1593 году, снова поселившись в Антверпене, он значится мастером в списках гильдии Святого Луки и вскоре получает важные заказы: так, он пишет «Мученичество святого Андрея» для церкви, освященной в его честь, еще одну картину для церкви Святого Причастия. Всем работам ван Вена свойственны холодная торжественность и некоторая нарочитость, призванные напомнить о манере болонской и высокой римской школы. В 1597 году городской совет Антверпена заказал ван Вену эскизы для шпалер, долженствующих увековечить победы эрцгерцога Альбрехта, которому вскоре предстояло сменить Эрнста на посту штатгальтера Нидерландов. Мастерскую ван Вена переполняли ученики, а благодаря женитьбе на Марии Лотс он породнился с одним из наиболее влиятельных городских семейств.
Таким образом, в середине девяностых годов XVI века Питеру Паулю Рубенсу трудно было найти более блестящий образец для подражания, нежели Отто ван Вен, воплощение ученого живописца, «pictor doctus», благочестивого и умеющего слагать вирши, утонченного ценителя искусства и философии. Подобно тому как Лампсоний требовал, чтобы ван Вен изучал итальянских мастеров, но при этом рабски не подражал им, ван Вен наставлял Рубенса, советуя ему не копировать, а изучать итальянцев. Он послушно следовал этим указаниям, и потому неповторимые, истинно рубенсовские черты очень сложно разглядеть в бабочке, являющейся из кокона фламандско-итальянских концепций, ведь, будучи учеником, он мог ожидать похвалы наставника лишь в той мере, в какой подавлял, а не выражал свою творческую личность[105]. Поэтому почти все картины Рубенса, относящиеся к девяностым годам XVI века, поневоле откровенно третьеразрядны, ведь молодой художник избрал образцом для подражания либо неуклюжие усилия ван Вена, стремящегося соединить римскую и фламандскую манеры, либо гравированные репродукции итальянских рисунков. Широкой популярностью в Нидерландах пользовались гравюры Маркантонио Раймонди и фламандца Корнелиса Корта с оригиналов Рафаэля и Микеланджело, и опираться на них, создавая собственные картины, особенно по мотивам итальянских графических работ, вовсе не считалось постыдным. Более того, Лампсоний восхваляет таких нидерландских граверов, как Корт, за то, что те не просто рабски копируют оригиналы, а своеобразно их интерпретируют[106]. Точно так же от Рубенса, возможно, ожидали, что он привнесет в живописные версии узнаваемых гравюр что-то от мировосприятия северянина. Именно такое копирование старых мастеров с малой толикой собственного стиля и предписывалось учением о подражании, «emulatio», навязываемым всем начинающим художникам.
Отто ван Вен. Автопортрет с семьей. 1584. Холст, масло. 176 250 см. Лувр, Париж
Подражательность Рубенса прежде всего заметна в его версии «Грехопадения», написанной по мотивам гравюры Маркантонио Раймонди с рисунка Рафаэля. Рубенс точно воспроизводит позы, избранные Рафаэлем. Однако, словно бы следуя рекомендациям Лампсония, добавляет детали, заимствованные у тех жанров, что, как принято было считать, особенно удаются нидерландцам: у пейзажной и портретной живописи. Вместо бегло очерченного, стилизованного Эдема Рубенс разбивает на картине настоящий райский сад, с вездесущей эмблемой плодовитости – кроликом и с целым ботаническим и орнитологическим арсеналом, свидетельствующим о страсти фламандцев к естествознанию. В конце концов, изображение творящей прроды, «natura naturans», по словам Леонардо, демонстрирует почти божественную власть художника.
Точно так же, хотя Рубенс, возможно, знал предписания Дюрера, как изображать наделенного идеальными пропорциями Адама (Аполлона Бельведерского) и Еву (любую классическую Венеру), чета, которой вот-вот предстоит прискорбным образом согрешить, куда менее напоминает у него хладные мраморные статуи и кажется значительно более чувственной и плотской. Профиль Евы, который Маркантонио Раймонди, по-видимому, заимствовал для своей гравюры прямо с какого-то классического барельефа, у Рубенса мягок и нежен, ее уста предстают соблазнительно алыми, под стать яблоку, которое она к ним подносит, на них словно падает отсвет запретного плода, составляя разительный контраст с ее белоснежной, алебастровой, прохладной кожей. Обнимая древо познания добра и зла, она своей позой точно повторяет извивы змея, по соблазну которого вот-вот падет. Голову Адама Рубенс, по сравнению с оригиналом, меняет еще более радикально: мужественная окладистая борода и румяный цвет лица превращают статую Рафаэля в существо из плоти и крови. Он уже не держит в руке яблоко, его ладонь испещрена глубокими бороздами, оставленными возрастом, и указывает на зловеще затаившегося змея. Что же здесь от Рубенса? Покрасневшая внутренность ушной раковины, покрасневшие веки и нижняя губа, слегка наметившееся брюшко, мощные, лишенные изящества торс и кисти – все это свидетельствует о том, что некий декоративный тип уступил место убедительному, конкретному портрету живого человека.
Питер Пауль Рубенс. Грехопадение. До 1600. Дерево, масло. 180,3 158,8 см. Дом-музей Рубенса, Антверпен
В 1598 году имя Рубенса было внесено в списки членов гильдии Святого Луки, а значит, он был признан самостоятельным мастером и отныне, в двадцать один год, мог брать учеников. Первым поступил в обучение к Рубенсу сын серебряных дел мастера, носивший звучное итальянизированное имя Деодате дель Монте. Однако, несмотря на официальное признание, Рубенс не сделался сам себе хозяином и, возможно, еще около двух лет продолжал сотрудничать с Отто ван Веном. Он был талантлив, многообещающ, ждал от жизни всевозможных благ и чем-то напоминал неизвестного, лицо которого яркими блестящими красками запечатлел на медной пластине в 1597 году, выгравировав на обороте собственное имя. Этот портрет – истинная жемчужина, он выполнен с блеском, едва ли не в манере миниатюриста, и насыщен характерными деталями, вроде топорщащихся кончиков усов или слабых отблесков света на переносице и на кончике носа, воспроизведенными с наслаждением и с утонченным мастерством. Надпись вверху гласит, что изображенному двадцать шесть лет, он всего на пять лет старше живописца. Искусствоведы обыкновенно считают его «географом», полагая, что квадратная рамка, которую он держит в правой руке, – некий измерительный прибор, и, конечно, нельзя этого исключать. Однако в левой руке молодой человек держит закрытый футляр от часов, призванный напомнить о быстротечности наших дней. Это поколение любило эмблемы. Поэтому, взятые вместе, инструменты, одновременно врученные портретируемому, возможно, символизируют правильный жизненный путь, который надлежит избрать за отпущенный земной срок. Подобная трактовка деталей могла прийтись по вкусу и модели, и художнику, всецело поглощенному этим медленно проступающим на медной пластине лицом, с его острыми, лисьими, чертами и странным выражением, свидетельствующим не то об изрядном умении владеть собой, не то о настороженности.
Питер Пауль Рубенс. Мужской портрет. 1597. Медь, масло. 21,6 14,6 см. Музей Метрополитен, Нью-Йорк
Если государству лучше всего удаются торжественные процессии, это дурной знак. Религиозная война, длившаяся четверть века, нанесла городам Фландрии, Брабанта и Эно глубокие раны и обрекла их на длительные недуги. Их прежнее процветание, царившее примерно до 1550 года, безвозвратно кануло в Лету, численность населения сократилась. Однако в 1599 году, когда эрцгерцоги Альбрехт и Изабелла (ибо именно так надлежало титуловать их обоих) были назначены соправителями Нидерландов, Брюссель и Антверпен ничего не пожалели, чтобы отпраздновать их вступление в должность настоящим триумфом. В обществе жило воспоминание об истинной помпе. Достаточно было только устроить какую-то церемонию, как члены гильдий начинали вытаскивать из сундуков самые яркие кафтаны и до блеска начищать серебряные трубы, был бы повод. А золотильщикам, вышивальщицам и плотникам, не говоря уже о художниках (в первую очередь Отто ван Вене), заказ на архитектурные декорации по случаю торжественного вступления в город эрцгерцогов, «pompa introitus», представлялся просто манной небесной. В Антверпене точно из-под земли выросли арки, портики, сцены, павильоны и балдахины, призванные услаждать взоры эрцгерцогской четы. Дельфины, великаны, античные божества, драконы восхваляли геркулесову доблесть Альбрехта, его преданность Святой Церкви и победы на поле брани. Нимфы, наяды и нереиды прославляли новобрачную.
Нельзя сказать, чтобы эти публичные восторги были сплошь притворны и сплошь на совести властей. Эрцгерцоги всячески подчеркивали, что вступают в Нидерланды не как завоеватели, а как правители. Подобную линию поведения, тщательно все взвесив, избрал для них Филипп II, чувствовавший приближение смерти. Жестокая война, которая продолжалась более двадцати лет и не принесла окончательной победы ни одной стороне, не усмирила восставшие протестантские северные провинции. Ныне Филипп считал своим долгом обеспечить покорность хотя бы южных провинций. В лице Альбрехта он нашел габсбургского принца, который, казалось, воплощал столь редкое сочетание благочестия и военного таланта. Еще отроком он носил сан кардинала и епископа. В молодости, пройдя школу мрачного Альбы, он зарекомендовал себя надежным полководцем, а в его послужном списке фигурировало несколько успешных осад. Чего еще мог желать король? В 1598 году Альбрехт был назначен штатгальтером Нидерландов, а затем тотчас женился на любимой дочери Филиппа, Изабелле Кларе Евгении. Согласно условиям брачного контракта, Филипп уступал супружеской чете верховную власть над Нидерландами. На первый взгляд это предоставляло эрцгерцогам большую самостоятельность, чем любым прежним правителям Нидерландов с самого начала войны. Они могли издавать собственные законы, чеканить собственную монету, назначать и принимать посланников, словно правили независимым государством. Альбрехт даже пообещал вновь созвать давным-давно не собиравшиеся Генеральные штаты. Не теряя времени, он стал совершать дипломатические визиты в провинции Утрехтской унии, прощупывая почву и предлагая признать сына Вильгельма и Анны Морица (еще одного весьма одаренного полководца) штатгальтером пяти северных провинций, а де-факто – отделение протестантского севера от католического юга. В обмен он требовал формально изъявить лояльность Габсбургам как сюзеренам. Однако, невзирая на все это деланое самоумаление, испанская власть, как хорошо было известно голландцам, по-прежнему держалась на штыках. Перед смертью Филипп II провозгласил, что, если Изабелла и Альбрехт не произведут на свет наследника, испанская корона оставляет за собой право вновь присоединить Нидерланды. Красноречие Альбрехта и Изабеллы и их способность убеждать в немалой степени подкреплялись испанскими войсковыми гарнизонами, командиры которых приносили клятву верности не Брюсселю, а мадридскому трону.
Впрочем, показное великодушие Альбрехта и Изабеллы, их, пусть и не всегда искреннее, желание не казнить, а миловать трогало сердца, и в Антверпене воцарилась атмосфера неподдельного восторга и надежды на новое начало. К тому же впервые примерно за двадцать пять лет были устроены празднества достаточно торжественные и пышные, чтобы привлечь гостей со всей Европы, как это бывало в давние времена. Среди тех, кто прибыл в Антверпен в конце лета 1599 года, был и кузен эрцгерцога Альбрехта Винченцо I Гонзага, герцог Мантуанский, приезд которого во Фландрию в немалой мере был продиктован необходимостью пить целеные воды в Спа.
А Винченцо было от чего исцеляться. В 1582 году, будучи еще наследником герцогского престола, он заколол молодого шотландского ученого Джеймса Криктона, на свою беду сделавшегося придворным фаворитом герцога Гульельмо. Несколько лет спустя Винченцо стал ответчиком в едва ли не самом безумном судебном процессе, который знала эпоха Ренессанса. Ему надлежало доказать свою мужскую силу и овладеть особо выбранной для сего девственницей на глазах у специальной комиссии, уполномоченной самим папой подтвердить или опровергнуть заявление его глубоко опечаленных бывших тестя и тещи, что-де в физическом неосуществлении брака повинен Винченцо, а не их дочь, как он имел дерзость провозгласить. Запятнав свое имя умышленным убийством и сексуальным скандалом, Винченцо, взойдя на трон, стремился сделать все, чтобы подданные забыли о его позоре, и потому хотел предстать перед ними в образе как можно более величественном. Церемония его восшествия на престол была обставлена с поистине византийской пышностью, ибо он полагал себя потомком константинопольской династии Палеологов. Для совершения помазания на герцогство в Мантуанском соборе Винченцо облачился в одеяния под стать монаршим, в сверкающий атлас и горностаевую мантию, взял в руки скипетр слоновой кости, а чело украсил специально для сего случая изготовленной короной с драгоценными камнями, в том числе рубином размером с гусиное яйцо. Чтобы никому и в голову не пришло увидеть в нем пустого вертопраха, Винченцо придумал для себя образ последнего великого крестоносца, защищающего от турок врата христианства. Эти безумные фантазии были отражены и в его завещании, где скорбящим родственникам и друзьям предписывалось забальзамировать его тело, в полном вооружении посадив на трон и возложив его десницу на эфес двуручного меча. (Трупное окоченение и здравый смысл не дали его наследникам выполнить эти наказы.) В 1595 году Винченцо за круглую сумму нанял крошечное войско, которому предстояло воевать на стороне Габсбургов в Венгрии. Его солдаты носили черную униформу, на которой красовалась личная эмблема Винченцо, полумесяц, вместе с его латинским девизом: «Sic illustrior crescam» («Так я свечу все ярче»). Блеск Винченцо не слишком слепил глаза, поскольку он провел почти весь поход и отдавал приказы, не покидая обитой бархатом кареты, а за ним тянулась в обозе обычная свита, состоящая из поваров, любовниц и квинтета, включавшего и нового придворного композитора Клаудио Монтеверди и обязанного исполнять, сообразно с обстоятельствами, воинственные или лирические мелодии, когда того требовал герцог. Хотя впоследствии он горько сетовал на таинственный кожный недуг, которым заразился во время этой военной экспедиции, два года спустя Винченцо возглавил еще одну, столь же робкую, кампанию в Богемии. Ее столь же неутешительные результаты заставили герцога задуматься, нельзя ли применить в борьбе против мусульман более действенные и радикальные средства, например вшей, зараженных бациллами тифа, или какой-нибудь ядовитый газ, который могли бы изобрести его мантуанские алхимики.
К лету 1599 года, когда герцог Винченцо прибыл во Фландрию, он уже не выставлял себя на посмешище, однако по-прежнему являл собою любопытное зрелище, ибо всем своим поведением пытался доказать, что он один из величайших, а не самых ничтожных правителей Европы. За год до этого он прибыл в Феррару, влача за собою свиту из двух тысяч человек, дабы поздравить нового папу, Климента VIII, с долгожданным обретением этих территорий, и с такой же свитой явился в Мадрид на празднование двойного венчания Альбрехта и Изабеллы и Филиппа III и его кузины Маргариты Австрийской. В Брабанте и во Фландрии он посетил Льеж, оттуда неспешно, как пристало принцу, направился в Антверпен, а из Антверпена в размеренном темпе двинулся в Брюссель. Он омывал свое истерзанное тяжелобольное тело в минеральных водах, на целительный эффект которых всячески уповал, да и выпил этой воды много кувшинов, и повелел отправить несколько тысяч бутылок к себе домой, дабы продолжить лечение.
Весьма вероятно также, что, гостя в Испанских Нидерландах, Винченцо разыскивал художников. Он давно мечтал возродить былую славу Мантуи, некогда считавшейся наиболее честолюбивой покровительницей искусства и архитектуры во всей Северной Италии, и вернуть времена, когда приближенным советником его деда Федерико был Джулио Романо. Не проходило ни дня, чтобы «Триумф Цезаря» Мантеньи или Палаццо дель Те, удивительное творение Джулио Романо – притворяющаяся дворцом загородная вилла, где герцог мог без помех встречаться с возлюбленными, – не напоминали Винченцо о великолепном прошлом, принесенном в жертву неуместной, по его мнению, скупости Гульельмо. Конечно, от фламандцев, «fiamminghi», не стоило ожидать подобных шедевров. Однако Винченцо воображал себя почетным Габсбургом, а нельзя было побывать в Мадриде, Вене или Праге, не заметив, сколь высоко императоры этой династии ценят нидерландцев. Написанные на дереве картины Иеронима Босха, со множеством маленьких фигурок, пребывающих в лихорадочном движении, проникли в святая святых, опочивальню Филиппа II. Питер Брейгель и Антонис Мор слыли модными живописцами в Мадриде и Вене, а в Праге Винченцо наверняка познакомился с любимым фламандским маньеристом Рудольфа II, Бартоломеусом Спрангером.
Может быть, увидев работы фламандцев в церквях и патрицианских домах Антверпена, Льежа и Брюсселя и убедившись, сколь возросло их художественное мастерство, Винченцо или его советники решили, что настала пора включить «fiamminghi» в его «команду», где они будут органично дополнять таких поэтов, как Торквато Тассо, извлеченный герцогом из приюта для душевнобольных, или музыкантов вроде Гварини и Монтеверди. Прежде всего ему требовался художник, способный запечатлеть блеск его нынешней семьи с велеречивостью Тициана или Тинторетто, особенно сейчас, когда у него только что родилась младшая дочь Элеонора. Франс Поурбус, талантливый и утонченный портретист, уже был представлен герцогу во время его путешествия по Фландрии. Ему предстояло прибыть в Мантую в августе следующего года. Хотя у нас и нет тому документальных свидетельств, вполне вероятно, что Рубенса тоже могли упомянуть в беседах с герцогом или даже представить ему как многообещающего молодого живописца, которому по силам выполнить его желание и создать галерею «портретов красавиц» (вкус герцога даже в искусстве был вполне предсказуем)[107].
Не важно, был ли Рубенс нанят герцогом Мантуанским воспевать на полотне великолепие его владений или, как утверждает автор латинского «Жизнеописания» Рубенса, «испытывал страстное желание увидеть Италию» вне всяких меркантильных соображений, – спустя восемь месяцев, 8 мая 1600 года, бургомистры и городской совет Антверпена выдали ему официальную справку о состоянии здоровья, гласящую, что «благодетельным произволением Господним город наш и окрестности его дышат чистым, прозрачным воздухом», не запятнанным ни чумой, ни иным моровым поветрием. А значит, «Питера Руббенса», сообщившего властям о своем намерении отправиться в Италию, можно смело выпустить за пределы Антверпена, не подозревая в нем переносчика какой-либо заразы. Впрочем, он не вызывал и иных подозрений. Через тридцать лет после того, как Ян Рубенс бежал из Антверпена (не говоря уже о других скандалах), члены городского совета совершенно открыто именовали его «бывшим городским синдиком», предполагая, что упоминание о нем упрочивает репутацию сына, а не наоборот. Запасшись справкой о состоянии здоровья и, возможно, небольшим собранием бесценных путеводителей: только что вышедшими «Itineraria Italiae» Франца Шотта или «Delitiae Italiae», полными необходимых советов о том, как не переплатить хозяину постоялого двора и не заразиться дурной болезнью у шлюх, – Питер Пауль подготовился к путешествию, которому суждено было изменить всю его жизнь[108].
В разгар лета Мантуя не столько услаждает взор, сколько поражает величием: знойная, торжественная, не всегда приветливая, душная и влажная, она раскинулась меж темных озер и болот, образованных тинистым руслом реки Минчо. Идеальное место для придворного, Мантуя была также истинным раем для комаров, без числа плодящихся в окрестных прудах и трясинах, а в сумерки тучами атакующих густонаселенный город и демократично пьющих кровь патрициев и плебеев без разбора. Мантуя обрела известность своими лихорадками в не меньшей степени, чем произведениями искусства или лошадьми. Приступ лихорадки сразил Бенвенуто Челлини, великого и весьма словоохотливого ювелира, едва только он ступил на мантуанскую землю, и он тотчас принялся обрушивать проклятия на «Мантую, ее правителя и всякого, кому она пришлась по нраву»[109]. Насыщенный туманом и влагой воздух, словно обволакивающий город густым покровом, придавал Мантуе экзотический облик, отличая ее от мест посуше и очерченных порезче, вроде Вероны и Падуи, где, скорее, господствовала логика. В Мантуе подвизались еврейские лекари, которые умели сократить течение потливой горячки таинственными снадобьями и зельями и якобы тщились открыть философский камень в угоду завладевшей герцогом навязчивой идее. А еще в Мантуе располагались знаменитые конюшни, где, по единодушному мнению, выращивали самых чистокровных и быстроногих лошадей во всей Италии, чудесно сочетавших изящество и силу. Многие из тех, кто уверял, будто прибыл в Мантую отдать дань знаменитым шедеврам Мантеньи и Джулио Романо, на самом деле приезжали полюбоваться гнедыми и булаными, вычищенными до шелковистого блеска, щеголяющими богато украшенными седлами и уздечками. Более того, только в Мантуе можно было восхищенно созерцать одновременно искусство и лошадей в парадных залах палаццо Дукале, где дед Винченцо повелел Джулио написать своих любимых коней, бьющих копытами в собрании античных богов.
Рубенсу, любившему ездить верхом, не мог не понравиться Зал коней, Sala dei Cavalli, Сала деи Кавалли. Однако, вероятно, куда большее впечатление произвела на него удача, выпавшая на долю создателя Зала коней Джулио Романо. Нанятый законодателем придворной жизни Бальдассаре Кастильоне, в ту пору занимавшим пост герцогского посланника в Риме, Джулио быстро сделался не только любимым живописцем герцога Федерико, но и его незаменимым советником, архитектором, устроителем торжеств и празднеств, носившим официальный титул «ответственного за облик улиц» и «верховного ответственного за облик Мантуи и ее окрестностей». Он проектировал и возводил новые дворцы, заново оформлял интерьеры старых, выплачивал гонорары, определял, достойно ли выполнены заказы, отвечал за качество всего, от конюшен до серебряной посуды. Он преобразил интерьеры Палаццо Дукале, и отныне они свидетельствовали не просто о блеске и великолепии Гонзага, но и об их происхождении от римских императоров, поскольку в наиболее роскошных из них с помпой разместилась знаменитая герцогская коллекция античных мраморных статуй. Возведенное Джулио за городскими стенами, Палаццо дель Те остроумно задумывалось не только как очередная аристократическая сельская вилла, но и как своего рода театр забав и развлечений. Некоторые из его покоев, скрытые от глаз, предназначались для любовных утех герцога. Другие, где заказчики всячески умоляли Джулио дать волю фантазии, являли собою поразительное зрелище, от которого просто захватывало дух. В Зале Психеи, Sala di Psiche, Сала ди Псике, Амур и Психея, совершенно измученные Венерой, наконец соединялись в окружении сонмов сатиров и нимф, излучая чувственную истому. Однако упоение и радость сменялись ужасом и трепетом в Зале гигантов, Sala dei Giganti, Сала деи Джиганти, прославляющем победу Юпитера над титанами. Весь покой: стены, потолок, двери – был расписан телами гигантов, обреченных неотвратимой гибели и беспомощно низвергающихся в бездну, подобно огромным валунам, причем их фигуры были изображены столь массивными, что казалось, будто в своем падении они сотрясают и вот-вот обрушат стены. Созданию этого впечатления немало способствовал и хитроумно выбранный живописцем ракурс, оптически искажающий их тела. Неудивительно, что меценат столь щедро вознаградил Джулио: ему позволили возвести для себя дом, получивший по его настоящей фамилии название Каза Пиппи, фактически дворец, равного которому не знала Италия эпохи Ренессанса, столь величественный и роскошный, что он поразил даже Джорджо Вазари. Сделавшись едва ли не аристократом, Джулио отныне считался доверенным лицом герцога, «nostro maestro carissimo», «нашим дражайшим мастером».
Вероятно, успех Джулио Романо поразил молодого Рубенса, поскольку впоследствии он сам построил себе городской особняк, который не мог и присниться ни одному фламандскому живописцу, причем некоторые его детали (например, статуя Меркурия, покровителя художников) были непосредственно заимствованы из мантуанского палаццо Джулио. Но мог ли Рубенс притязать на такие почести в 1600 году, особенно в Мантуе, где правил герцог Винченцо, которому под силу было соперничать со своим дедом Федерико разве что в непомерности трат, но никак не в изысканности вкуса? Истории известно всего одно суждение герцога по поводу его фламандского живописца, «pittore fiammingo»: «Он недурной портретист»[110]. А поскольку о работах, выполненных Рубенсом во время пребывания в Мантуе, документы хранят досадное молчание, остается предположить, что его воспринимали всего-навсего как усердного ремесленника, обреченного раз за разом льстить членам герцогского семейства в портретах, соответствующих всем банальным канонам жанра и запечатлевающих моделей, сообразно желанию, либо за развлечениями, либо за молитвой. Возможно, хотя и не доказано, что Рубенс находился в свите Винченцо во время венчания по доверенности свояченицы герцога Марии Медичи и короля Франции Генриха IV, совершавшегося во флорентийском соборе Санта-Мария дель Фьоре. Однако, даже если он присутствовал на церемонии (как всячески подчеркивал двадцать лет спустя, изобразив себя на картине «Венчание по доверенности Марии Медичи и Генриха IV» с внушительных размеров крестом в руке), Рубенс, скорее всего, был лишь одним из сотен придворных. Он состоял в огромной свите, которую Гонзага полагал необходимым антуражем, когда пребывал при дворе князей, с которыми соперничал. Рубенс был всего-навсего одним из многих, кто носил герцогские цвета, представляя своего повелителя во время бесконечных охот, турниров, рыцарских состязаний с вращающимся манекеном на столбе, потешных битв, театральных представлений, пиров и маскарадов, которыми сопровождалось заочное венчание Марии Медичи и Генриха IV.
Что же изменило судьбу Рубенса? Коротко говоря, Рим.
Питер Пауль Рубенс. Лаокоон и его сыновья (копия с античного оригинала). Ок. 1601. Бумага, итальянский карандаш. 47,5 45,7 см. Библиотека Амброзиана, Милан
В Мантуе Рубенс уже обращался к обширной коллекции античного искусства, собранной Гонзага и включавшей в себя вазы, барельефы, камеи и бюсты, по большей части выставленные в великолепной галерее, которую оформил Джулио Романо. Здесь Рубенс положил начало гигантской сокровищнице образов и мотивов, которые он запомнил, запечатлел и неоднократно использовал в течение всей жизни[111]. Однако, сколь ни богаты были собрания Гонзага, поколение Рубенса единодушно сходилось на том, что ни один уважающий себя гуманист не может считать свое образование завершенным, пока не увидит своими глазами руины римской античности. Весной 1601 года Винченцо готовился к очередной, и последней, на сей раз хорватской, кампании против соединенных сил турок и венгров. Рубенс воспользовался благоприятным моментом и испросил у герцога позволение в его отсутствие побывать в Риме и заняться копированием римских памятников, прежде всего древних. Герцог не возражал, хотя и поставил ему условие непременно возвратиться в Мантую к началу пасхального карнавала 1602 года. Согласие Винченцо свидетельствует о том, что к этому времени Рубенс успел зарекомендовать себя как начинающий, но многообещающий автор картин на исторические сюжеты, и его постепенно стали воспринимать серьезно. В любом случае Винченцо сдела все, чтобы Рубенсу был оказан прием, достойный придворного живописца, «il mio pittore», и написал пользующемуся большим влиянием в конклаве кардиналу Монтальто, прося его о всяческой помощи и поддержке. Кардинал незамедлительно откликнулся чрезвычайно подробным и льстивым письмом, обещая, что живописец сможет им распоряжаться, и спрашивая, какую именно помощь ему угодно получить.
К концу июня 1601 года Рубенс уже добрался до Рима и, не теряя времени, принялся осматривать наиболее впечатляющие памятники Античности. У него не было причин пренебрегать тем, что избрал вкус большинства. В Ватикане он увидел статую страждущего Лаокоона, тщетно борющегося со змеями, которые обвивают его своими кольцами, и зарисовал его фигуру с нескольких точек зрения, словно предвидя, что впоследствии заимствует детали этой драмы для различных сюжетов: исполненный муки лик – для страстей Христовых, напряженный, изогнувшийся торс – для сцены бичевания. Некоторое время папский престол испытывал беспокойство, не зная, разрешать ли доступ к языческим скульптурам, которые могли как-то извратить официально одобренную иконографию. Но Рубенс, подобно многим своим современникам, без раздумий переносил античные образы на религиозные полотна, словно его творческое воображение заново освящало античный мрамор. За несколько лет до описываемых событий великие римские династии: Боргезе, Орсини, Чези – открыли свои частные коллекции для ученых исследователей и художников, и Рубенс с увлечением предался копированию, собрав множество рисунков для дальнейшего использования. Нетрудно вообразить Рубенса в садах кардинала Чези: летний вечер, в воздухе чувствуется благоухание тимьяна, Рубенс копирует присевшую на корточки Венеру, уже угадывая, как на его картине она предстанет обнаженной Сусанной, внезапно ощутившей на себе взоры старцев. Копировать античные мраморы было занятием одновременно ученым и соблазнительным. Теоретики искусства издавна рекомендовали его как способ постичь возвышенные идеи, воплощенные древними сначала в идеальном представлении о совершенном человеческом теле, а затем в камне. Однако графические работы Рубенса – это не попытки бесконечно повторять уроки древних. По-видимому, в нежной скромности Венеры Стыдливой или в грубой силе Геракла Фарнезе он видел квинтэссенцию основополагающих человеческих страстей, «affetti». Поэтому он совершенно органично переносил возведенные горе глаза Лаокоона на лик Христов для антверпенского «Воздвижения Креста», а массивным торсом Геракла Фарнезе награждал святого Христофора, также написанного для собора Антверпенской Богоматери. Для него они были явно не столько идеальными формами, сколько носителями и воплощением сильных чувств: воодушевления, восторга, пафоса. В своем трактате об античных статуях (дошедшем до нас только в пересказе критика XVIII века Роже де Пиля) Рубенс предостерегал от механического копирования: «Прежде всего избегайте превращать плоть в камень»[112].
Питер Пауль Рубенс. Портрет Филиппа Рубенса. Ок. 1610–1611. Дерево, масло. 68,5 53,5 см. Институт искусств, Детройт
Камень теплел, застывшее тело оживало, величие ощущало сострадание, восторг или скорбь благодаря подлинно рубенсовскому темпераменту, которым был наделен не только живописец, но и его брат Филипп, в конце 1601 года также пребывавший в Италии. Братские узы означали для них нечто большее, чем обыкновенные родственные чувства. Изначально привязанных друг к другу, их объединяло и сознание позорной семейной тайны, которую словно воплощали мрачный, согбенный под бременем вины отец и благочестивая, долготерпеливая мать. Несмотря на всю тщательно усвоенную утонченность манер и безупречность вкуса, братья не стеснялись выражать сильные чувства. «Скажу без утайки, дорогой брат, – писал Филипп Питеру Паулю, – что те, кто полагает, будто в силах изгнать из души своей все человеческие чувства, вещают вздор, подобно безумцам и глупцам, и обнаруживают черствость и жестокость. Долой апатию, что превращает живые создания в сталь, в камень, тверже даже того, коим обернулась Ниоба, продолжавшая и камнем источать слезы»[113]. А что же вызвало у них самые теплые чувства? У Филиппа – Питер Пауль, а у Питера Пауля – Филипп. «Более всего прочего, – это снова пишет Филипп в июле 1602 года, – люби во мне те братские чувства, что я к тебе испытываю»[114]. Даже там, где эта братская любовь украшалась перлами риторического самолюбования, она, без сомнения, была страстной. Братья долго пребывали в разлуке, пока Питер Пауль числился в учениках Отто ван Вена, а Филипп сначала служил секретарем у Ришардо в Брюсселе, а потом поступил в Лувенский университет, чтобы изучать философию у Юста Липсия. В мае 1601 года Питер Пауль, находясь в Мантуе, планировал путешествие в Рим. Филипп писал ему в необычайно страстном тоне, с современной точки зрения более уместном в послании к возлюбленной:
«Теперь, когда нас разделили страны, реки, горы, мое желание быть с тобою рядом только возросло. Не ведаю, что за безумные фантазии влекут нас к тому, чем овладеть мы не в силах, и заставляют нас жаждать сих предметов более, чем того, что может даровать нам судьба. Нынче, ощутив всплеск страстной привязанности, сердце мое устремилось к тебе чрез все границы и, взмыв выше горных вершин, понеслось к тебе, любимый, преисполнившись прежде неведомой нежности»[115].
В конце 1601 года «страны, реки, горы», которые обрекали братьев на мучительную разлуку, словно внезапно растаяли: Филипп наконец осуществил свое давнее желание увидеть Италию. Четыре года он проучился у Юста Липсия в Лувене и был для философа-гуманиста не просто запоминающимся лицом в университетской аудитории, а любимцем, пестуемым талантом, и потому получил право жить в доме учителя еще с четырьмя избранными дарованиями, вместе составлявшими «contubernium», семейство ученых. Филипп и его друзья помогали старому мудрецу готовить к печати издания Сенеки и Тацита и потому, вероятно, прониклись убеждением, что должны лично отправиться в Рим, дабы впитать учение стоиков там, где каждый упавший камень и обрушившаяся колонна оправдывали холодный стоический пессимизм. Даже многочисленные опасности, подстерегавшие странников на пути в Италию, стоило приветствовать, по мнению Липсия, ибо они могли научить молодого человека необходимой осторожности и умению рассчитывать только на собственные силы. Памятуя, сколь часто Липсий обсуждал с ним «Одиссею», Филипп, вослед этим занятиям, словно успокаивая встревоженного отца, написал философу латинские вирши, озаглавив их «Благодарственная песнь, сложенная по благополучном прибытии». В ней он выражал признательность учителю за то, что тот по коварным морским волнам привел его в надежную гавань и направил к «великолепию древней Италии»[116].
Филипп путешествовал не в одиночестве. Официально он считался наставником и компаньоном двоих младших учеников Липсия, Жана-Батиста Переза дю Барона и Гийома Ришардо, сына его бывшего работодателя Жана Ришардо. Рождество 1601 года они провели в Венеции, где царил столь жестокий мороз, что каналы покрылись льдом. Без сомнения, там они осмотрели все достопримечательности, «admiranda», перечисленные в составленных гуманистами описаниях путешествий. Однако, будучи серьезными последователями Липсия, они прибыли в Италию не просто как туристы, желающие полюбоваться памятниками культуры. Многие места, что особенно рекомендовал посетить Липсий, были знаменитыми средоточиями учености, а все трое намеревались увенчать свое обучение в Лувене степенью доктора права, полученной в одном из итальянских университетов. Сам Филипп выбрал Болонью, где в 1603 году ему, как некогда его отцу, присудили степень доктора канонического и гражданского права.
И только летом 1602 года братья наконец смогли воссоединиться, почти наверняка неподалеку от Мантуи, в Вероне, где Филипп также встретился со своим старым антверенским другом и однокашником, еще одним учеником Липсия, Яном Воверием. В 1602 году Рубенс написал групповой портрет на фоне Понте ди Сан-Джорджо, моста Святого Георгия, и Мантуанских озер, на котором изобразил себя самого, своего брата, Воверия и еще двоих молодых людей, предположительно воспитанников Филиппа, – Гийома Ришардо и Переза дю Барона. Это единственный автопортрет, на котором Рубенс предпочел предстать перед зрителем в образе художника за работой, с палитрой в руке. Однако над этой картиной властвует дух Липсия, глубокого ученого и заботливого воспитателя; он не позировал для «мантуанского» группового портрета лично, ибо скончался в год его создания. Впрочем, эта картина – дань его памяти.
Обыкновенно это полотно именуют «Автопортретом с мантуанскими друзьями», и, хотя оно производит впечатление скорее умело поставленной театральной мизансцены, чем неожиданной встречи приятелей, оно все же в значительной мере свидетельствует о том, сколь много значило для Рубенса дружеское общение. Питер Пауль и Филипп принадлежали к поколению, высоко ценившему братство, товарищество, содружество, и с трудом могли вообразить жизнь ученого или художника, в которой нет места обществу живых и любознательных единомышленников. Поэтому не стоит думать, будто северяне одиноко блуждали меж заросших травой руин или вчитывались в старинные манускрипты при свете потрескивающей, медленно оплывающей свечи. Ко времени путешествия Рубенс бегло говорил на изысканном итальянском и в Риме с легкостью вошел в круги немецких и нидерландских молодых живописцев и ученых, работавших в библиотеках, коллекциях кардиналов и Ватикана. Многих из них кардиналы, приближенные папы Климента VIII, не просто терпели, но даже всячески привечали и опекали. В первый год пребывания Рубенса в Риме на костре был сожжен Джордано Бруно, а один из ближайших советников папы, кардинал Цезарь Бароний, историк Церкви и христианского мученичества, агиограф, стал покровительствовать нескольким молодым северянам, по его мнению с энтузиазмом объявившим новый Крестовый поход против еретиков. Впрочем, далеко не все фламандцы и немцы восторженно поддержали это начинание. Каспар Шоппе, протестант, принявший католичество и ныне заведующий Ватиканской типографией, с жаром неофита стал доносить властям на своих нестойких в вере соотечественников, вполне оправдав ожидания папского престола. Он неутомимо публиковал воинственные диатрибы против отступников, а в какой-то момент даже попытался убедить Рубенса сделаться подданным испанского короля! Напротив, Иоганн Фабер, папский ботаник и смотритель садов и огородов, где выращивались целебные травы, обладал более широкими взглядами, был куда более терпим и куда менее фанатичен, а его преданность Церкви не мешала ему поддерживать дружеские отношения с Галилеем. Помимо прочего, Фабер был профессором ботаники в бывшей alma mater Яна Рубенса, «Ла Сапиенца», и открыл музей естествознания в собственном доме, возле Пантеона. Кроме того, он написал множество ученых трудов о драконах, змеях (особо останавливаясь на свойствах ядов) и знаменитых римских попугаях, включая чудесную птицу, принадлежавшую некоему купцу, который подверг ее способность подражать человеческой речи весьма суровому испытанию, научив петь по-фламандски[117]. Подобные люди свободно вращались в папской курии, водили дружбу с прелатами и кардиналами, служили при них библиотекарями, давали высокопрофессиональные советы по поводу покупки резных камней, идентифицировали античные бюсты и советовали иезуитам и ораторианцам, каких живописцев и скульпторов нанять для украшения церквей и часовен.
Питер Пауль Рубенс. Автопортрет с мантуанскими друзьями. Ок. 1602. Холст, масло. 77,5 101 см. Музей Вальрафа-Рихарца, Кёльн
Рубенс, с его непринужденными манерами, глубокими знаниями, лишенными и тени педантизма, и безупречными связями, оказался в самом средоточии весьма изысканного общества. Доктор Фабер увидел в нем не только живописца, но и ученого, не уступающего своему брату, – «просвещенного ценителя античных бронз и мраморов»[118]. Хотя антверпенское происхождение и могло сделаться помехой его карьере во Флоренции, где к фламандским живописцам по-прежнему относились пренебрежительно, как к умелым ремесленникам, в Риме оно было почти преимуществом. Печатные мастерские его родного города, включая типографию друга его детства Бальтазара Морета, уже выпускали альбомы с видами римских древностей и труды, посвященные истории раннего христианства, которые, как уповали кардиналы, возродят религиозное рвение католиков. А эрцгерцог Альбрехт слыл в Риме образцом просвещенного благочестия.
Именно Альбрехт впервые предоставил Рубенсу возможность зарекомендовать себя достойным автором картин на религиозные сюжеты. Взяв под свое покровительство базилику Санта-Кроче ин Джерусалемме (базилику Святого Креста Иерусалимского), он сделался щедрым жертвователем на нужды не просто очередной приходской церкви, но одного из семи римских мест паломничества, к тому же овеянного легендами. Церковь Святого Креста Иерусалимского, по преданию, основал в 320 году первый римский христианский император Константин специально для того, чтобы разместить там внушительный улов реликвий, привезенный его матерью, святой Еленой, из паломничества в Иерусалим. Наиболее изобретательная из раннехристианских любителей покопаться в мусоре, она, как считается, привезла с самого места распятия не менее трех фрагментов Животворящего Креста, один из гвоздей, которым были пронзены руки и ноги Спасителя, шип тернового венца (который, вероятно, не так-то легко было разглядеть в скопившемся на Голгофе хламе), подлинную табличку с надписью «INRI» («Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum», «Иисус Назарянин, Царь Иудейский») и самую впечатляющую свою находку – несколько комьев земли с Голгофы, пропитанных кровью Христа.
Эрцгерцог Альбрехт не нашел лучшего способа заслужить признательность нового папы, Климента VIII, как выступить щедрым донатором и заказать для церкви Святого Креста Иерусалимского религиозные картины, которые могли бы послужить ей украшением. А сколь мучительно было обнаружить, что фрагменты истинного креста, хранителем коих ему надлежало выступать, продавали в Риме уличные разносчики! А еще больше скомпрометировал его тот факт, что золотых дел мастерам не заплатили за работы, выполненные в церкви. Подумать только, а ведь он когда-то был епископом и кардиналом! Естественно, что он ухватился за предложение своего посла в Риме восстановить репутацию, заказав новый запрестольный образ и парные картины для двух приделов на тему обретения святой Еленой бесценных реликвий. А поскольку посол оказался не кем иным, как еще одним Ришардо – сыном бывшего работодателя Филиппа, члена Тайного совета, и братом его нынешнего попутчика Гийома, неудивительно, что он предложил кандидатуру Питера Пауля, и все заинтересованные стороны сошлись на том, что это вовсе не пример непотизма, а дружество в действии.
Теперь Рубенс непосредственно применил на практике столь долго накапливаемые знания и умения. Возможно, оттого, что он слишком тщательно и добросовестно воспроизвел на одной картине все аллюзии и отсылки к этому событию христианской истории, все его известные детали (и не сумел вообразить данную сцену как органическое целое), она кажется нагромождением подробностей, а не стройной композицией. Фигура святой Елены, напоминающая «Святую Цецилию» Рафаэля, была в значительной мере скопирована с античной скульптуры, которую Рубенс обнаружил в развалинах Сессория и которая изображала римскую матрону, к вящему удобству живописца овеянную благочестивой славой: согласно легенде, она приняла христианство и потому тотчас же стала почитаться истово верующими. Облаченная в приличествующие случаю одеяния, одновременно, как пристало христианке, скромные и вместе с тем не лишенные аристократической пышности, святая Елена стоит возле Триумфальной арки, держа в руке скипетр, знак императорской власти. И арка, и скипетр символизируют победу новой веры над языческой религией прежней империи,детали особенно знаменательные в церкви Святого Креста, ведь она была возведена на руинах Сессория, бывшей виллы императора Септимия Севера. Учитель Филиппа Рубенса Юст Липсий опубликовал трактат «О Кресте» («De Cruce»), провозглашающий культ Святого Креста как символа искупления людских грехов, а запрестольный образ кисти Питера Пауля продолжал традицию, согласно которой именно эта церковь явилась местом, где язычество было искуплено принятием новой веры. Правой рукой Елена, мать императора, опирается на огромный крест, вокруг коего резвятся путти – кто с монаршей державой в ручках, кто с предметами, откопанными ею в Иерусалиме: терновым венцом или табличкой, прибитой над головой Спасителя. Рубенс явно впервые осознал всю важность соотношения запрестольного образа и его непосредственного архитектурного окружения. Не случайно он «обрубает» крест, словно указывая созерцателю, что тот выходит за пределы пространства картины на потолок церкви, где воспроизведен вторично, уже в мозаике. Туда же, к этому невидимому навершию креста, устремлены возведенные горе очи Елены. На заднем плане и слева от святой витые «соломоновы столпы», украшенные виноградной лозой и, по легенде, повторявшие очертания столпов Иерусалимского храма (несколько якобы подлинных экземпляров которых находились в соборе Святого Петра), подчеркивают связь древнего Святого града и нового.
Питер Пауль Рубенс. Обретение истинного креста святой Еленой. 1602. Дерево, масло. 252 189 см. Часовня муниципального госпиталя, Грасс
Вернувшись из очередного ничтожного похода против турок и услышав об этих спиральных колоннах, не возомнил ли себя Винченцо новым Соломоном? Он совершенно точно был осведомлен во всех подробностях о работе Рубенса для церкви Святого Креста Иерусалимского, ведь Ришардо отправил ему послание, испрашивая для художника позволение пробыть в Риме подольше, чтобы он успел завершить начатое. Несколько лет спустя Рубенс написал для главной часовни, «capella maggiore», мантуанской церкви иезуитов «Поклонение Троице» с герцогом и всем его семейством (включая его покойного и неоплакиваемого отца, с которым тот непостижимым образом примирился по крайней мере на этом, исполненном набожности, полотне). При этом Рубенс поместил центральных персонажей, герцогов и их супруг, на террасе с балюстрадой, а обрамлением для нее избрал опять-таки напоминающие театральные декорации «соломоновы столпы», столь высокие, что кажется, будто они соединяют небо и землю.
Питер Пауль Рубенс. Поклонение Троице герцога Мантуанского и его семейства. Ок. 1604–1606. Холст, масло. 190 250 см. Палаццо Дукале, Мантуя
Разумеется, создать атмосферу благочестия вокруг такого семейства, как Гонзага, было непросто. В работе над картиной Рубенс опирался на венецианскую традицию, согласно которой дожа и его близких часто изображали в роли донаторов в одном визуальном пространстве со святыми или даже с Девой Марией, а композицию скопировал с великого портрета семейства Вендрамин кисти Тициана. Однако венецианцы обрели печальную известность своим пренебрежением христианской догмой, а Тридентский собор сформулировал строжайшие принципы, касающиеся изображения небесных видений, а также общения смертных и божественных персонажей в пространстве одной картины. В частности, Тридентский собор объявил, что видения Троицы могут быть дарованы лишь святым и апостолам, к каковым, мягко говоря, нельзя было причислить представителей семейств Гонзага и Медичи, даже искренне набожную Элеонору Габсбургскую, мать Винченцо. Однако картина Рубенса предназначалась для церкви Сантиссима Тринита, Святой Троицы, а по очевидным причинам Винченцо страстно желал предстать в глазах общества покровителем мантуанских иезуитов. Поэтому искать хитроумное решение он предоставил Рубенсу, к 1604 году уже признанному мастеру исторического жанра, наделенному богатым воображением. И Рубенс нашел выход: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой представлены словно бы на шпалере или гобелене, и потому семейство Гонзага преклоняет колени не перед самой Святой Троицей, а перед ее изображением, которое чудесным образом точно оживает на поверхности ткани. В этой картине Рубенс обратился и к другой местной традиции, вспомнив о фламандских шпалерах, не знающих себе равных ни в Северной, ни в Южной Европе по великолепию и яркости. Однако образы Святой Троицы отнюдь не кажутся «ткаными» или сколько-нибудь условными: они созданы из плоти и столь же телесны, сколь и земные донаторы, вот разве что лики их сияют, как и пристало божественным сущностям. Этим блестящим вдохновенным приемом, «ingenium», Рубенс тактично разделил смертный и нетленный миры, одновременно показав, что разницы между презренным ремесленным искусством ткачества и возвышенным искусством живописи не существует. Именно она, по мнению Микеланджело и Вазари, отличала и всегда будет отличать фламандского «кустаря» от итальянского художника, усердный, но туповатый труд от благородного вдохновения, и не в последний раз Рубенс торжествующе развеял этот предрассудок.
К лету 1602 года, когда братья наконец встретились в Вероне, Питер Пауль уже три месяца как вернулся на службу к герцогу. Вероятно, он воспользовался возможностью и решил выговориться Филиппу, сетуя на необходимость выполнять бесконечные поручения Гонзага. Не случайно Филипп отправил ему сочувственное письмо, в котором высказывал опасения по поводу его «благодушия, не позволяющего отказать подобному принцу, который постоянно требует от тебя все большего и большего. Впрочем, крепись и будь готов сражаться за свободу, о коей и не слыхивали при мантуанском дворе. Ты имеешь на это полное право».
Легко сказать. Напутственные слова Филиппа были заимствованы прямо из стандартного арсенала изречений о возвышенной невозмутимости пред лицом злобных и жестоких правителей – изречений, столь ценимых неостоиками. Однако любимым философом всех учеников и последователей старика Липсия был Сенека, автор трагедий и сам трагический актер на сцене жизни, готовый выполнить любое желание своего коварного повелителя Нерона. Он даже предпочел совершить самоубийство, лишь бы не причинить неудобство императору и избавить его от угрызений совести. Хотя Питер Пауль и был благодарен брату за преданность и сочувствие, он еще не достиг того успеха и не обрел той независимости, чтобы столь дерзко самоутверждаться. А заказ, над которым он работал в Мантуе в 1602 году, в любом случае был вполне достоин его дарования: ему предстояло написать цикл эффектных и величественных исторических картин на темы «Энеиды», стихотворного эпоса Вергилия, великого поэта и уроженца Мантуи. В этом цикле Рубенсу еще далеко не удается достичь того сочетания героического драматизма и чувственной плавности, которое впоследствии станет «фирменным знаком» его лучших исторических полотен. Многочисленные заимствования у Рафаэля, Тициана, Веронезе, Мантеньи и даже Джулио Романо свидетельствуют, что Рубенс переносит на холст черты той или иной индивидуальной манеры, но органического собственного стиля составить из них не может, всюду виднеются «швы» и «торчащие нитки». Однако в отдельных фрагментах этих крупных композиций под спудом многочисленных визуальных аллюзий различима большая творческая свобода, большая уверенность, словно сейчас, в свои двадцать пять лет, Питер Пауль уже не преклоняет почтительно голову перед итальянскими мастерами, а без страха смотрит им в глаза как равным. Так, взор Юноны в «Совете олимпийских богов» горит гневом и ревностью, она, негодуя, вскидывает руку, показанную в идеальном ракурсе, ее тело облачено в свободный травянисто-зеленый хитон, и все эти детали, взятые вместе, создают в многофигурной композиции ощущение напряженности, словно Юнона посылает отравленную стрелу прямо в сердце своей ненавистной соперницы, белокурой полуобнаженной Венеры, которая любуется собственной красотой одновременно тщеславно и вяло. Это жест художника, не боящегося идти на серьезный риск и помериться силами со знаменитостями. А когда весной 1603 года мы наконец слышим собственный голос Рубенса в целой череде исем, отправленных им статс-секретарю герцога Аннибале Кьеппио, оказывается, что говорит он на удивление откровенно и уверенно, и это вполне уместно, принимая во внимание предстоящее ему путешествие.
Поначалу казалось, что молодому художнику оказывают честь, а не требуют от него невозможного. 5 марта 1603 года герцог написал своему послу в Испании Аннибале Иберти, что его придворный художник Рубенс доставит королю Филиппу III и его первому министру герцогу Лерме (который фактически правил страной) множество удивительных драгоценных даров. Хотя герцог славился непомерным, безумным расточительством, в данном случае он предпринял идеально рассчитанный дипломатический маневр. На всем Апеннинском полуострове, от Милана, владения испанских Габсбургов на севере, до принадлежавшего им же королевства Неаполитанского на юге, главной силой была испанская корона. Несмотря на все свои недостатки, Винченцо был отнюдь не глуп. Он вполне отдавал себе отчет в том, сколь важную роль в бесконечных разногласиях Испании и Франции играет Мантуя. Теперь, когда на испанский престол взошел новый король, Винченцо забеспокоился, как бы его герцогство не сочли слишком слабым и ненадежным в выборе союзников, чтобы предоставить ему безусловную свободу действий. Недавний пример Феррары показал, что ренессансные города-государства поглощаются могущественными соседями и по не столь веским причинам. Чудесные дары, поднесенные к стопам нового короля и его фаворита, были предназначены убедить Филиппа в несметном богатстве Гонзага и их вечном, непреходящем благоговении пред самым могущественным из христианских правителей, а заодно, сколь бы странно это ни звучало, подкрепить притязания Винченцо на звание адмирала и пост главнокомандующего испанским флотом, который прежде занимал генуэзец Андреа Дориа, запятнавший себя многими поражениями.
Это был пример продуманного в мельчайших деталях ренессансного потлача, дань уважения, словно бы уравнивавшая в правах принимающего дары и дарителя. Состав презентов был рассчитан таким образом, чтобы польстить всем известным слабостям испанского двора и одновременно показать сильные стороны двора мантуанского: искусство, алхимию и коней. От своих мадридских агентов Винченцо, без сомнения, слышал, что Филипп III – совершенная противоположность своему великому и мрачному отцу: что он весел, элегантен, привержен наслаждениям и испытывает непомерную страсть к охоте, превосходящую обычную любовь правителей к этому времяпрепровождению. Поэтому главным даром Винченцо избрал небольшую изящную карету, удобную, богато украшенную и специально задуманную для езды по сельским дорогам, а также величайшее сокровище – шесть гнедых коней знаменитого мантуанского завода. Не важно, на заячью или оленью охоту отправится испанский король; его снаряжение будет великолепным – и все это благодаря герцогу Гонзага.
Однако печальный факт заключался в том, что легкомысленный король в действительности не правил страной. Вся власть была сосредоточена в руках его фаворита герцога Лермы. Именно он предоставлял или не предоставлял подданным аудиенцию у монарха, именно ему король доверил ключи от государственной казны, откуда немалые суммы регулярно перекочевывали в карманы фаворита. Недаром испанцы прозвали его «el mayor ladrone», «великий вор». Однако Лерма был не просто вором, а вором с претензиями на некую культурную утонченность, и предназначавшийся ему дар был призван всячески угождать его непомерному тщеславию самозваного эстета. Поэтому-то и был выбран Рубенс. Поэтому-то в подарок Лерме и предназначались сорок картин, за исключением портрета Винченцо во весь рост кисти Поурбуса и «Святого Иеронима» Квентина Массейса, – сплошь копии шедевров, главным образом Рафаэля и Тициана, из коллекции Гонзага, написанные в Риме уроженцем Мантуи Пьетро Фачетти. Таким образом, Лерме предстояло получить некую копию герцогской картинной галереи, долженствующую напомнить парвеню, что возвышенный вкус таких династий, как Гонзага, не так-то просто в себе воспитать. А поскольку новый испанский двор, по слухам, с таким же жаром предавался мирским удовольствиям, с каким прежний – католическому благочестию, Винченцо включил в число даров высокие вазы (золотые и серебряные для герцога, высеченные из горного хрусталя – для монарха), наполненные духами. Столетием раньше Муцио Франджипани сделал невероятное открытие: оказывается, ароматические эссенции, полученные из эфирных масел, растворяются в очищенном спирте. Отныне затейливые сочетания ароматов можно было закреплять в алкогольной среде и разливать в роскошные флаконы, горлышки которых потом закупоривали притертыми стеклянными пробками и запечатывали свинцом. Сестре Лермы графине Лемос, известной своим благочестием, предназначалось большое распятие и два подсвечника из горного хрусталя, его наиболее могущественному советнику дону Педро Франкезе – ваза духов, а также узорная камчатная ткань и золотая парча. И, как всегда не оставляя попыток дополнить свой, и без того внушительный, музыкальный ансамбль очередным талантом, Винченцо послал круглую сумму главному капельмейстеру испанского двора.
Европейские правители постоянно обменивались редкостными драгоценными дарами, они служили своеобразной дипломатической валютой в не меньшей степени, чем договоры, династические браки и ультиматумы. Однако с уверенностью можно сказать, что подобные чудесные предметы никогда не проделывали путешествие длиною в тысячи миль, разделяющие Мантую и Испанию. Личная ответственность за их благополучную доставку, конечно, могла расцениваться как лестный знак доверия, оказываемого герцогом молодому художнику, свидетельство того, что в Мантуе в нем видят нечто большее, нежели придворного лакея. Одновременно Рубенс отдавал себе отчет в том, что, если он не выполнит возложенную на него миссию, ему придется лично отвечать за ее провал перед принцем, отнюдь не славящимся снисходительностью. Несмотря на все опасения, он, вероятно, особенно остро ощутил и почетный, и рискованный характер этого поручения, когда Винченцо собственной персоной явился надзирать за тем, как он заворачивает и упаковывает произведения искусства. Столь важную задачу нельзя было доверить помощникам. Питер Пауль со всевозможным тщанием обернул картины двойным слоем густо навощенного сукна, напоминающего современную клеенку, а затем поместил их в деревянные ящики, на всякий случай обитые изнутри жестью. Тяжелые хрустальные предметы завернули в бархат и обложили шерстяными подушечками, а потом бережно укутали несколькими слоями соломы. Кроме того, никто и не помышлял, что гнедые красавцы пройдут рысью весь путь до морского побережья, поэтому для них придумали специальное передвижное стойло, из которого несколько раз за время странствия их надлежало выводить и купать в вине, дабы в Мадриде они предстали перед монархом во всем своем блеске. Точно так же решено было построить для маленькой охотничьей кареты некое подобие «футляра на колесах», высокую повозку, и запрячь в нее мулов, чтобы на горных дорогах драгоценному подарку ничто не угрожало. Конечно, такой способ передвижения обещал быть медленным и утомительным, но, как надеялся Рубенс, совершенно надежным.
Пятого марта 1603 года нескончаемая процессия, состоявшая из карет, повозок, лошадей, перешла мост Святого Георгия и потянулась на юго-восток, в сторону Феррары. Спустя десять дней, после многотрудного перехода через перевал Фута, разделяющий Эмилианские и Тосканские Апеннины, Рубенс и его колонна достигли Флоренции. В его первом письме Аннибале Кьеппио, посланном спустя еще три дня, уже ощущается степень ужаса и отчаяния оттого, что исключительно важное предприятие не было продумано заранее. В Болонье мантуанцам не удалось найти мулов, а погонщики, которые пришли посмотреть на повозку-футляр, построенную для королевской охотничьей кареты, объявили, что она не выдержит перехода через Апеннины, а развалится по дороге. Единственной альтернативой было оставить ее в Болонье, привязать королевскую карету веревками к телеге, запряженной волами, и так медленно-медленно ползти через перевалы. Обеспокоенный тем, удастся ли ему зафрахтовать корабль до Испании в тосканском порту Ливорно, Рубенс уже выехал во Флоренцию с лошадьми и остальными повозками. Услышанное во Флоренции усилило его тревогу. Тосканские купцы, к которым он обращался в надежде нанять торговое судно для плавания из Ливорно в Испанию, лишь «в изумлении крестились, не зная, что и думать о столь нелепых намерениях, и заявляли, что они попробовали бы сначала двинуться в Геную и уж оттуда отплыть, а не пытались бы идти в обход в Ливорно, не убедившись предварительно, что путь безопасен»[119]. Возможно, Рубенс придерживался того же мнения и втайне подозревал, что герцог мог быть движим каким-то скрытым мотивом, в который не стал его посвящать, хотя бы всего лишь детским желанием похвалиться богатством своих даров перед дядей своей супруги Фердинандом I Медичи, великим герцогом Тосканским. Обнаружив во время вечерней аудиенции, что великий герцог куда лучше осведомлен о деталях его испанской миссии, чем он сам, Рубенс лишь укрепился в своих подозрениях. «Более того, он сообщил, польстив моему самолюбию, что знает, кто я, откуда родом, каково мое поприще, какую должность я занимаю, а я стоял и ошеломленно слушал»[120]. Фердинанд проявлял интерес к этому путешествию не только из любезности. Через фламандца Яна ван дер Несена, состоявшего у него на службе, он осведомился у Рубенса, найдется ли в его поезде место еще для одной небольшой верховой лошади, обученной ходить под дамским седлом, и для мраморного стола, которые он хотел бы передать некоему испанскому офицеру в порту Аликанте. И хотя перспектива увеличить и без того непомерный груз наверняка вызывала у Рубенса тревогу, он согласился, сознавая, что принцам лучше угождать, чего бы это ни стоило.
Однако, как бы Фердинанд Медичи ни желал оказать Рубенсу ответную любезность, изменить погоду он был не в силах. От затяжных проливных дождей желтовато-коричневые воды Арно вышли из берегов, наводнение задержало прибытие и без того замешкавшейся охотничьей кареты и не позволило Рубенсу вовремя отправиться в Ливорно, чтобы зафрахтовать подходящий корабль для плавания в Испанию. Во Флоренции до него дошли неутешительные известия, что, поскольку о снабжении его экспедиции не позаботились заранее, ему придется путешествовать в два этапа: сначала из Ливорно отплыть в Геную и только оттуда – в Аликанте. Однако теперь, когда герцог Фердинанд был заинтересован в том, чтобы как можно быстрее отправить Рубенса в Испанию, препятствия волшебным образом исчезли. Ко времени описываемых событий Ливорно превратился в один из самых оживленных портов во всем Западном Средиземноморье; в его гаванях стояли множество барков, груженных тосканскими товарами: оливковым маслом и сухофруктами, а также солью из лагуны, посылаемой из маленьких портов Крозетто, Орбетелло, Монтальто и Корнето. За ними располагались более крупные galionetti и двухмачтовые, большого водоизмещения шхуны, которые итальянцы именовали просто «navi». Некоторые из этих «navi» были оснащены явно чужеземными, северными снастями, а их команды, нанятые в Гамбурге или Антверпене, говорили на гортанных, хриплых немецком и фламандском. Именно одно из таких невзрачных, но широких и надежных судов Рубенс зафрахтовал для перевозки своего бесценного груза. Спустя три дня после Пасхи, 2 апреля, он написал, что наконец-то доставил на борт людей, коней и вещи и теперь дожидается попутного ветра, чтобы отплыть в Испанию.
Обычно весной в этой местности дуют западные ветры, а значит, плавание из Тирренского моря в Восточную Испанию превращалось в утомительный и невероятно медленный переход. В зависимости от силы встречного ветра морское путешествие из Ливорно в Аликанте могло занять от недели до, в худшем случае, месяца[121]. Корабль Рубенса прибыл в порт Аликанте спустя три недели после отплытия из Ливорно, проделав путь медленно, но избежав мелей, штормов и крушений, что было не так уж плохо, если учесть, что плыли они в сезон весенних бурь. Как только дары выгрузили на берег, Рубенс лично проверил состояние их всех: от гнедых коней до хрустальных подсвечников – и с облегчением удостоверился, что ни один подарок не пострадал. Испанские власти вели себя необычайно любезно: недаром Рубенс так долго и терпеливо налаживал полезные связи и всячески улещивал чиновников. Фердинанд Медичи нашел фламандских купцов, которые проводили его из Ливорно и встретили в Аликанте, оказав немалую помощь.
Еще до отплытия из Италии Рубенс осознал, что поступил крайне опрометчиво, поверив заверениям мантуанского двора, что последний этап его странствия, путь посуху от Аликанте до Мадрида, будет весьма необременителен и прост. Достаточно было взглянуть на карту, чтобы убедиться, что двести восемьдесят миль по гористой, скалистой местности, которые отделяли Рубенса и его поезд от Кастильского плоскогорья, никак не преодолеть за «три-четыре дня», на которые в Мантуе ему были отпущены деньги. Рубенс написал Кьеппио разгневанное письмо, уведомляя, что, судя по всему, будет вынужден тратить на путешествие личные средства, выделенные герцогом, а если недостанет и их, то брать в долг; иначе им не добраться до Мадрида. Впрочем, одновременно он обещал вести расходные книги столь тщательно и честно, что герцог Винченцо сможет убедиться в его экономности. Винные ванны для коней обходились недешево.
Однако выяснилось, что деньги – наименьшая из всех бед Рубенса. Не успел его поезд двинуться из Аликанте на север, как андалузские небеса потемнели, словно нечищеное железо, и обрушили на длинную колонну людей, коней и повозок проливной дождь, промочивший всех до нитки и не прекращавшийся на протяжении двадцати пяти дней. Испанские дороги превратились в непролазное месиво, в котором до колен увязали мулы, то и дело норовившие лягнуть и укусить. Спутников Рубенса все чаще сражала лихорадка, и их приходилось оставлять на одиноких постоялых дворах, где им, слабым и измученным, не могли предложить ничего, кроме жидкой кашицы из пшеничной или каштановой муки да черного хлеба. Где Рубенс мог найти пристанище, чтобы обеспечить мантуанским скакунам их ритуальные омовения? В насквозь промокших конюшнях, источающих смрад крысиного помета и протухшего сыра, в мощеных дворах любезных идальго, благоговейно принимающих королевских послов, в крытых галереях бедных и суровых, но гостеприимных монастырей?
Спустя неделю после выхода из Аликанте мантуанский поезд, ныне весьма потрепанный и забрызганный грязью, неуклюже, с грохотом, вкатился в Мадрид. Если Рубенс и испытал при этом облегчение, ему не суждено было продлиться долго. Живописцу сообщили, что королевский двор находится не в Мадриде, а в Вальядолиде, еще в ста милях к северу, и путь туда пролегает (разумеется) по каменистой, скалистой местности. Поскольку все в Испании знали, что это герцог Лерма настоял на переезде двора, якобы для того, чтобы изъять короля из-под власти мадридской бюрократии и тем самым угодить кастильскому дворянству, Рубенсу простительно было задаваться вопросом, почему же ни герцог Винченцо, ни великий герцог Фердинанд его об этом не предупредили. Прежде чем усталый караван снова двинулся в путь, Рубенс, не зная, увидит ли он еще Мадрид, побродил по залам Эскуриала, восхищаясь королевской коллекцией и делая карандашные наброски картин Рафаэля и Тициана, гения линии и гения цвета. Объединить эти техники, избежать выбора «disegno» или «colore» в пользу их синтеза – вот сколь честолюбивую задачу он себе поставил, не менее сложную, чем догнать королевский двор.
Повозки и кони двинулись на север. Как по мановению волшебной палочки, небеса прояснились. 13 мая, спустя почти месяц после того, как мантуанский караван покинул Аликанте, Рубенс вошел в Вальядолид, откуда написал герцогу Винченцо: «Я переложил на плечи синьора Аннибале свою ношу; отныне он ответствен за людей, коней и вазы: вазы нисколько не пострадали, кони столь же гладкие и блестящие, словно только что выведены из конюшен Вашей Светлости»[122]. Впрочем, Иберти, мантуанский посланник, не слишком-то радовался возложенному на него поручению и встретил Рубенса с холодной вежливостью, не оказав ему радушного приема, на который, по мнению художника, он имел право рассчитывать после всех перенесенных испытаний. Однако нелюбезный прием показался не столь уж удивительным, когда Иберти объявил, что даже не слышал о миссии Рубенса. Кони? Какие кони? Столкнувшись с этим показным недоумением, Рубенс, по собственным словам, продемонстрировал озабоченность, но вел себя безупречно вежливо: «Я с удивлением отвечал, что мне точно известно доброе намерение Его Светлости, но что толку тратить время, припоминая забытое; в конце концов, я не первый гонец, отправленный ему герцогом, быть может, известия обо мне как-то затерялись в суматохе лиц и событий. Однако сейчас, не имея иных указаний от Его Светлости, мы должны действовать так, словно повинуемся его приказу. Возможно, у Его Светлости были свои причины не уведомлять его о моей миссии». По крайней мере, Иберти помог Рубенсу в его весьма и весьма затруднительном материальном положении. Его личное жалованье и деньги, полученные на путевые издержки в Мантуе, давным-давно подошли к концу; у него не осталось бы ни гроша, если бы один местный купец не ссудил ему некоторую сумму в ожидании возмещения расходов из герцогской казны. Таким образом, ему приходилось уповать лишь на великодушие Иберти, который предоставил «il Fiammingo», как он язвительно именовал Рубенса, новую одежду и жилище, где Рубенсу предстояло разместить также своих людей, грузы и коней.
Однако вскоре Питер Пауль выяснил, что до возвращения домой и желанной оплаты еще далеко. Двор отправился охотиться на кроликов куда-то под Бургос, дальше к северу. Еще об одном коне игры в догонялки с королем не могло быть и речи. У Рубенса не было ни сил, ни денег, чтобы двинуться ему вслед, а кроме того, он ждал появления кареты, которая в конце концов благополучно прибыла 19 мая. Он решил просто дожидаться возвращения двора с охоты, пусть даже на это уйдут недели или месяцы. Может быть, эта маленькая передышка пришлась ему по душе. Он мог спокойно распаковать драгоценные вещи, вычистить лошадей, навести лоск на карету, отполировать вазы, дабы дары предстали перед королем и усладили его взор, как было угодно герцогу.
Нетрудно вообразить следующую сцену. Ясное весеннее утро, наконец-то пришедшее на смену многодневному дождю, солнечный свет, проникающий сквозь листья каштана. Питер Пауль в лучшей своей широкополой шляпе, прикрывающей от немилосердных лучей леонского солнца голову с уже несколько поредевшими на макушке волосами. Вот он указывает тростью на ящики, веля их открыть. Вот он обходит коней, а те потряхивают гривой и беспокойно переступают с ноги на ногу в своих загонах. Вот он осматривает карету, стоящую чуть дальше, отполированную, сияющую, утонченную и элегантную, достойную Габсбурга. Вот постепенно в душе его появляется чувство удовлетворения, ведь его усилия оказались не напрасны, он уже ждет слов благодарности от скупого на похвалы Иберти. А потом вносят в дом картины, ящики ставят на бока.
Когда у него внезапно пересохло во рту, когда словно прервалось дыхание? Когда перед ним во всей своей полноте предстала катастрофа? Тогда ли, когда вскрыли деревянные ящики и в грязь полетели гвозди? Или когда в ноздри ему ударило зловоние мокрой соломы и плесени? Может быть, когда он стал доставать сгнившие полотна из жестяных футляров, его, незаметно для окружающих, охватила дрожь? Не принялся ли он открыто клясть «злосчастный рок», словно трагический актер на сцене, и если да, то на фламандском или на итальянском, а латинские сетования приберег для письма герцогу Винченцо? Одни полотна напоминали жертв чумы, их поверхность вспухла, покрылась пузырями, переливалась жирным блеском. Другие картины казались прокаженными, сплошь в струпьях отвалившейся краски, свисающих с холста. Иногда отделившаяся краска скапливалась на дне ящиков наподобие сухих щепок. Как только Рубенс осторожно проводил рукой по поверхности полотен, живописный слой отставал легко, словно сброшенная змеиная кожа.
Что же он мог спасти? Отдышавшись, Рубенс, весьма методичный в своих привычках и не склонный к панике, понял, что не все потеряно. Два оригинала – «Святой Иероним» Массейса и портрет Винченцо кисти Поурбуса, словно тщеславие модели стало ангелом-хранителем для картины, – находились в недурном состоянии. Пострадавших от испанского дождливого сезона бережно извлекли из жестяных футляров и ящиков, отмыли от плесени и грязи, а потом оставили сушиться на долгожданном кастильском солнце. Даже там, где краска не отделилась от холста, она зачастую сильно поблекла, но красочный слой можно было восстановить умелой ретушью. Волей-неволей приходилось учитывать, что процесс этот будет медленным и многотрудным и, возможно, потребует не нескольких дней, а месяцев. Иберти иначе представлял себе возмещение утраченного. Не будет ли быстрее и проще нанять местных художников, чтобы они написали «с десяток лесных пейзажей», которыми можно будет заменить пострадавшие картины? Это предложение ужаснуло Рубенса даже больше, чем само несчастье. Исполненное пренебрежения, оно словно вторило банальности, приписываемой Микеланджело, что, мол, фламандцы только на то и годятся, чтобы писать травку на лужайках. Ему доводилось видеть современную испанскую живопись, он счел ее «ужасно неумелой» и потому ни за что на свете не хотел «запятнать себя посредственными картинами, недостойными той репутации, которую я здесь уже приобрел»[123]. Он написал Кьеппио, признаваясь, что стряслась беда. В этом, что вполне понятно, встревоженном послании Рубенс позволил себе съязвить. Он уже соскребывал с холста вспухшие пузыри краски, накладывал первую ретушь и прокомментировал это занятие сардоническим замечанием, которое, как он безуспешно пытался уверить, было начисто лишено горечи: «Эту работу я исполню со всем умением и искусством, на какое только способен, если уж Его Светлость герцог соблаговолил назначить меня хранителем и перевозчиком произведений других живописцев, не включив в эту коллекцию ни одного мазка, сделанного моей рукой».
Однако Рубенс был слишком сильно привязан к своему брату и слишком глубоко разделял его философию, чтобы не проявить стоическую твердость и хладнокровие в несчастии. Будь верен самому себе, и кто знает, быть может, беда еще обернется благом. Отвергнув помощь посредственных живописцев и отказавшись пожертвовать собственным стилем, Рубенс осознал, что перед ним открывается возможность упрочить свою репутацию талантливого художника. Он не только не пострадает, но и выиграет от катастрофы. Иберти распространил слух, будто Рубенс ворчит, что на восстановление полотен ему потребуется не менее девяти месяцев, и будто все, на что он способен, – это типично «фламандские» жанровые сцены крестьянских развлечений. Что ж, хорошо, он примет вызов судьбы, чтобы посрамить всех недругов, начиная с высокомерного дипломата, явно вознамерившегося его унизить. Поскольку свежая краска на холстах неминуемо вызовет сомнения у любого хоть сколько-нибудь серьезного ценителя, он превратит фламандскую искренность в достоинство, разительно отличающееся от грубой и неуклюжей уловки, предложенной Иберти. А если он будет работать искусно и проворно, хотя и бережно и без ненужной спешки, то сможет зарекомендовать себя как талантливый реставратор. Более того, у него появится возможность заменить две безвозвратно погибшие картины своими оригинальными полотнами, написанными специально для этого случая.
Известно, что одной из этих картин стала работа «Демокрит и Гераклит», изображающая философа веселого и философа скорбного: они сидят под деревом, а между ними стоит глобус, символизирующий непостоянство человеческих притязаний и их зависимость от моды. Разумеется, подобный сюжет Рубенс выбрал не случайно. Прежде всего он был призван показать в выгодном свете вкус и эрудицию Рубенса; кроме того, он отсылал к «Афинской школе» Рафаэля, самому знаменитому изображению этих философов, а также к ее гравированным репродукциям, выполненным Корнелисом Кортом и необычайно популярным в Европе начала XVII века. Демонстрируя свое знание классической древности перед испанским двором (и в особенности перед мантуанским посланником, который по-прежнему пренебрежительно отзывался о нем как о «фламандце», словно он был низшей формой разумной жизни), Рубенс также мог опираться на традицию, согласно которой истина и поступок рождаются из борьбы противоположностей[124]. Он наверняка правильно рассчитал, что ученые аллюзии на философские постулаты стоиков, и в частности на призыв сохранять жизнерадостность, хладнокровие и невозмутимость под жестокими ударами судьбы, будут восприняты герцогом Лермой как лестный намек на его собственные утонченные манеры, поскольку он прославился умением изящно балансировать меж серьезностью и веселостью. Однако в глазах посвященных картина представала и фрагментом рубенсовской автобиографии. Пережив множество несчастий и бед, внезапно выпавших ему на долю, Рубенс, подобно дюжему Гераклиту, мог усмехнуться, глядя на тщетные человеческие стремления переделать мир по-своему. Однако в глубине души он был современным Демокритом: добродушным и бестрепетно принимающим несчастья; превратности судьбы не вызывали в нем ни тревоги, ни гнева, а могли всего лишь позабавить, да и то слегка. В конце концов, именно Демокрит на картине укрывает мир складками своего широкого одеяния, пряча его от бед, и защищает изящной рукой с длинными, типично рубенсовскими, перстами.
Ошеломленный непреклонной решимостью «фламандца» настаивать на своем, Иберти отказался от намерения заменить испорченные картины быстренько написанными к случаю пейзажами, но дал Рубенсу понять, кому принадлежит власть в мантуанском посольстве. Дело в том, что, когда двор, вдоволь натешившись отстрелом кроликов, в начале июля вернулся в Вальядолид, не Рубенс, а Иберти передал восхищенному королю карету и коней, хотя герцог Винченцо в свое время повелел сделать это именно Рубенсу. В письме герцогу Рубенс изображал эту церемонию, стараясь сдерживать раздражение, как того требовал придворный этикет, и потому просто добавил: «Я с радостью заметил, что король выражает свое одобрение жестами, кивками и улыбками». Даже в этом докладе Рубенс деликатно намекал Винченцо на то унижение, которому его намеренно подвергли и о котором он написал прямо в куда более откровенном письме Кьеппио: во время церемонии передачи даров ему было отведено одно из дальних мест, он стоял, вытягивая шею из-за спин собравшихся придворных, поэтому с трудом различал короля и вынужден был полагаться в своих суждениях на его жесты и мимику. Нетрудно было предсказать, что отныне в его письмах о поведении Иберти станут сквозить нотки неискренности. Например, по поводу своего понижения в должности Рубенс высказывался так:
«Я не хотел бы неверно истолковать это [внезапное нарушение протокола], ибо дело не стоит обсуждения, но был удивлен столь неожиданным решением. Ведь Иберти неоднократно упоминал в беседах со мною о письме Его Светлости герцога, в котором тот настаивал, чтобы меня лично представили королю… Я не хотел бы сетовать, под стать ничтожеству, жаждущему высочайшего внимания, и не испытываю возмущения, лишившись монаршей благосклонности. Я всего лишь описываю эти события так, как они происходили на самом деле»[125].
И только.
Вторая церемония вручения даров, на сей раз в доме герцога Лермы, ничем не напоминала первую. Рубенс разместил более крупные полотна в парадном зале, а картины меньшего формата, в том числе «Демокрита и Гераклита», – в соседнем. Герцог, сама любезность, явился на эту импровизированную выставку в свободном домашнем платье. Более часа он осматривал коллекцию с видом утонченного знатока, вполголоса повторяя похвалы, и наконец объявил, что герцог Мантуанский «послал ему несколько своих величайших сокровищ, совершенно угодив его вкусу»[126]. Внезапно перед Иберти и Рубенсом встала дилемма, хотя и не такого свойства, чтобы ужасно из-за нее терзаться: Рубенс столь великолепно выполнил свою работу, что герцог предположил, будто ему показывают оригиналы. Это впечатление усиливалось еще и оттого, что, по словам Рубенса, «некоторые картины, благодаря хорошей ретуши, обрели облик старинных полотен вследствие причиненного им непогодой вреда»[127]. Рубенс подчеркивал, что никак не пытался убедить в этом ни герцога, ни тем более королевскую чету, разделившую всеобщие восторги. Впрочем, он не тщился и уверить их в обратном. Гераклитова искренность не распространялась столь далеко, чтобы выставить идиотами короля и его первого министра.
Питер Пауль Рубенс. Конный портрет герцога Лермы. 1603. Холст, масло. 289 205 см. Прадо, Мадрид
Подобная сдержанность оправдала себя. Лерма пребывал в восхищении. Какой талант, какая утонченность, какое глубокомыслие! Он даже предположил, что Рубенс проявил особую деликатность, собрав столько картин, изображающих утешение верой, поскольку он скорбел по своей дорогой герцогине, ушедшей из жизни всего несколько дней тому назад! Такое дарование нельзя было отпускать, его следовало оставить при величайшем дворе христианского мира! Поэтому Лерма отправил герцогу Винченцо послание, прося его освободить фламандца от обязанностей придворного живописца с тем, чтобы он мог остаться в Испании. Осознавая, что акции его придворного художника возросли в цене, герцог, естественно, с сожалением отказал и среди прочего напомнил Рубенсу о поручении – «написать портреты самых прекрасных испанок». У Винченцо явно было собственное представление о герцогской коллекции.
Не желая уступать своего нового протеже без борьбы, Лерма измыслил проект, который Винченцо не мог отвергнуть, не боясь показаться нелюбезным: он решил заказать Рубенсу свой конный портрет. Рубенсу представилась величайшая возможность показать себя уже не достойным любопытства новичком, а зрелым живописцем, однако этот заказ таил в себе сложности и даже риск, который Рубенс различил своим пробуждающимся политическим чутьем. Канон монарших конных портретов установил Тициан, написавший Карла V в битве при Мюльберге, в полном вооружении, с рыцарским копьем в руке. Эта картина висела в залах Эскуриала, и Рубенс, пережидая испанские дожди, успел сделать с нее копию. В свою очередь, шедевр Тициана отсылал к прообразу всех конных императоров, запечатленных на полотне или высеченных в камне, – к статуе Марка Аврелия, возвышающейся на Капитолии. В этом скульптурном изображении великого героя воплощены все черты идеального монарха: он хладнокровно, как пристало стоику, подчиняет огромного коня, тем самым демонстрируя власть над миром, полководческий талант и философическое спокойствие[128]. В эту внушительную формулу Тициан добавил еще и специфическую христианскую составляющую, и потому Карл, король Испании и император Священной Римской империи, восседающий на великолепном скакуне, превращается еще и в «miles christianus», идеального рыцаря воинства Христова, вооружившегося для битвы с язычниками, еретиками и турками. Нидерландец Корнелис Антонис в бесчисленном множестве гравюр снова и снова использовал этот образ всадника, восходящий к статуе Марка Аврелия, чтобы прославить монаршие добродетели, в том числе короля Франции Франциска I, Генриха VIII Английского и императора Священной Римской империи Максимилиана.
Так живописцы решались изображать даже сына Карла V, Филиппа II, несмотря на то что он имел заслуженную репутацию монарха, ведущего священные войны за письменным столом в Эскуриале. Хотя на большинстве портретов Филипп предстает в облике значительно более мирном, возможно сознательно пытаясь избежать сравнений со своим блистательным отцом, были и исключения, в частности картина «Торжественный въезд Филиппа II в Мантую» Тинторетто, которую Рубенс по очевидным причинам не мог не знать. Внук же Карла, Филипп III, с радостью, не испытывая никаких угрызений совести, позировал в образе идеального рыцаря и конного воина, хотя и ополчался по большей части на оленей и вепрей.
Именно потому, чтомолва уже приписывала Лерме не иллюзорную и ритуальную, а действительную власть в королевстве, Рубенсу приходилось быть очень осторожным, чтобы не придать Лерме слишком царственного облика и тем самым не оскорбить монаршее достоинство. Он принял решение развернуть конную фигуру портретируемого на девяносто градусов по сравнению с Карлом V, изображенным Тицианом в профиль, и показать его лицом к зрителю, как Эль Греко – христианского рыцаря на картине «Святой Мартин и нищий». В то время Лерма носил траур по недавно умершей супруге, пребывал в совершенно несвойственном ему меланхолическом настроении и даже склонен был к уединению. В таком случае Рубенс поставил себе задачу создать образ «министра в доспехах», не лишенный благочестивой суровости, однако производящий впечатление энергичности и властности. А разве есть лучший способ добиться такого эффекта, чем, как он уже делал в «Демокрите и Гераклите», прибегнуть к контрасту? Вот он и посадил всадника в черном – с темными, тронутыми сединой волосами мудреца – на великолепного серого скакуна, настоящего Пегаса или коня из рыцарских романов, с огромными черными глазами, с настороженными ушами, с кудрявой, плавно ниспадающей гривой. Судя по развевающейся по ветру гриве, конь скачет, по крайней мере идет быстрой рысью, однако герцог, одной рукой сдерживающий скакуна, а в другой сжимающий маршальский жезл, предстает воплощением совершенного спокойствия. В эпоху барокко все школы верховой езды прививали ученикам незатейливую мысль, что видимость легкого, как будто не требующего усилий, подчинения лошади – не просто аллегория достойного правления, а его атрибут, ибо для него требуется сочетание властности и мудрости. Поэтому Рубенс создавал именно тот образ, какой хотел получить заказчик, – прекрасный, но лживый образ неустрашимого полководца, держащегося очень прямо, величественно поднявшего голову, подпираемую узкими испанскими брыжами, невозмутимо пустившего коня вскачь, пока вокруг кипит сражение, – образ, призванный опровергнуть любые позорные слухи о приспособленчестве и воровстве. Двадцатишестилетний начинающий живописец, в сущности, заново сформулировал конвенции жанра, согласно которым при бесчисленных европейских дворах, от Уайтхолла до Версаля, от Стокгольма до Вены, отныне будут изображаться всемогущие барочные властители.
Как это будет впоследствии со всеми этюдами на тему «Великолепного коня», Рубенсу пришлось учитывать обстановку, в которой герцог намеревался разместить портрет. В данном случае ему отводилось почетнейшее место в герцогском доме, в торце галереи, высоко под потолком; он был призван затмить все остальные картины, а посетители взирали на него снизу, исполненные благоговейного трепета, словно в присутствии всевластного Цезаря. Уже завершая работу над картиной, возможно осенью 1603 года, в пригородном особняке графа в Вентосилье, Рубенс увеличил ее площадь, добавив дополнительные фрагменты холста, чтобы разместить еще один пример своего рода визуальной риторики – изображение пальмы и оливы, эмблематически представляющих соответственно победу и мир, с которыми жаждал ассоциировать себя герцог. Подобно тому как он делал это в «Грехопадении» и «Демокрите и Гераклите», Рубенс вписывает эти деревья в пейзаж весьма хитроумно, подчеркивая с их помощью детали облика герцога: мощная ветвь повторяет очертания его сильного правого плеча, а пальмовый лист осеняет его чело, словно нимб христианского святого. Даже освещение гениально служит делу пропаганды: грозовые тучи войны расступаются, словно театральный занавес, и на главу героя, на его превосходного скакуна изливается сияющий свет.
До конца ноября Рубенс провозился с портретом Лермы, бесконечно меняя, дорабатывая, поправляя то одно, то другое. Он начал писать картину в Вальядолиде, а судя по тому, что на одном из подготовительных этюдов на голову исходной модели приклеено бородатое лицо Лермы, для фигуры герцога он использовал дублера. Пока Рубенс накладывал последние мазки на холст, Лерма решал важнейшую задачу своей карьеры. Наконец-то почила Елизавета Английская, источник постоянного раздражения для Габсбургов, трон как будто предстояло унаследовать королю Якову, сыну католички Марии Стюарт, и здесь возникал весьма любопытный вопрос о грядущем вероисповедании Англии в его царствование. Подолгу находясь в обществе первого министра, Рубенс невольно узнавал о хитросплетениях политических и дипломатических интриг. Одновременно Винченцо бомбардировал его все более и более требовательными письмами и настаивал на немедленном возвращении из Испании. Впрочем, Винченцо избрал для Рубенса путь в обход, через Париж и Фонтенбло, где ему надлежало увековечивать по желанию герцога прекрасных француженок. В письме к Кьеппио Рубенс мрачно признавался, что герцог заявил о своем намерении отправить его во Францию еще до того, как он отбыл в Испанию. Однако можно сказать без преувеличений, что испанский опыт его преобразил. Уезжая из Мантуи, он делал лишь первые шаги на придворном поприще. Уезжая из Вальядолида, он уже обладал выдержкой, тактом и навыками дипломата, политика, странствующего антрепренера и, самое главное, художника, привыкшего писать не куртизанок, а властителей. Удастся ли ему недвусмысленно дать понять своему покровителю, что он уже не тот, кем был прежде, не вызвав при этом его гнева? К этому времени Рубенс научился изворотливо возражать и еще раз вполне убедительно прибегнул к отговоркам, добившись впечатляющего результата. Кьеппио, выказавшему себя терпимым к его несколько завуалированному упрямству, он написал, что «этот заказ не срочный» и что, поскольку «поручения подобного рода всегда обрастают тысячей неизбежных [и непредвиденных] последствий», кто знает, сколько ему придется пробыть во Франции? Неужели герцог полагает, что французов, как только они увидят образчики его искусства, оно заинтересует менее, чем испанцев и римлян? Если, как уверяет Его Светлость, он ждет не дождется возвращения своего придворного художника в Мантую, чего и сам он страстно желает, то почему бы не поручить этот заказ месье де Броссу или синьору Росси, который и так уже пребывает в Фонтенбло? Что, если они уже написали портреты галльских красавиц для герцогской галереи? Его самоуверенность решила исход дела: Рубенс предположил, что Кьеппио не захочет выбросить немалые деньги «на картины, недостойные моего таланта, которые, угождая вкусу герцога, может написать любой. Я всем сердцем молю его поручить мне что-нибудь, дома или за границей, в чем я мог бы проявить свое дарование. Остаюсь в уверенности, что мне будет дарована эта милость, ведь Вы всегда являлись моим заступником перед Его Светлостью герцогом. Уповая на Вашу благосклонность, целую Вашу руку с совершенным почтением»[129].
Его не лишенная изящества дерзость себя оправдала. Винченцо более не повторял приказа писать французских красавиц. Рубенс взошел на корабль и отплыл в Италию.
Но умел ли живописец, который, казалось, владел всеми возможными умениями, плавать? Судя по картине «Геро и Леандр», написанной после возвращения из Испании, не умел. На вздымающихся волнах Геллеспонта покачивается бездыханное тело Леандра, пловца-марафонца и страстного любовника. Этой ночью поднялся шторм, все еще бушующий на картине Рубенса; порыв ветра потушил светильник, установленный на башне его возлюбленной Геро, и лишил Леандра жизни. Лицо его уже покрыла мертвенная бледность, но тело его по-прежнему идеально прекрасно и стройно, его поддерживает на волнах команда по синхронному плаванию, состоящая из нереид. Все происходит точно по Овидию. Пожалуй, только ведущая пара морских нимф имеет некоторое представление о том, как передвигаться на поверхности воды; они тянут Леандра на буксире, вполне профессионально плывя на боку. Их сестры, поддерживаемые на волнах лишь пышной рубенсовской плотью, которая не дает им утонуть, вздымаются на гребни и низвергаются во впадины между волнами, образуя своими телами некий узор, словно вьющийся по холсту. Одни, например нереида слева, копирующая его же собственную, рубенсовскую «Леду», в свою очередь скопированную им с «Леды» микеланджеловской, по-видимому, позируют для фонтанов. Другие возлежат на морских валах, словно на мягких диванах. Третьи, не двигаясь с места, беспомощно бьют по воде ногами, в ужасе воззрившись на Геро, в розовом хитоне, которая бросается со скалы в пучину; утратив возлюбленного, она вознамерилась свести счеты с жизнью. В левом углу разверзло пасть морское чудовище, преспокойно ожидающее ужина[130].
Возможно, Рубенс слишком часто любовался придворными спектаклями-маскарадами и уличными процессиями с их стилизованными картонными изображениями влажного царства Нептуна, поскольку его нереиды словно исполняют в воде некий танец или замерли в хореографических позах. Однако само бушующее море изображено с таким благоговейным ужасом, что, даже если он, как предполагают исследователи, и видел «Всемирный потоп» Леонардо[131], нетрудно вообразить его на палубе корабля во время плавания из Испании в Геную: вот он, прислонившись к борту, зарисовывает в блокноте тяжело вздымающиеся и опадающие волны и зимнее небо, с каждой минутой все плотнее заволакивающееся зловещими темными тучами. Подготовительный эскиз к «Геро и Лендру», ныне хранящийся в Эдинбурге, прекрасно передает поднятые ветром волны с пенистыми, завершающимися изящными завитками гребнями. Несмотря на всю маньеристическую неестественность фигур, картина явно оригинальна и своеобразна, прежде всего благодаря рубенсовскому композиционному решению, исполненному экстравагантного, непомерного динамизма. Хоровод нимф тяжеловесно резвится и плещется, словно затягиваемый темным водоворотом тяжкого предгрозового воздуха и вздымающихся водяных масс. Струи пены и брызг змеятся в пространстве холста, точно прожорливые угри, а кромешный мрак пронизывают снопы пронзительно-яркого света. Эта картина всасывает, затягивает в глубину, заглатывает, поглощает зрителя, словно вышеописанное океанское чудовище. На холсте царят необузданные стихии, показанные в диапазоне от безумия до изящества; это весьма рискованная попытка в духе тех картин Тинторетто, что более всего исполнены первобытной мощи. Именно их, с их яростью и неистовством, Рубенс уже избрал как своего рода противовес чувственному покою Тициана. Неудивительно, что картина «Геро и Леандр» так понравилась Рембрандту; он по достоинству оценил исходящее от нее ощущение опасности, лихорадочное движение, объявшее пространство холста, резкое, тревожное освещение, извивы и арабески композиции с ее энергией и динамизмом. В 1637 году Рембрандт согласился отдать за «Геро и Леандра» сказочную сумму – четыреста сорок гульденов. Семь лет это полотно провисело у него в доме на Синт-Антонисбрестрат, а в 1644 году он продал его с немалой прибылью[132].
Питер Пауль Рубенс. Геро и Леандр. Ок. 1605. Холст, масло. 95,9 127 см. Художественная галерея Йельского университета, Нью-Хейвен
Не столь уж важно, попутные или встречные ветры сопровождали плавание Рубенса, когда по Средиземному морю он возвращался домой, – изменчивость морской стихии захватила его воображение. После «Геро и Леандра» он написал картину «Фараон и его войско, тонущее в Чермном море», от которой ныне сохранился лишь впечатляющий фрагмент с беспомощными лицами, готовыми вот-вот исчезнуть в волнах, и всадниками с тщетно бьющимися конями, уходящими под воду. К этому же «постиспанскому» периоду относятся и «Христос, усмиряющий бурю на море Галилейском» (которому столь истово подражал Рембрандт в собственной картине на этот сюжет, недавно сделавшейся заложницей похитителя)[133], а также две сцены из цикла, посвященного «Энеиде»: «Эней и его семейство, покидающее Трою» и «Пейзаж с кораблекрушением Энея»[134]. Цикл картин на темы «Энеиды» задумывался как особенно важный для Мантуи (впрочем, кто его знает, что могло взбрести в голову Винченцо Гонзага), поскольку Вергилий родился на территории этого города-государства, а Рубенсу в этих картинах удалось передать точно рассчитанное равновесие отчаяния и надежды, характерное для Вергилия. На обоих полотнах одновременно предстают царство гибели и царство светлых упований, причем море играет попеременно то одну, то другую роль. В «Энее и его семействе, покидающем Трою» ветер, раздувающий паруса на мачтах готового к отплытию корабля, словно бы пронизывает тела несчастных беглецов, которые тщатся спастись от троянской катастрофы, побуждая их к действию. В «Кораблекрушении» стаффаж и море поменялись ролями: почерневший от ярости океан, под стать Леандрову Босфору, обрушивается на мыс на Лигурийском побережье, который восторженный почитатель и биограф Рубенса Роже де Пиль в XVIII веке идентифицировал как Портовенере близ Специи, печально известный своими рифами и скалами[135]. Выжившие беспомощно хватаются за обломки разбитого судна, а центральная часть картины представляет собой первый пример пасторали в творчестве Рубенса: на холме возвышается маяк, он словно венчает собою пейзаж, окутанный мягким, гостеприимным светом и покоящийся, как в колыбели, в овале рубенсовской композиции, которую создают арка радуги сверху и извив дороги снизу. Это материнское лоно – символ судьбы Энея, предка римлян.
Расхожей эмблемой превратностей судьбы служила госпожа Фортуна, с одеяниями и волосами, развевающимися по ветру, точно паруса. У некоторых живописцев, например у маньериста Бартоломеуса Спрангера[136], она помещалась прямо перед кораблем, а на заднем плане бурное море и надежная гавань указывали соответственно на два возможных веления судьбы и два исхода. Филиппу Рубенсу, еще находившемуся в Италии в ту пору, когда художник плыл по морю из Испании, представали видения судов, потерпевших кораблекрушение, и он трепетал при мысли об участи брата. Будучи Рубенсом, он излил свою тревогу в латинских виршах, моля богов, «что царят в прозрачных храмах небесных и в глубине океанов, усыпанных судами, и властвуют над Тирренским морем», «уберечь твой корабль от взора злокозненных звезд, повелевающих бурями. Да приведут попутный ветер и дружественный зефир по улыбающемуся лику вод, лишь едва заметно волнующемуся, в тихую гавань твою барку, увенчав ее цветами»[137]. Филипп признавался, что испытывает за судьбу брата страх столь невыносимый, что даже ученые занятия, дороже которых он не знает ничего в жизни, наполняют его отвращением. Однако, хотя братья были столь глубоко и страстно привязаны друг к другу, обстоятельства то и дело разводили их, не давая встретиться. Едва только «барка» Питера Пауля благополучно причалила, возможно, в Генуэзском порту, как Филипп, успокоившись, решил, что должен вернуться в Нидерланды. Братья наконец увиделись в Мантуе в феврале 1604 года, как раз когда Филипп возвращался домой. Не исключено, что у Филиппа не было выбора. Он завершил свое университетское образование и, как некогда его отец, получил степень доктора канонического и гражданского права. Однако он был также и Добрым Рубенсом, обязательным и добросовестным, помнящим об обещании следить за воспитанием и обучением своих младших подопечных и живыми и невредимыми доставить их домой в Нидерланды. Кроме того, он, судя по всему, хотел увидеть мать, здоровье которой в последнее время стало вызывать серьезные опасения.
Питер Пауль Рубенс. Эней и его семейство, покидающее Трою. 1602–1603. Холст, масло. 146 227 см. Замок Фонтенбло, Фонтенбло
Впрочем, настоятельнее других требовал, чтобы Филипп вернулся домой, именно учитель и наставник, заменивший ему отца. 31 января 1604 года, перед самым воссоединением братьев, Юст Липсий, чувствуя, что старость и недуги наконец всерьез ополчились на него, чая нанести последний удар, написал Филиппу, умоляя его, пока не поздно, вернуться в Лувен: «Приезжай, приезжай, поговори со мною, побудь со мною… Я не отослал тебя прочь, а всего лишь поручил покрвительству чужой стороны, да и то на время. Но Италия залучила тебя в свои сети и не отпускает. Не люблю ее именно потому, что тебе она столь дорога». Вскоре после этого он послал Филиппу еще одно письмо, воображая их встречу: «Я жду тебя, я спешу к тебе, я раскрываю тебе объятия. Возвращайся, как только сможешь. Я одряхлел и поседел. Мне осталось недолго. Приезжай, побудь со мною, сейчас или никогда»[138]. Так приемный отец с тяжкими вздохами призывал к себе сына, а чтобы Филипп наверняка их расслышал, между делом упоминал, что его сбросила лошадь (подаренная еще одним Ришардо, епископом Аррасским). «Чувствую себя сносно», – добавлял он с притворным стоическим спокойствием.
Питер Пауль Рубенс. Пейзаж с кораблекрушением Энея. 1604–605. Холст, масло. 61 99 см. Картинная галерея, Государственные музеи, Берлин
Липсий ждал возвращения Филиппа по многим причинам. Как это ни странно для человека его интересов и круга занятий, он намеревался опубликовать собрание чудес, приписываемых Святой Деве, но, самое главное, он завершал дело всей своей жизни: исчерпывающее и авторитетное издание драматических и философских сочинений Сенеки. Если бы не несчастный случай, он привез бы окончательный вариант в Антверпен, в типографию Бальтазара Морета. Однако, даже будь он вполне здоров, он нуждался в помощи своего ученика, которому безгранично доверял и который мог бы проследить за последними этапами публикации. Филипп, как приемный сын и редактор, не мог отказать Липсию. Старик (он выглядел дряхлым и хворым, хотя на самом деле ему исполнилось всего пятьдесят пять) был тем самым патриархом, которого так долго не хватало Филиппу. Дом Липсия в Лувене, где избранные студенты делили с учителем стол, кров и утонченные философские беседы, Филипп в каком-то смысле считал родным. Однако столь глубокая, почти сыновняя привязанность к учителю и наставнику неизбежно влекла за собой чувство вины и несамостоятельность. Твердо уверенный в том, что дни его сочтены, Липсий во что бы то ни стало желал передать Филиппу свою кафедру в Лувене: он видел в нем сочетание блестящей образованности и безупречной нравственности, потребных для того, чтобы сохранить принципы неостоицизма, невзирая на те ужасные бедствия, что война обрушила на несчастную Бельгию, «miseram Belgiam»[139]. В глазах Липсия Филипп мог бы нести знамя католического гуманизма в ожидающие их суровые времена.
Однако, когда дошло до дела, Филипп отверг предложенную ему честь и не принял профессорской должности. Повидавшись со своим наставником и благополучно отправив его труды в типографию, он снова затосковал по Питеру Паулю и по Италии. Трудно сказать, сколь мучительным было последнее объяснение учителя и ученика. Липсий, неизменно заявлявший публично, сколь высоко он ценит интеллектуальную независимость, теперь едва ли мог отказать в этом Филиппу. Однако в Италии открылась вакансия библиотекаря у кардинала Асканио Колонны, сына главнокомандующего папскими галерами в битве при Лепанто и человека великой учености, с 1602 года по велению испанского монарха исполнявшего обязанности вице-короля Арагона. Теперь он возвращался в свой великолепный фамильный дворец у подножия Квиринала и нуждался в высокообразованном помощнике, который занялся бы его знаменитым книжным собранием. Возможно, памятуя о том, что обращается к человеку, страдающему невыносимым несварением желудка и потому вынужденному ограничиваться только прохладной жидкой пищей, которая не причиняет вреда его истерзанному пищеводу, Липсий не поскупился на похвалы, представляя своего протеже в письме от 1 апреля 1605 года. Он объявил, что «именно такого сына, как Рубенс, я пожелал бы иметь, если бы Господь соблаговолил даровать мне оного»[140].
Филипп получил место библиотекаря в Риме, но собирался и дальше поддерживать связь со своим наставником и учителем. Он взял с собою только что сошедший с печатного станка экземпляр подготовленного Липсием собрания Сенеки, чтобы лично передать его новому папе, Павлу V из рода Боргезе, вместе со стихотворным посвящением и портретом мудреца, облаченного в знаменитый, отороченный леопардовым мехом плащ. В одной руке изображенный на портрете Липсий держал книгу, другая покоилась на спинке его черного спаниеля Сапфира, символа верности и стоического хладнокровия пред лицом опасности, поскольку песика уже постиг жестокий и преждевременный конец: он упал в бронзовый котел с кипятком. Это несчастье его осиротевший хозяин оплакал, сочинив латинскую элегию на смерть своего любимца: «О бедняжка, / Ты спустился к порогу мрачного Орка, / Да смилостивится над тобою брат твой, Цербер»[141]. На церемонии передачи книг и портрета папе присутствовали оба брата, Филипп и Питер Пауль Рубенсы.
Дело в том, что, прослужив два года в Мантуе, Питер Пауль сумел вырвать у герцога Винченцо еще один отпуск, чтобы зарисовывать в Риме предметы искусства для коллекции Гонзага (на сей раз от него не требовали портретов «красавиц»). Он завершил увековечившую благочестие династии Гонзага великолепную алтарную картину для церкви иезуитов в Мантуе, а также парные к ней «Преображение» и чудесное «Крещение». Написав эту вторую, изумительную картину, Рубенс недвусмысленно заявил о своем притязании быть наследником величайших итальянских мастеров. Не случайно он сознательно избрал для своих ангелов мягкую манеру Тициана, атлетически сложенных, совлекающих с себя одеяния купальщиков заимствовал у Микеланджело, фигуры Христа и Иоанна Крестителя подсмотрел у Рафаэля и всех их поместил на фоне сияющего пейзажа с антропоморфным деревом посредине, очертаниями напоминающим крест[142].
Сумев отстоять свою независимость в психологическом поединке с герцогом Гонзага, Рубенс, возможно, уже мечтал не возвращаться в Мантую, даже если у него не было бы столь сильного искушения, как грядущий переезд в Рим брата. В герцогстве настали мрачные времена. При огромном стечении народа, обличая современные пороки и грозя неизбежными карами Господними, а заодно продемонстрировав для пущего эффекта парочку чудесных исцелений, в Мантуе стал проповедовать фра Бартоломео Камби ди Солютио, красноречивый и легко покоряющий сердца монах из тех, что наведываются в итальянские города-государства с регулярностью чумы. Разумеется, во всех бедах мантуанских граждан оказались повинны местные евреи, и нетрудно было предсказать, что монах тотчас благословил мантуанцев на их изгнание и убийство, которые не замедлили последовать. Антисемитская истерия в городе достигла предела, когда толпа атаковала войска, которым было приказано охранять гетто; в конце концов несколько евреев, не совершивших никаких преступлений, были наугад выбраны в качестве козла отпущения, осуждены по надуманным обвинениям в нападении на христианина и публично казнены.
Питер Пауль Рубенс. Крещение. Ок. 1605. Холст, масло. 482 605 см. Королевский музей изящных искусств, Антверпен
В декабре 1605 года Питер Пауль переехал в Рим. Впервые со времен их отрочества в Антверпене братья жили под одной крышей, в доме на Виа делла Кроче, неподалеку от Пьяцца ди Спанья, Испанской площади[143]. По соседству расположились еще несколько художников-северян: Пауль и Маттейс Брили, с которыми он ездил верхом на этюды в Кампанью, и поселившийся на Виа деи Гречи Адам Эльсхаймер, наделенный необычайным творческим воображением живописец из Франкфурта. Его «истории на фоне пейзажа», отличающиеся лаконичной и оригинальной композицией, могли напоминать Рубенсу исполненные максимальной экспрессии гравюры Штиммера. Услышав о смерти еще молодого Эльсхаймера в декабре 1610 года, Рубенс написал: «Никогда прежде сердце мое не бывало столь омрачено горем, как сейчас, при получении этой скорбной вести»[144]. И это была не единственная их утрата. Не успели полевые цветы распуститься на развалиах Форума, как из Антверпена пришли известия о смерти еще двоих из их близких. Первым они получили траурное послание от своего друга Бальтазара Морета, извещавшего их о кончине Липсия, который давным-давно предрекал собственную смерть и вот наконец покинул сей мир 26 марта 1606 года. За несколько дней до своей кончины он признался приятелю, что один лишь Филипп «среди всех его секретарей разделял его образ мыслей и что следует любить только тех, кому можно доверить сокровеннейшие тайны»[145]. Можно лишь воображать, что почувствовал Филипп, узнав о смерти своего учителя и наставника, с которым его столь многое объединяло, однако он согласился принять участие в написании надгробного слова, на манер латинских эпитафий, которое задумали коллективно сочинить наиболее образованные ученики покойного. Не прошло и месяца, как братья получили послание, извещавшее о смерти их единственной сестры Бландины. Она умерла в возрасте сорока двух лет, возможно, от чумы, опустошавшей в ту пору города Северной Европы. Четверо из детей Марии Пейпелинкс скончались прежде нее: Бартоломеус, Хендрик, Эмилия и старший, Жан-Батист. Хотя она до сих пор могла рассчитывать на поддержку многочисленных семейств Пейпелинкс и Лантметере, она отныне жила в одиночестве, в темном, обшитом дубом доме на Клостерстрат.
Однако, узнав печальные вести, ее сыновья отнюдь не спешили покинуть римскую идиллию. Лето 1606 года принесло им блаженство и покой, для Филиппа омрачавшийся раздражительным и вспыльчивым нравом Асканио Колонны. Однако Филипп по-прежнему усердно работал над составлением «Electorum Libri II», сборника заметок и комментариев по поводу всевозможных деталей общественной жизни римлян: как именно украшалась и какой цвет имела кайма тоги у различных римских сенаторов и патрициев в зависимости от ранга и исполняемых обязанностей, полотнищем какого цвета и формы подавался в цирке сигнал к началу состязаний колесниц, какой короткий плащ предпочитали солдаты и офицеры римской армии, какие мягкие, богато украшенные металлическими деталями сандалии носили римские аристократки, сколько именно локонов, кос и лент включал в себя убор римской невесты[146]. Обо всех этих и бесчисленных иных предметах Филипп намеревался предоставить читателю исчерпывающие и однозначные сведения, в особенности в тех случаях, где латинские авторы противоречили друг другу. Однако эти сведения необходимо было снабдить иллюстрациями, выполненными братом после столь же усердных поисков и исследований. И Питер Пауль действительно сделал для ученого труда Филиппа множество тщательных зарисовок, запечатлевая саркофаги, барельефы триумфальных арок, бюсты и статуи везде, где только мог их найти: на городских площадях, во дворцах и в садах аристократов, в галереях Ватикана, на античных монетах, геммах и камеях, которые он уже начал коллекционировать. Большинство рисунков и скопированных надписей предназначалось для книги Филиппа, однако одновременно Питер Пауль систематически пополнял свой визуальный архив исторических деталей, который впоследствии не раз использует для картин в соответствующем жанре. В глазах Рубенса, живописца и рассказчика, верно переданные извивы браслета или узор застежки вовсе не были свидетельством банальной приверженности антикварному вкусу. Для него стремление к точности было неотъемлемым свойством надежного повествователя, осознающего разницу между исторической достоверностью и детскими сказками.
Таким образом, именно Питер Пауль претворил ученый педантизм своего брата в визуальную археологию. Этот свой дар он блестяще воплотил также и в новом заказе, который, как он надеялся, обеспечит ему репутацию, сравнимую со славой величайших итальянцев – корифеев исторической живописи: ему поручили написать алтарный образ для Кьеза Нуова, «Новой церкви» общества ораторианцев.
Как ни странно, «Новая церковь» была очень и очень старой; по крайней мере, место, на котором она была возведена, согласно преданию, было связано с первыми римскими христианами Рима, и потому она могла считаться истинной Древней церковью, а многие меценаты, покровительствовавшие Рубенсу, в частности кардинал Бароний, не жалели усилий, стремясь ее восстановить. Ранее она была известна под названием Санта-Мария ин Валличелла и располагалась на руинах бенедиктинского монастыря, основанного в конце VI века папой Григорием Великим, причисленным к лику святых. Папа Григорий остался в памяти христиан благодаря многим добродетелям и достоинствам: когда император Восточной Римской империи фактически утратил всякую реальную власть, он успешно управлял итальянскими провинциями, пораженными наводнением, голодом и нашествиями варваров; он неустанно посылал миссионеров в Британию и Германию; он ввел в обиход церковное пение и неутомимо пропагандировал богослужение. Но самая важная его заслуга состоит в том, что он утвердил и отстоял независимость римского престола святого Петра от воли византийского императора и его епископа, патриарха Константинопольского, полагая, что именно Рим в первую очередь обладает правом духовного наследования Христу. Таким образом, Григория можно воспринимать как фактического, а не номинального основателя папства. Выходит, что папа Григорий XIII совершил весьма уместный жест, в 1575 году навсегда изменив историю этой церкви и передав ее конгрегации ораторианцев.
Ораторианцы были последователями священника Филиппо Нери, который изначально мечтал отправиться миссионером в Ост-Индию, но потом передумал, решив, что «его Ост-Индией» станет Рим, и в пятидесятые годы XVI века основал братство помощи паломникам в Святой град. Затем, все чаще и чаще, Нери стали посещать экстатические видения, в которых ему являлась главным образом Дева Мария. Эти видения столь поглощали его и длились столь долго, что зачастую сопровождавшие его священники покидали церковь, пока он еще пребывал в состоянии исступленного восторга, и приходили, чтобы продолжить службу, когда он вновь возвращался в земной мир. Естественно, Нери ощутил потребность посвятить в свои видения мирян, а безыскусность и страстность его проповедей привлекли к нему множество последователей, которые и составили сообщество, являвшее разительный контраст ордену иезуитов. В то время как иезуиты предпочитали строгую иерархию и тяготели к таинственности, объединение, вдохновляемое Филиппо Нери, было открытым и не имело жесткой структуры; последователи Нери готовы были обращать в свою веру, проповедуя на площадях и призывая верующих на молитву своими «ораториями». Они апеллировали скорее к чувствам, нежели к интеллекту, склонны были поступать под влиянием эмоций и импровизировать, а не подчиняться строгой дисциплине военного образца. Духу их учения вполне соответствовало решение Филиппо снести старую, разрушающуюся церковь, которая была передана ему папой, и возвести на ее месте новую, самую великолепную в Риме, еще не добыв ни гроша на строительство.
Однако Нери, с его мягкостью и благочестием, пользовался такой популярностью, что, в особенности после его кончины, деньги на возведение Кьеза Нуова полились рекой. Кто бы отказался отдать дань памяти священнику, который весь последний день своей жизни в мае 1595 года обсуждал с идущими нескончаемым потоком посетителями различные вопросы веры, а в заключение объявил: «В конце концов всем нам суждено умереть» – и исполнил сказанное? Однако если неф церкви был завершен к 1600 году, то эффектный фасад удалось закончить только к 1605-му. Лишь после этого ораторианцы, с 1593 года возглавляемые Баронием, смогли заняться ее внутренним убранством. Эта работа, как с точки зрения замысла, так и с точки зрения практического осуществления, обещала быть необычайно трудной и именно поэтому представляла собой самый ценный заказ в Риме. Удачно выполнил бы ее тот, кому удалось бы найти идею, объединяющую сложную историю церкви и простоту и безыскусность последнего служившего в ней священника (ведь тело Нери было погребено в Кьеза Нуова). Художнику, взявшемуся за подобный заказ, вменялось в обязанность изобразить святого Григория и мир первых римских святых и мучеников: останки многих из них были обнаружены во время рытья строительного котлована и ныне упокоились под сводами новой церкви. И прежде всего, настаивали ораторианцы, запрестольная картина должна включать чудотворный образ Святой Девы (представлявший собой довольно беспомощную в художественном отношении икону XIV века), исцеляющий кровоточащие раны; именно перед ним, как правило, молились члены конгрегации, особо приверженные культу Богоматери.
Казалось совершенно немыслимым, что этот заказ будет поручен никому не известному фламандцу, не прожившему в Риме и двух лет, а ведь он победил даже таких маститых живописцев, как Федерико Бароччи, перед картиной которого «Встреча Марии и Елизаветы» Нери, по преданию, каждый день предавался благочестивым размышлениям. Однако Бароччи уже перешагнул семидесятилетний рубеж и потому, видимо, был сочтен слишком старым; кроме того, он, как известно, страдал сильнейшими болями в желудке и не мог работать с полной отдачей, а потом, едва ли решился бы на утомительный путь, отправившись из родного Урбино в Рим. Напротив, восходящую звезду Гвидо Рени сочли слишком юным и неопытным. Аннибале Карраччи терзала меланхолия, вызванная апоплексическим ударом, и он почти перестал писать. Караваджо скрывался от правосудия где-то в поместьях своих покровителей Колонна, поскольку ему грозил арест по обвинению в убийстве, совершенном в мае. Оставались некоторые талантливые художники, например Кристофоро Ронкалли, без сомнения считавший себя достойным этой чести. Однако, даже если бы Рубенсу выпала на долю более ожесточенная борьба с более сильными соперниками, он наверняка одержал бы верх «над прославленными римскими живописцами и посрамил их притязания», как он писал Кьеппио[147].
К лету 1606 года Пьетро Паоло Рубенс превратился в фигуру, с которой надобно было считаться. В его послужном списке уже значились первый запрестольный образ для церкви Святого Креста Иерусалимского (Санта-Кроче ин Джерусалемме) и три больших полотна, украшающие церковь иезуитов в Мантуе. Один из главных его покровителей, кардинал Джакомо Серра, происходил из Генуи и, судя по всему, видел великолепные портреты представителей династии Спинола-Дориа, особенно женской ее части, которые Рубенс написал во время своего пребывания в этом лигурийском городе-государстве. Впрочем, даже если Серра не знал этих работ Рубенса, он настолько верил в талант живописца, что добавил триста скуди к стоимости картины, при условии, что заказ присудят фламандцу. Может быть, еще того важнее была высокая репутация, которую имели в глазах ораторианцев оба Рубенса, слывших ведущими представителями фламандско-немецкого кружка с серьезными претензиями на ученость и религиозную глубину. Они уже не считались пришлыми, чужестранцами и профанами, а Питера Пауля никто более не приравнивал к бесталанным пачкунам и ремесленникам. 2 августа 1606 года, когда Рубенс получил этот заказ, нидерландские живописцы праздновали победу, с облегчением чувствуя, что отныне могут забыть о язвительных насмешках Микеланджело.
Не исключено, что успех придал Рубенсу смелости. Братство ораторианцев обязало живописцев для участия в конкурсе представлять недавние доказательства своих умений и способностей. Вместо того чтобы показать одну из прежних работ, Рубенс предъявил большой, размерами пять на четыре фута, эскиз алтарного образа, выполненный маслом и раскрывающий замысел художника. Возможно, он воспользовался инсайдерской информацией о сюжете картины, однако не приходится сомневаться, что этот эскиз вполне доказывал: отдав ему заказ, ораторианцы сделали правильный выбор[148].
Хотя исторических персонажей, собравшихся на ступенях лестницы перед классической аркой, в реальности разделяло по меньшей мере триста лет, Рубенс объединил их, превратив в свидетелей важнейшего события: на глазах у них Рим отринул власть язычества и обратился в спасительную христианскую веру. Арка обрамляет вид на руины Палатина и маленькую церковь Святого Теодора (Сан-Теодоро), на протяжении веков считавшуюся местом первых христианских мученичеств. По левую руку Григория стоит облаченная в пышные сиренево-серые шелка Флавия Домицилла, родственница императора Домициана, во II веке, на исходе Римской империи, сожженная на костре за отказ принести жертву языческим богам и идолам. Двое мужчин в роскошном вооружении – это святой Мавр и святой Папиан, из числа первых христианских мучеников. Впрочем, они также напоминают святых, особенно почитаемых Баронием и ораторианцами, – евнухов Домициллы Ахиллея и Нерея. Оба они были воинами, затем приняли христианство и обрекли себя на муки, а их мощи покоились на кладбище Домициллы[149].
Питер Пауль Рубенс. Святой Григорий со святыми Домициллой, Мавром и Папианом. Эскиз. Ок. 1606. Холст, масло. 146 119 см. Картинная галерея, Государственные музеи, Берлин
Как это уже вошло у Рубенса в привычку, он тщательно изучил архивные источники в поисках визуального решения отдельных образов и всей композиции в целом. В частности, руки Григория, правую, протянутую и изображенную в ракурсе, и левую, держащую книгу, он заимствовал у Аристотеля с фрески Рафаэля «Афинская школа», головы бородатого святого-воина и Домициллы скопированы с античных бюстов, а собрание праведников, созерцающих сошествие Духа Святого (в этом подготовительном варианте представленного потоком света, падающим на обращенное к небу лицо святого Григория), весьма напоминает расстановку персонажей на картине Тициана «Мадонна во славе с шестью святыми». Однако ни мастерским сочетанием движения и покоя, ни контрастом света и тени (например, на правой ноге безбородого воина), ни плоским «сценическим пространством» картины, в котором поставлена «драма», и глубокой «нишей», за которой открывается пейзаж, ни, прежде всего, ослепительной игрой ярких, насыщенных цветов, одеяний, трепещущих и слегка вздымающихся, словно приподнимаемых мощью все затопляющего сияющего света, Рубенс не обязан никому из своих предшественников. Здесь он неоспоримый новатор.
В период с начала августа до 26 сентября, когда Рубенс и ораторианцы подписали договор, художник усовершенствовал свой замысел. Рисунок тушью и черным мелом, находящийся сейчас в Монпелье, – это, по-видимому, эскиз («sbozzo o disegno»), который ораторианцы потребовали предъявить для одобрения перед завершающей стадией работы. На нем те же арка и пейзаж, но число святых, окружающих папу Григория, возросло с трех до шести. Римскую торжественность, столь привлекательную в первом подготовительном эскизе, Рубенс смягчил и в других отношениях. Бородатый воин уже не глядит вызывающе прямо на зрителя, но беседует со своим собратом. Херувимы поддерживают Библию святого Григория и порхают вокруг резной рамы, в которой впоследствии чудесным образом появится изображение Святой Девы. И только облик Григория сделался не менее, а более суровым: на рисунке из Монпелье он старше и гладко выбрит, морщины и обвисшие складки кожи у него на лице тщательно выписаны, на нем вполне узнаваемая митра, а не странная гладкая шапочка с красными и белыми лентами, словно впитывающими лучи Божественного света: для первого эскиза маслом Рубенс явно заимствовал ее из арсенала Филиппа.
Питер Пауль Рубенс. Святой Григорий со святыми Домициллой, Мавром и Папианом. Подготовительный эскиз для Кьеза Нуова. Ок. 1606–1607. Тушь, итальянский карандаш. Музей Фабра, Монпелье
Окончательный вариант был написан в первой половине 1607 года, во время дополнительного римского отпуска, испрошенного Рубенсом и дарованного герцогом, который, несомненно, осознавал, что самый престижный заказ в Риме, доставшийся его «фламандцу», косвенно поднимает и его репутацию. В картине сочетаются некоторые элементы обоих эскизов, однако строгость уступает место эффекту удивительной чувственности. Бородатый воин, стоящий позади Григория, снова глядит прямо на зрителя, однако на сей раз он представлен обнаженным, с полными розовыми губами и пышными кудрями братьев Рубенс. Для этого врианта выбраны необычайно роскошные одеяния: блеск римских доспехов оттеняется леопардовым мехом, перекрывающиеся стальные пластины панциря украшают рельефные чеканные бычьи головы и лица сатиров. Домицилла отрастила золотые локоны, ниспадающие ей на обнаженное плечо, им вторит оттенок широкой мантии, накинутой поверх платья сияюще-алого, голубого и императорского пурпура. Обращают на себя внимание даже хламида Григория, в финальном варианте картины «сшитая» из тяжелой парчи, и накинутая на нее великолепная разноцветная риза с вышитым изображением святого Петра, восседающего «in cathedra» и держащего в руках ключи от Царства Небесного, врученные ему Христом.
Это полотно рассчитано на ошеломляющий эффект, оно ослепляет, быть может, слишком яркими красками и слишком чувственными деталями. Филиппо Нери всячески пропагандировал живопись как «Biblia Pauperum», Библию для бедных и неграмотных, однако и он, возможно, испытал бы некоторые сомнения при виде выставленных Рубенсом напоказ роскошных тканей, приличествующих скорее римскому триумфатору. У зрителя неизбежно возникает впечатление, что молодой одаренный художник вознамерился во что бы то ни стало показать свое владение всеми известными приемами ремесла: он виртуозно изображает абсолютно все, от архитектурных сооружений до костюмов, от цвета лица до стальных доспехов и меха. Демонстрируя все грани своего дарования, Рубенс оживляет каменную деталь коринфской капители, взращивая на ней настоящую виноградную лозу, напоминающую о Святом причастии и роскошными, пышными плетями обвивающую колонну. Так Дева Мария чудесным образом претворяет мертвый камень в живое растение. Впрочем, в конце концов, ослепительное великолепие этого зрелища подчиняется благочестивому замыслу, лежащему в основе всей композиции. Двое святых справа и двое святых слева возводят очи горе, к образу Святой Девы, от которого исходит сияние. В центре Рубенсу удалось представить святого Григория в облике, соединяющем одновременно мужественность и мягкость, княжескую стать, весьма подходящую ему, учитывая его бурную политическую карьеру, и искреннее благочестие. Заменив Палатинский холм небом с просветами, на котором клубятся пышные облака, Рубенс пожертвовал ученой аллюзией в пользу чисто живописной драмы. Отныне профиль святого с развевающейся по ветру бородой и поблескивающим высоким челом не поглощается пейзажем, а отчетливо выделяется на фоне синего небосвода, а Дух Святой в образе белоснежного голубя даже не осеняет, а почти касается его крылом.
Неудивительно, что Рубенс объявил это полотно «лучшим и намного превосходящим все прочие, что я написал до сих пор»[150]. Он завершил его к концу мая 1607 года, однако ему пришлось ждать, пока картину не повесят в Кьеза Нуова, для чего, в свою очередь, надобно было ждать, пока чудотворный образ Святой Девы не перенесут на его полотно. Тем временем он переживал некий творческий спад. Встревоженный известиями о том, что у их матери Марии, которой было уже более семидесяти лет, все чаще случаются приступы астмы, Филипп поспешил вернуться в Антверпен. Жалованье Питера Пауля приходило из Мантуи нерегулярно, а выплата второй части гонорара в размере восьмисот крон за алтарный образ в Кьеза Нуова задерживалась, поскольку главный его покровитель, кардинал Серра, пребывал с визитом в Венеции. А теперь оказалось, что герцог Винченцо требует, чтобы его придворный живописец вернулся на лето во Фландрию и в Брабант, где он вновь намеревался лечиться на водах.
Питер Пауль Рубенс. Святой Григорий со святыми Домициллой, Мавром и Папианом. 1607. Холст, масло. 477 288 см. Городской музей Гренобля, Гренобль
Обеспокоенный тем, что установка алтарного образа затягивается, Рубенс все же согласился вернуться в Мантую и наверняка с нетерпением ждал возможности побывать дома, но тут узнал, что герцог внезапно передумал. Винченцо и его двор решили провести лето 1607 года не во Фландрии, а в Генуе, на виллах приморского городка Сан-Пьетро-д’Арена, где ступени террас, утопающих в ароматах флердоранжа и жасмина, обрывались прямо в индигово-синие волны Тирренского моря. Вероятно, Рубенсу показалось, что дело всей его жизни откладывается на неопределенный срок. Однако он был Рубенсом и потому не упустил случая часто, с разных точек зрения, зарисовывать роскошные виллы генуэзских патрициев, не столь грандиозные и величественные, как римские, и более гостеприимно открытые лигурийским бризам. Он водил дружбу с семействами Спинола-Дориа и Паллавичини, потягивая фруктовый сок со льдом в их садах, склонялся в элегантных поклонах перед генуэзскими дамами, демонстрируя свой высокий рост и непринужденное изящество, гладил по головке их ручных обезьянок и карликов, прищелкивал языком их попугаям ара, встречавшим незнакомца презрительными криками. Одни генуэзские аристократы уже позировали ему, другие заказывали свои портреты сейчас. Джанкарло Дориа предстает на портрете в облике кавалера ордена Сантьяго и искусного наездника, который поднимает коня на дыбы, одной рукой натягивая удила; алый шарф, охватывающий его талию, развевается по ветру над лигурийскими скалами. Личико Вероники Спинола, с острыми чертами, кажущимися еще более резкими от соседства кроваво-красной гвоздики, вставленной в тугие завитки волос за ушком, над чудовищным плоеным воротником напоминает крохотную конфетку, одиноко лежащую посреди огромного блюда. Ее тело заковано в неумолимый корсет по испанской моде, которую любили генуэзские аристократки, но Рубенс, мастер чувственных намеков, смягчает это впечатление, так распределяя ее жемчужное ожерелье, чтобы оно подчеркивало соблазнительные изгибы фигуры.
Портреты генуэзских принцесс отличаются немалым формальным новаторством, они представляют собой контролируемые взрывы насыщенного цвета. Кроме того, они свидетельствует о том, что Рубенс пересматривает конвенции портретного жанра. На протяжении его долгой истории во весь рост изображались только властительницы, подобные Елизавете Английской или Екатерине Медичи. Рубенс пишет генуэзских дам согласно канонам представления монархинь, однако радикально меняет интерьер, внося в него дыхание жизни[151]. Драпировки на портретах едва заметно колеблются под легким ветерком. Жаркое солнце июльского полдня поблескивает на нежно-розовой коже и темных шелках. Кисть Рубенса, обремененная краской, плавно движется по холсту, удивительно точно воспроизводя поверхности и фактуру, но одновременно обнаруживая под костюмом не манекен, а человеческую плоть. Он словно овладевает своими моделями, заново воплощает их, предоставляя зрителю наслаждаться пиром ликующих чувственных ощущений.
Но все это были лишь летние развлечения. В мыслях Рубенс постоянно возвращался к судьбе картины, написанной для Кьеза Нуова, и его охватывали тревожные предчувствия. А когда наконец настал день повесить картину над главным алтарем, он тотчас понял, что на него обрушилось еще одно несчастье, ниспосланное испытать его стоицизм. Трудность заключалась в свете, не слишком слабом, как это обыкновенно бывает в римских церквях, а, напротив, слишком ярком, сияющим потоком устремляющимся сквозь высокие окна, нарочно прорезанные для того, чтобы он затопил неф. Весь эффект рубенсовской живописи зиждился на тончайших переходах тона от сияющего к более приглушенному, и почти все они исчезали в ярких бликах, заплясавших, словно ртуть, по поверхности блестящего лака. «На алтарь падает свет столь невыгодный, – сетовал Рубенс в письме Кьеппио, – что снизу почти нельзя разглядеть фигуры или насладиться красотой цвета, изяществом черт и благородством одеяний, кои исполнил я с величайшим тщанием с натуры и, по всеобщему мнению, весьма успешно. А посему, видя, что все достоинства полотна пропадают, и будучи не в силах заслужить ту честь, каковой должны быть вознаграждены мои усилия, я решил не совлекать с нее покров и не представлять ее на суд зрителей»[152].
Питер Пауль Рубенс. Портрет Вероники Спинола-Дориа (фрагмент). Ок. 1607. Холст,масло. 225 138 см. Государственное художественное собрание, Карлсруэ
Проблема была понятна и самим ораторианцам, однако по условиям договора они должны были получить от Рубенса картину. Уверенный, что найдет для своего полотна более подходящее место, Рубенс с готовностью согласился заменить его неким вариантом, на сей раз написанным на шиферной доске, материале, не боящемся световых бликов. Однако серый камень словно заразил блеклостью и тусклостью всю картину, ведь Рубенс от спешки, уныния или раздражения стал и дальше дробить ее на элементы, которые в первом варианте, объединенные блестящей композицией, вызывали чудесный эффект соприсутствия мира земного и Царствия Небесного. Вместо одного произведения, представляющего собой единое законченное целое, у него получились три самостоятельные, хотя и взаимосвязанные картины. Святые, что в первом варианте окружали центральную фигуру святого Григория, ныне были поделены по обеим сторонам апсиды на две группы, наподобие геральдических щитоносцев или донаторов. Григорий, на сей раз не облаченный в роскошный белый шелк, стоит с Мавром и Папианом с одной стороны. Домициллу, уже не в пышных, под стать императрице, а в значительно более скромных одеяниях, сопровождают евнухи, и всем им Рубенс придал куда более величавый и властный облик. И, словно оправдываясь в обвинениях, что в прежнем варианте картины Деву Марию якобы затмевают святые – ревнители ее культа, Рубенс на сей раз сделал эмоциональным центром Марию с Младенцем Иисусом, поддерживаемых сонмами херувимов и парящих над облачным амфитеатром ангелов, которые служат своего рода посредниками в деле поклонения. Именно такую картину и можно увидеть сегодня в Кьеза Нуова: она достойно решает поставленную заказчиками задачу, но совершенно лишена того сочетания чувственного и визионерского начала, которое делало оригинальную версию неповторимой и незабываемой.
Питер Пауль Рубенс. Мадонна с Младенцем в окружении ангелов (Мадонна делла Валличелла). 1608. Шиферная доска, масло. 425 250 см. Церковь Санта-Мария ин Валличелла, Рим
Теперь у Рубенса оставался лишний запрестольный образ, для которого требовалось найти покупателя, и ни копейки денег. Кардинал Серра уже заплатил ему около трехсот шестидесяти крон в счет условленного гонорара в восемьсот, однако, ожидая выплаты остатка, Рубенс потратил на текущие расходы двести. Впрочем, он пребывал в уверенности, что найдет покупателя в лице герцога Мантуанского, который, как художник радостно написал Кьеппио, выразил желание приобрести одну из его картин для своей галереи. Разумеется, римские меценаты выстроятся в очередь за его алтарным образом, однако он полагал, что две схожие картины в одном городе могут нанести ущерб его репутации. Постепенно, по мере чтения письма, можно почувствовать, как в тоне Рубенса начинают сквозить нотки озабоченности, словно у торговца, стремящегося продать свой товар. Не слишком ли высокую цену он запрашивает? «Я не стану просить за нее столько, сколько предлагают мне в Риме, но предоставлю назначить гонорар Его Светлости герцогу, как ему будет угодно». Размер полотна? Вполне сгодится, оно высокое и узкое, идеально подходит для Мантуанской галереи. Зная о любви своего покровителя к блеску и роскоши, Рубенс намеренно упоминает о «пышных одеяниях» персонажей. Не слишком ли «темный», понятный лишь посвященным сюжет для нее избран? Напротив, он вполне ясен и прост, ведь «изображенные на картине святые лишены каких бы то ни было особых атрибутов или знаков своего достоинства и потому могут восприниматься как любые святые».
Даже для Рубенса, с его склонностью к утонченной увертливости и изящной, завуалированной неискренности, это было слишком. Никто лучше его не знал, сколь тщательно картина задумывалась для определенной церкви. Она блестяще воплощала отказ от язычества и обращение в христианство именно потому, что предназначалась для Кьеза Нуова, под полированным мрамором которой покоились мощи первых христианских святых и руины древних христианских памятников, археологические детали римской и григорианской эпох. Без сомнения, Рубенс рассчитывал, что Винченцо не знает этой сложной истории и потому он сможет продать герцогу полотно, выдав его за «алтарную картину со святыми по выбору».
Возможно, Рубенс рисковал также, памятуя о предыдущем опыте, поскольку за год до описываемых событий герцог, последовав его совету, уже приобрел одну большую картину на религиозный сюжет, а значит, и на сей раз, судя по всему, не откажется от его рекомендаций. К тому же по совету Рубенса он купил не какое-то никому не известное полотно, а «Успение Богоматери» Караваджо, предназначавшееся в качестве запрестольного образа для церкви Санта-Мария делла Скала и затем отвергнутое отцами-кармелитами, которые его заказали. Дело в том, что Караваджо не только имел печальную репутацию убийцы, но и, на вкус кармелитов, зашел слишком далеко в своем агрессивном натурализме. Художник из лучших побуждений изобразил на переднем плане обнаженные ноги Девы Марии, ведь картину на этот сюжет ему заказали именно босоногие кармелиты, и потому голые ступни Святой Девы могли служить своего рода живописной аллюзией, отсылающей к правилам ордена. Однако картина вызвала потрясение, а по Риму, как это обыкновенно бывало, распространились слухи, что Караваджо якобы позировала для Богоматери блудница. Кроме того, неприкрашенный облик явно покойной Святой Девы мог оскорбить некоторых кармелитов, придерживавшихся мнения, что Она не скончалась, а всего лишь уснула вечным сном. Однако, скорее всего, Рубенса привлекла в этой картине именно художественная смелость Караваджо, показавшего Деву Марию в Ее неприкрытой телесности, а «скульптурную группу» вокруг Ее смертного одра – в глубочайшей скорби, ведь в этом направлении репрезентации плоти и эмоций двигался и сам Рубенс. Он посоветовал герцогу Винченцо купить картину, несмотря на все скандалы, связанные с именем Караваджо, а значит, был убежден в непреходящей ценности искусства, вне зависимости от нравственного облика творца. Тот факт, что сам Рубенс вполне мог считаться образцом добродетели, лишь прибавляет вес его суждению. Однако, помня о своем отце, Питер Пауль понимал природу человеческой слабости, даже пытаясь искоренить ее в собственной душе.
Рубенс сумел не только приобрести «Успение Богоматери» для герцога Мантуанского, но и выставить картину на всеобщее обозрение в течение недели, с 7 по 14 апреля 1607 года, уверенный, что ее истинная, глубокая религиозность заставит замолчать всех хулителей. Его затея оказалась столь успешной, что он вознамерился повторить ее, устроив столь же грандиозную рекламную кампанию для собственного полотна и показав алтарный образ там, где его увидят толпы восхищенных поклонников. Вместе их явно ожидал такой прием, что герцог просто не мог отказать.
Однако на сей раз Рубенс жестоко ошибся в своих расчетах. Возможно, потому, что за Караваджо для мантуанской коллекции только что уплатили триста пятьдесят крон, и это в то время, когда герцогская казна совершенно истощилась, Винченцо не стал покупать алтарную картину Рубенса. К концу февраля 1608 года Рубенс сменил тактику и с простительным нетерпением потребовал перевести ему запоздавшее жалованье, а также заплатить гонорар Кристофоро Ронкалли, который давным-давно закончил картину для личной часовни герцогини и теперь просил за нее пятьсот крон. С точки зрения Кьеппио, за картину меньшего размера, чем «Успение Богоматери» Караваджо, это была непомерно высокая цена. Рубенс, служивший посредником при заключении сделки, написал: «Я поражен таким безразличием в вопросах оплаты», внезапно принимая тон антверпенского банкира.
Однако, вернувшись в Мантую весной 1608 года, он обнаружил, что сетования на истощившуюся-де казну совершенно беспочвенны. Пока алтарный образ, завернутый в бумагу и мешковину, лежал на полу в его мастерской в палаццо Дукале, двор предавался пышным увеселениям, свидетельствующим о невероятном расточительстве: впрочем, чего ожидать, если наследник правящей династии Франческо вступает в брак с представительницей семейства Габсбургов Маргаритой Савойской? В честь бракосочетания бли исполнены опера Монтеверди «Ариадна» и балет, на водах Мантуанского озера галеры костюмированных турок сражались с галерами настоящих христиан, ночное небо озаряли фейерверки, всю Мантую освещали тысячи бумажных фонариков. Герцогство Гонзага превратилось в волшебную страну, царство эльфов. Казалось, конца-краю этому великолепию не будет.
Увы, герцог был смертен. В конце лета Винченцо, чувствуя приближение старости, решил в очередной раз отправиться на воды в Спа. Рубенса не пригласили сопровождать его. От Филиппа Рубенса приходили все более тревожные послания, в которых говорилось о мучивших их мать приступах астмы, и, пока Винченцо находился в Антверпене, сначала Филипп лично, а затем эрцгерцог Альбрехт в письме просили его позволить Питеру Паулю вернуться домой. Винченцо ответствовал, что его придворный живописец так любит Италию, что он не в силах будет согласиться и отпустить его. Однако к концу октября состояние Марии Рубенс серьезно ухудшилось. Из Рима, где Рубенс до сих пор готовился представить вниманию публики запрестольный образ для Кьеза Нуова, он написал Кьеппио, прося позволения поехать во Фландрию: уверяя герцогского секретаря, что вернется в Мантую, как только минует опасность, он тем не менее не стал дожидаться ответа. «Целую Ваши руки, моля не оставлять меня своей благосклонностью и Вас, и Его Светлость герцога, – завершил он свое прошение и подписался: – Ваш покорный слуга Питер Пауль Рубенс, salendo a cavallo [вскакивая в седло], 28 октября 1608 г.».
Караваджо. Успение Богоматери. 1605–1606. Холст, масло. 369 245 см. Лувр, Париж
Если дело происходило не зимой, письма обычно шли из Нидерландов в Италию чуть более двух недель. Весть о смерти Марии, посланная Филиппом, вероятно, пересекала Альпы, пока Питер Пауль спешил в Антверпен. Как мы знаем, он гордился своим умением ездить верхом и, возможно, проскакал весь путь из Италии во Фландрию, меняя лошадей в придорожных тавернах и нанимая мулов на горных перевалах. Но если из-под копыт его скакуна и неслась пыль, все было тщетно, ибо, прибыв в Антверпен, Питер Пауль застал Филиппа в трауре и услышал, что мать их уже похоронили под сводами епископской церкви Святого Михаила, неподалеку от дома на Клостерстрат, где она провела последние годы. Нетрудно вообразить скорбь и угрызения совести, охватившие Рубенса при запоздалом приезде домой. Он уже не мог ничего поправить. Еще тяжелее было разбирать вещи покойной: кровати, столы, стулья, занавеси, белье, книги. Почти все имущество Мария оставила сыновьям, назначив их же исполнителями завещания. Может быть, Питер Пауль ощутил особенно острую боль, узнав, что в завещании все свои картины, кроме фамильных портретов, она передала в его собственность[153], ибо «он написал их и они необычайно хороши».
Рубенс исцелял свою скорбь единственным способом, который был ему доступен: спроектировав пышный алтарь в часовне, где была погребена его мать, и установив над ним прекрасное полотно, которое привез из церкви Кьеза Нуова. Отныне Мария Небесная взирает на бренные останки упокоившейся здесь Марии Земной, и обеих поминают как Madonna mediatrix, сострадательных заступниц грешного человечества.
Глава четвертая
Апеллес Антверпенский
Возможно, перспектива получить благословение на брак возле надгробия покойной свекрови не слишком-то обрадовала невесту. Однако едва ли Изабелла Брант стала проявлять недовольство. В конце концов, ей не исполнилось и восемнадцати, она была на тринадцать лет моложе супруга, а юным антверпенским девицам полагалось выказывать уважение к мужниной родне, даже если бы речь шла о могиле матроны, не столь известной своим благочестием, как Мария Пейпелинкс. К тому же аббатство Святого Михаила, где была погребена сия достойная дама, считалось чем-то вроде домашней часовни, ведь оно стояло на Клостерстрат, а Рубенсы и Бранты жили там же, в двух шагах от него, только по разные стороны церкви. Наверное, Изабелла не возражала. Она выходила за человека, который в ее родном городе слыл прекрасным принцем, и не успел он вернуться из Италии, как на него словно из рога изобилия хлынули почести и блага. А еще он был очень хорош собой, с высоким челом и прямым, четко очерченным носом, с каштановой бородкой и усами, в которых сквозили золотистые отблески, и ему очень шла не сходившая с его уст любезная придворная улыбка.
А какой видел свою невесту Питер Пауль? Прежде всего взгляд привлекали ее глаза, огромные, с кошачьим разрезом, глаза зоркой рыси, которую его римские друзья избрали эмблемой своей ученой Академии деи Линчеи. Глаза кокетливые, слегка приподнятые к вискам, словно вечно готовые рассмеяться, высокие изогнутые брови и чуть выгнутая верхняя губка – все сообщало ее лицу выражение шаловливой игривости. А еще она была изящной и стройной и ничем не напоминала приземистых и тяжеловесных фламандских девиц, частенько похожих на квашню в юбке. А еще, даже до заключения помолвки, он мог считать ее родственницей, ведь сестра ее матери, Мария де Мой, за год до описываемых событий вышла за Филиппа Рубенса. Жаль, что матери не довелось увидеть, как сыновья вступают в брак. То-то она порадовалась бы достойным партиям, узнав, что они породнились с дружелюбными и благожелательными соседями, которые поминают Яна Рубенса только добром. Подобно их покойному и (по крайней мере, в торжественных случаях) горько оплакиваемому отцу, Ян Брант был адвокатом, но также блестящим знатоком латыни и находил время не только для юриспруденции и исполнения обязанностей одного из секретарей Антверпенского городского совета, но и для составления комментариев к Цезарю, Цицерону и Апулею, иными словами, во многом разделял интересы и жизненные цели братьев.
После венчания в доме Брантов наверняка был устроен пир. На торжество пригласили уважаемых людей Антверпена: бургомистров, членов городского совета, магистратов, казначеев гильдий, офицеров народного ополчения, тех, кто разбогател сам или чьи отцы разбогатели на торговле специями и тканями, брильянтами и шпалерами. У Брантов сошлись люди, предпочитавшие не кичиться своим капиталом, а потратить его на постройку дома и разместить там свои картины, древности и редкости: экзотические раковины и кораллы, римские камеи изящной работы, скелеты броненосцев и капибар. В разговоре, пересыпанном изысканными итальянскими и французскими восклицаниями, эти люди чаще касались не дел на бирже, а издания Марка Аврелия, которое они сейчас готовят к печати, или переписки с французским нумизматом – и в целом являли весьма незаурядную компанию.
Возможно, жених и невеста еще носили венцы по старинной фламандской традиции, однако местная музыка, исполняемая на гнусавых тромбонах-сакбутах и монотонно гудящих волынках, в такой среде уже сменилась изящными итальянскими мелодиями певучих скрипок. А поскольку никакое истинное веселье невозможно без декламации поэзии, присутствующие читали латинские стихи весьма выразительно, как их учили в школе. Впрочем, время от времени все лукаво перемигивались, словно комедианты на сцене, делали многозначительные паузы, прерывали себя вольными шутками. Все шаферы, встав из-за стола и решив блеснуть эрудицией, немедленно подхватывали знакомые формулы. Первое место среди них занимал немного рискованный гимн Гименею, богу брачных услад: «Мы призываем тебя этой ночью, радостной и столь же желанной моему брату, сколь и юной невесте. Сдержи сегодня свое девственное нетерпение, но завтра ты поклянешься, что ночь принесла тебе самый прекрасный день»[154]. Далее следовала непременная, хотя и несколько высокопарная дань уважения родителям, под коими в XVII веке надлежало понимать исключительно отцов: ныне здравствующего Яна Бранта, добродетельного и высокоученого («Нет никого, кто лучше разбирался бы в архивах нашего города и в обычаях наших предков»), и покойного Яна Рубенса, прославляемого в заметно более ускоренном темпе («Нашего отца, сенатора, который столь же достойно толковал запутанные законы и давалсоветы нуждающимся в помощи, блистая красноречием»). Постепенно, входя во вкус, выступающий говорил все более восторженным тоном, позволял себе все более вольные намеки, прибегал ко все более мелодраматическим жестам и, наконец, разводя руками, объявлял: «Гименею уже не терпится возжечь брачный факел и вступить в домашнюю святыню, где он узрит супружеское ложе, арену венериных игр, предназначенную лишь для целомудренных битв».
Этот возглас, вероятно, сопровождается взрывами грубого хохота и более сдержанными смешками. Стучат сдвигаемые за тостами кубки, гости с многозначительным видом локтями толкают друг друга в бок. Невеста краснеет. Жених изображает показное отчаяние. Все тщетно. Брат, совсем развеселившись, неумолимо продолжает: «Юная невеста, останься наедине с женихом. Он любит тебя и нашепчет тебе на ушко самые сладостные слова, каковым может научить лишь бог любви. Он очарует тебя не только нежнейшими речами, но и сладострастными лобзаниями, словно Амур – Психею или Адонис – Венеру. Смирись, юная невеста. Таков закон».
А тем временем в городе, посвященном Богоматери, воцарилась весна, распустились цветы, жители обменивались благочестивыми пожеланиями. Перемирие длилось с 1607 года, однако официально оно было подписано в Государственной палате городской ратуши в апреле 1609-го. Антверпенское небо озаряли фейерверки. Всю ночь непрерывно звонили колокола. Вино лилось рекой, дымились трубки, и жители города предавались несбыточным мечтам. Вот откроется судоходство на Шельде, гавань вновь заполнится судами, во Фландрию вернутся тучные годы, старая столица воспрянет от мертвого сна, еще более сильная и могущественная, чем прежде, и настанет новый золотой век. Кто знает, вдруг даже семнадцать нидерландских провинций снова объединятся? Увы, большинство из тех, кто возносил горячие мольбы Господу, чая подобного воссоединения, в отличие от Рубенса, никак не уповали на дух компромисса, терпимости и всеобщего примирения. Например, антверпенские иезуиты, недавно получившие в собственность новый коллеж, страстно мечтали о таком союзе, но лишь для того, чтобы еретики севера признали свои греховные заблуждения и вернулись в лоно Католической церкви и под власть испанской короны. А к северу от Шельды кальвинистские проповедники, не слишком-то обрадовавшиеся перемирию, тоже молились о союзе, но заключить его с «заблудшими» южанами, по их мнению, позволила бы только священная война под знаменем протестантизма.
Умеренную же позицию занимали прагматики, те, кто содействовал заключению перемирия, а сейчас не испытывал иллюзий относительно его будущего. Финансовый ущерб, который война нанесла экономике Голландии, убедил великого пенсионария Голландской республики Йохана ван Олденбарневелта, что нужно положить конец боевым действиям. Какое-то время судьба благоволила голландцам, их корабли чаще нападали на испанские суда и разоряли испанские владения, чем наоборот. Однако в последнее время казна голландских городов стала опустошаться настолько, что пополнить ее могло лишь карательное налогообложение. Одновременно в Кастилии бывший покровитель Рубенса герцог Лерма пришел к выводу, что армия Фландрии – это бездонная бочка, в которой бесследно исчезает мексиканское серебро, а ведь с помощью этих денег можно было бы спасти испанскую корону от банкротства. Его консервативное мнение разделял герой нидерландских войн маркиз Спинола, и вместе они всячески уверяли в этом короля Филиппа III. После долгих размышлений, сомнений и терзаний король и его министр объявили Альбрехту и Изабелле, что согласятся на перемирие и, принимая условия голландцев, отныне будут считать семь Соединенных провинций «свободными государствами». В качестве компенсации голландцы должны были отказаться от военного и колониального присутствия в Ост-Индии, которую Испания действительно опасалась утратить под их натиском. Однако Олденбарневелт даже не стал рассматривать ни этот призыв, ни подготовленное испанцами как запасной вариант требование разрешить в Голландской республике открытое католическое богослужение. В конце концов Габсбурги на глазах у всей Европы снесли оскорбление и выбрали перемирие, дав измученным Нидерландам передышку, чтобы восстановить силы и средства[155].
В глазах некоторых старых друзей Рубенса, например Каспара Шоппе, перемирие равнялось позорному поражению. Несмотря на военные неудачи, Шоппе до сих пор верил в возрождение христианской империи, абсолютной и неделимой. Однако он со своими иезуитскими мечтами пребывал далеко в Риме. В Антверпене же семьдесят семейств, фактически правивших городом (в большинстве своем друзья Рубенса), открыто ликовали, приветствуя передышку. Перемирие означало воздух, свет и жизнь, то, чего им так мучительно недоставало. Эрцгерцоги Альбрехт и Изабелла тоже увидели в перемирии новый шанс начать все с чистого листа и не преминули им воспользоваться. Еще до 1605 года они вызвали из Рима одного из наиболее одаренных фламандских деятелей искусства – живописца, инженера и зодчего Венселя Кобергера. Ему предстояло служить при брюссельском дворе. Вместе с эрцгерцогами Кобергер разработал весьма честолюбивый план строительных преобразований, включавший в себя возведение иезуитских церквей в Брюсселе и Антверпене, новых паломнических часовен в местах, освященных чудесами Девы Марии, а также, поскольку благочестию полагалось идти рука об руку с процветанием, канала, который должен был соединить Шельду и Маас, тем самым обходя голландскую блокаду устья Шельды[156].
Можно было ожидать, что Рубенса удостоят тех же почестей и привилегий, каковые до него пожаловали Кобергеру и Яну Брейгелю, сыну великого Питера. Пожалуй, эрцгерцогов даже обеспокоил тот факт, что Рубенс пока не принял окончательного решения – остаться ему навсегда в Антверпене или уехать. С другой стороны, он еще не уведомил и герцога Мантуанского, что не вернется в Италию, а суровой фламандской зимой 1608/09 года, наверное, ностальгически вспоминал южные небеса и своих дорогих товарищей, живущих в Риме. Одному из них, доктору Иоганну Фаберу, «Эскулапу», излечившему его от плеврита, он признавался 10 апреля, что «еще не решил, осесть ли на родине или навсегда переселиться в Рим»[157]. «Навсегда» – весомое слово, особенно в устах человека, столь сдержанного в речах, как Рубенс. Однако, как он написал Фаберу, его «пригласили на самых лестных условиях». «Здешние властители также не оставляют усилий, тщась залучить меня к себе, и делают мне весьма заманчивые предложения. Я получил письма от имени эрцгерцога и Ее Светлости инфанты, и оба они просят меня не покидать Фландрию и поступить к ним на службу. Впрочем, несмотря на все их великодушие и щедрость, я не испытываю желания вновь возвращаться на придворное поприще»[158].
Вероятно, Альбрехт и Изабелла осознавали, какие сомнения гнетут Рубенса. Они прекрасно знали Винченцо Гонзага и могли представить себе, как же художнику не хочется вновь жертвовать своей свободой, всецело переходить в распоряжение принца, просить разрешения поселиться там-то и там-то, испрашивать позволения написать такую-то и такую-то картину, умолять заплатить ему столько-то и столько-то. Поэтому они решили облегчить его существование. Рубенсу не вменялось в обязанность жить при дворе в Брюсселе, он мог остаться в Антверпене (подобную привилегию самому выбирать место жительства они уже даровали Яну Брейгелю). Он будет получать жалованье пятьсот флоринов в год, однако в счет этого жалованья напишет только их портреты, а более, согласно условиям контракта, никто не станет требовать от него работы, которую он не выбрал бы сам. За любые другие картины, которые он выполнит специально для эрцгерцога, ему заплатят отдельно. Также он освобождался от ограничений, которые распространялись на членов гильдии Святого Луки: в частности, он мог брать любое число учеников и взимать за обучение живописи любые деньги. А на случай, если и этого Рубенсу будет мало, его избавляли от уплаты всех государственных и городских налогов.
Какие бы предложения Рубенс ни получил в Риме, едва ли они были столь же соблазнительны, как фламандские, и в конце сентября жалованной грамотой Альбрехт и Изабелла официально объявили, что Рубенс «оставлен при дворе, назначен на должность придворного живописца, утвержден в оной и облечен всеми полномочиями, полагающимися живописцу нашего антверпенского особняка»[159]. Если, свыкнувшись с мыслью о том, что остается дома, он все же тосковал по Италии, то теперь мог наслаждаться ею на расстоянии, в компании «романистов», антверпенского общества художников и ученых, в разные годы живших в Риме, а ныне обсуждавших римские древности и современные красоты на встречах своего кружка. Вступить в это общество, где уже состояли его брат и тесть, Рубенса в июне 1609 года пригласил основатель Ян Брейгель. Помимо Рубенса, там числились такие живописцы, как Себастьян Вранкс и его бывший учитель Отто ван Вен, и с ними он мог предаваться приятным воспоминаниям о жизни в Риме. Возможно, это было не столь упоительно, как жить в одном доме с Филиппом на Виа делла Кроче, но, по крайней мере, у него появилась возможность поболтать о кардиналах и их библиотеках и в том же 1609 году скорбеть об уходе двоих великих современников, Караваджо и Адама Эльсхаймера. В обоих случаях Рубенс и его друзья, по обычаю неостоиков, позволили себе произнести несколько морализирующих сентенций о таланте, преждевременно погубленном собственными слабостями, и осиротевшем искусстве. Разумеется, пороки Караваджо были всем известны. Однако «синьор Адам», как любовно называет его Рубенс в письме Фаберу, «не имел себе равных в композициях со стаффажем, пейзажах и многих других жанрах», но «умер в расцвете своих сил и способностей»; отчасти он сам навлек на себя гибель, по мнению Рубенса, «своей греховной леностью, лишив мир множества прекрасных творений, погрузившись в бездну горести и в конце концов впав в отчаяние, а ведь делами рук своих он мог прославиться и снискать немалое состояние»[160].
Но никому не пришло бы в голову обвинять самого Рубенса в том, что он забывает о славе и деньгах, или в том, что он понапрасну растрачивает отпущенное ему время. Его распорядок дня являл собою идеал энергии и дисциплины. По словам его племянника Филиппа (переданным французским критиком Роже де Пилем), он вставал в четыре часа утра, шел к обедне, с первыми лучами солнца принимался за работу и одновременно, занимаясь рисунком либо живописью, просил слугу или ученика читать ему вслух классиков древности. В еде он, как почти во всем, также проявлял умеренность и в особенности ограничивал употребление мяса, «опасаясь, что насыщающие его пары помешают ему всецело сосредоточиться на картине и что, принявшись за работу, он не сможет переварить съеденное мясо». В городе, где вино и пиво текли рекой, он пил очень мало и неизменно совершал по вечерам конную прогулку на «прекрасном испанском скакуне»[161]. Однако, несмотря на всю обдуманную умеренность, в его облике не было ничего сурового. Он всегда с искренней сердечностью принимал гостей и с готовностью давал полезные советы и важные сведения многочисленным корреспондентам. Но самое главное, аскет никогда не создал бы картины вроде тех, что написал Рубенс в первые годы после своего возвращения в Антверпен: чувственных, нежных, насыщенных яркими, опьяняющими красками.
«Поклонение волхвов», заказанное Рубенсу Антверпенским городским советом в 1609 году, дабы увековечить заключение Двенадцатилетнего перемирия, как будто написано на сюжет Священного Писания, но в действительности являет зрителю столь же роскошную праздничную процессию, сколь запечатленные на холсте для венецианских дожей Тицианом или Тинторетто. Подготовительная стадия этой картины, весьма эффектный эскиз маслом, ныне хранящийся в Гронингене, свидетельствует о том, что Рубенс, по словам одного биографа XVII века, работал «яростной кистью», «la furia del pennllo», с феноменальной свободой и легкостью воплощая свой замысел и вылепливая персонажей оттенками цвета. На эскизе факелы сияют на фоне ночного неба, освещая сцену, в центре которой – коленопреклоненный царь. Он облачен в роскошный, расшитый золотом плащ, словно отражающий блеск его дара, приносимого Младенцу Христу. Его соратники выглядят столь же царственно: у одного длинная, пушистая седая борода, приличествующая пророку, струится по пурпурному бархатному одеянию, другой, африканец Валтасар, красуется в белоснежном магрибском бурнусе и тюрбане. Как и в случае с «Крещением», Рубенс снова заимствует у Микеланджело целый отряд обнаженных атлетов, на сей раз исполняющих роль носильщиков: им доверены царские дары и грузы. Мощные спины и напряженные мышцы этих согнувшихся под «багажом» атлетов составляют разительный контраст к сцене вокруг яслей, где Богоматерь, в на удивление пышном наряде, поддерживает под слабую спинку натуралистично изображенного Младенца Иисуса, принимающего дары. В окончательной версии Мария предстает в традиционном, более скромном синем мафории, а визуальный центр картины перенесен от коленопреклоненного царя к стоящему, облаченному в пурпур, в то время как свиту составляют характерные персонажи: длинноносые визири в тюрбанах, увлеченные беседой, дюжие воины и стадо верблюдов. После того как картину приобрел король Филипп IV Испанский, Рубенс существенно переписал ее во время своего пребывания в Мадриде в 1627 году, прежде всего включив собственный портрет в облике конного рыцаря и, разумеется, не забыв меч и орденскую цепь. Впрочем, в обоих вариантах атмосфера восточной роскоши, зрелище драгоценных тканей и сокровищ грозит вытеснить невинность и простоту евангельской сцены. Однако именно таким полотном антверпенские патриции, обитатели мира, в котором близко соседствовали благочестие и пышность, стремились украсить свое церемониальное пространство.
Питер Пауль Рубенс. Поклонение волхвов. 1609. Холст, масло. 320 457 см. Прадо, Мадрид
Рубенс как творческая личность органично сочетал нравственность и чувственность, словно унаследовав благочестие от матери и страстность от отца. Еще на ранних этапах его антверпенской карьеры ему, подобно Караваджо, необычайно удавались сюжетные картины, где необходимо было показать одновременно физическую силу и психологическую сложность персонажей. По-видимому, именно такая картина требовалась другу Рубенса Николасу Рококсу, бургомистру Антверпена, для украшения парадного зала, «grootsalet», его элегантного дома на Кейзерстрат, поскольку он повесил «Самсона и Далилу» Рубенса прямо над камином, чтобы картина сразу привлекала взор вошедшего. Глядя на «Самсона и Далилу», можно опять-таки составить инвентарный список иконографических элементов, почерпнутых Рубенсом для этой великолепной картины из его бездонной сокровищницы: бюст римлянки, послуживший прообразом для головы Далилы, стоящую в стенной нише античную статуэтку Венеры и Амура с повязкой на глазах, горящую свечу, эмблему сладострастия, которую держит в руке старая сводня (выходит, Рубенс разделял распространенное мнение, что Далила была блудницей), скрытое присутствие Микеланджело, ощущающееся в монументальной фигуре атлетического героя и его возлюбленной, которые повторяют позы Леды и лебедя с одноименной картины флорентийца. Однако «Самсон и Далила» есть нечто большее, чем собрание этих банальностей. Производимый ею эффект создается продуманным сочетанием нежности и грубой силы, иногда настолько удивительным, что некоторые искусствоведы ошибочно отрицали авторство Рубенса[162]: розовая рука Далилы тонкими, сужающимися к концам перстами ласкает смуглую спину Самсона; сосредоточенным, осторожным движением недруг, готовый его пленить, неловко подносит руку с ножницами к кудрям спящего гиганта, тщась остричь его и не разбудить; капитан филистимской гвардии бросает на солдата гневный взгляд, безмолвно приказывая ему не шуметь; Далила не может пошевелиться под мощным телом Самсона, ее неподвижные гладкие ножки выделяются на фоне звериной шкуы, охватывающей его бедра. В этот последний, роковой миг покоя, царящего под складками тяжелого фиолетового балдахина, еще различимы приметы животной страсти: содроганиям чувственного восторга словно вторит переливчатый алый шелк одеяния Далилы, ее белоснежная рубашка смята и неловко сдвинута, словно Самсон растерзал ее в нетерпении приникнуть поцелуем к пышной груди. Самсон погрузился в блаженное забытье, навеянное сексуальным пресыщением, его рот приоткрыт, ноздри чуть расширены, одна рука расслабленно отведена в сторону, другая покоится на лоне возлюбленной, и к ней он прижимается щекой. Он есть воплощение грубой силы, достойной жалости, всемогущества, которому вот-вот суждено обратиться бессилием.
Питер Пауль Рубенс. Самсон и Далила. Ок. 1609. Дерево, масло. 185 205 см. Национальная галерея, Лондон
Самсон и Далила – не единственные возлюбленные, написанные Рубенсом в первый год брака. Но если ветхозаветная история в самых чувственных деталях повествует о роковых последствиях безудержной страсти, то «Автопортрет с Изабеллой Брант» можно воспринимать как полную ей противоположность, как аллегорию любви, которая нисколько не тяготится узами брака и даже счастлива ими. Хотя это неофициальный, не парадный портрет, внешние правила приличия, которым подчиняется жанр супружеского портрета, вполне соблюдены. Изабелла сидит на земле, ниже Питера Пауля, и вся ее поза говорит о послушании и смирении, а они столь пристали добродетельной супруге. Ее правая рука лежит на манжете его рукава, и жест этот выглядит неформальной версией «dextrarum iunctio», «соединения рук». Еще в Античности оно символизировало священный и нерасторжимый брачный союз, а в католической Фландрии и в протестантской Голландии украшало бесчисленные обручальные кольца, изготовляемые на заказ «венчальные монеты» и медали, а также множество других памятных предметов[163]. Даже жимолость, осеняющую их и скрывающую под пологом своих ветвей, можно воспринимать как некий вариант виноградной лозы, в сборниках нравоучительных эмблем того времени неизменно обвивающейся вокруг мощного ствола дуба или вяза, который был призван изображать супруга. Однако Питер Пауль – не только надежная опора Изабеллы, но и ее храбрый рыцарь, «dappere ridder»; не случайно его левая рука охватывает изящно выкованный эфес шпаги жестом, приличествующим рыцарю, который защищает свою даму. Не столь важно, что Рубенс еще не был посвящен в рыцари, а значит, не имел права носить шпагу: его отец и другие адвокаты давным-давно постановили, что семьи юристов можно приравнять к дворянским, а Рубенс только распространил это допущение на придворных художников[164].
Питер Пауль Рубенс. Автопортрет с Изабеллой Брант. Ок. 1610. Холст, масло. 174 132 см. Старая Пинакотека, Мюнхен
Задумывая ту или иную картину, Рубенс для начала тщательно просматривал свои неиссякаемые сокровищницы, архивы визуальных и текстуальных образов, в поисках облика, ассоциаций, поз, жестов, деталей. Однако он не ограничивался этой стадией работы. За нею следовала другая, на которой Рубенс «оживлял» эти визуальные условности, облекая их плотью и кровью и придавая им естественность. На этом пути он продвинулся уже достаточно далеко, создавая генуэзские портреты, а автопортрет с Изабеллой в конечном счете замечателен не столько тем, как в нем механически повторяются традиционные клише, сколько тем, как он нарушает их, незаметно размывая их границы. Прежде супружеские портреты часто писались на фоне Эдемского сада, а их скрытое послание заключалось в том, что христианский брак искупает грех Адама и Евы. Однако Рубенс словно воссоздал для себя и Изабеллы невинность Эдемского сада до грехопадения. На двойном портрете Эдем сведен к беседке, укрывающей влюбленных, но в нем отсутствуют привычные атрибуты ренессансного сада Венеры, все эти перголы, фонтаны, лабиринты, а вместе с тем и негативные коннотации, присущие этому типу заколдованного царства. Вместо этого Рубенс помещает себя и Изабеллу в некое подобие естественного, «неприрученного» сада. Под ногами у них простирается ковер из мятлика и папоротника, над головой переплелись ветви дикой жимолости. На фоне темной листвы выделяются кудрявые пестики и тычинки, их кончики ярко освещены, они словно излучают сияние, зримый эквивалент не ощутимого зрителем густого сладостного аромата, которым напоен сельский воздух. Цветочный мотив подхватывает сначала узор на расшитом корсете Изабеллы, потом золотистая отделка ее юбки и, наконец, ступня ее мужа, вокруг которой подол Изабеллы обвился, как лепесток. Достоинство изображенных на этом двойном портрете сочетается с игривостью: девический кружевной чепчик Изабеллы скрывает ее кудри, однако поверх него она носит соломенную шляпу с дерзко отогнутыми полями; щегольские, горчичного цвета чулки ее мужа изящно оттеняет едва заметная золотистая подвязка; Изабелле пришлась по вкусу ее новая жизнь, не зря же она лукаво улыбается одними уголками губ и глазами. Поза Питера Пауля свидетельствует о том, что уроки Италии не прошли для него даром. Он предстает воплощением того, что итальянцы именовали sprezzatura, – умения властвовать и заставлять себе подчиняться без вульгарного ухарства, он есть само достоинство, смягчаемое и увенчанное изящной непринужденностью. Блеск его шелкового камзола свидетельствует о его светских успехах, четко очерченная челюсть выдает серьезность его намерений. Всей его фигуре присущ простительный оттенок самолюбования; достаточно обратить внимание на то, как выглядывает шея из отворотов отложного кружевного воротника, и это в то время, пока в консервативном Антверпене большинство еще сохраняло верность старинным брыжам[165].
Это полотно настолько внушительно, что его можно воспринимать как своего рода алтарный образ в храме супружества. Однако главный композиционный прием, лежащий в ее основе, – это извивы латинской буквы «S». Она начинается на макушке супруга, сбегает по его плечу и правой руке, проходит через соединенные руки Питера Пауля и Изабеллы, пересекает грудь супруги, повторяет очертания ее левой руки и теряется в складках ее пурпурной юбки. Они навсегда связывают Питера Пауля и Изабеллу изящными, но нерасторжимыми узами.
Двадцать первого марта 1611 года в церкви Святого Андрея крестили первого ребенка Изабеллы и Питера Пауля, девочку, нареченную в честь прабабушки Кларой Сереной. Пять месяцев спустя, 28 августа, умер дядя и крестный отец малышки. Он был погребен в аббатской церкви Святого Михаила, где за три года до того похоронил свою мать Марию[166].
Что чувствует человек, потерявший лучшего друга? Что чувствует человек, потерявший в лице лучшего друга одновременно и брата, особенно если брат и новорожденная дочь – это все, что осталось от его семьи, некогда насчитывавшей девятерых? Историки не устают повторять, что об этом мы можем только догадываться, что скорбь XVII века мы в силах разделить не более, чем погребальные ритуалы Древнего Шумера, что вездесущая чума и дизентерия поневоле заставляли ожесточиться и огрубеть сердцем. Историки предупреждают нас, что внезапная кончина близкого человека, которая сегодня повергла бы нас в глубокую печаль, воспринималась нашими предками как непререкаемая воля Провидения. Разумеется, отчасти они правы, когда предостерегают нас от того, чтобы наделять собственными чувствами культуры, еще ничего не ведающие о восторгах и муках романтической души. Впрочем, иногда они ошибаются, пеняя нам за то, что мы потрясенно узнаем собственную боль в муках предков, отделяемых от нас целыми веками. В конце концов, историки преследуют свои корыстные цели, настаивая, что прошлое-де – чужая, далекая страна, а им принадлежит монополия на перевод с ее незнакомых нам языков. Но иногда необходимости в таком переводе нет. Бывает, что, несмотря на все культурные различия, наш отклик оказывается непосредственным и эмоциональным, и мы вполне можем вообраить себя на месте скорбящих любой эпохи, любого столетия.
Питер Пауль Рубенс. Портрет Изабеллы Брант. Ок. 1622. Бумага, итальянский карандаш, сангина, белила. 38,1 29,2 см. Британский музей, Лондон
Значит, мы в состоянии понять, что чувствовал Рубенс, когда летом 1626 года Изабелла Брант умерла тридцати пяти лет от роду, возможно от холеры, эпидемия которой, начавшаяся в Антверпене за год до этого, как раз шла на убыль. Соблюдая декорум, друг Рубенса, француз Пьер Дюпюи, послал живописцу письмо с обычными утешениями скорбящему вдовцу, советуя ему смиренно принять волю Господню, пути коего неисповедимы, и уповать на то, что время исцелит его рану. Поскольку Рубенс прекрасно знал и как будто разделял философские взгляды стоиков, казалось бы, он должен был принять эти утешения с христианским фатализмом. Но он повел себя совершенно иначе. Поблагодарив Дюпюи за напоминания «о неумолимости судьбы, что пренебрегает нашими страстями и, будучи проявлением Высшей воли, не обязана давать нам отчет в своих поступках», а также за «надежду, что время излечит боль», он продолжал: «Полагаю, Ваши утешения помогут мне в том, где оказались бессильными доводы разума. Не стану уверять, будто мне по силам достичь стоического хладнокровия и самообладания. Я не верю, что глубокая, теплая и дружественная привязанность не пристала человеку и что можно быть совершенно безразличным ко всему на свете… Воистину, я утратил прекрасную спутницу жизни, которую нельзя было не любить, хотя бы по той причине, что она была совершенно лишена пороков, обыкновенно свойственных ее полу. Ей были нисколько не свойственны капризы или женские слабости; напротив, она была исполнена доброты и неизменно честна. А потому за свои добродетели она была всеми любима при жизни и горько оплакиваема после смерти. Подобная утрата не может не вызвать глубокой скорби. Несомненно, я должен уповать на то, что Забвение, дитя Времени, исцелит меня от мук. Однако едва я вспоминаю о женщине, которую любил и лелеял всю нашу совместную жизнь, как меня охватывает печаль. Возможно, я предприму какое-нибудь путешествие, просто чтобы удалиться от множества вещей, напоминающих мне о покойной и заново переполняющих мою душу скорбью»[167].
Не осталось ни одного письма, из которого явствовало бы, что в душе Рубенса точно так же боролись стремление сохранить философическое самообладание и глубокая скорбь, когда он узнал о смерти брата. Однако, учитывая их привязанность, их внутреннюю близость, нет оснований думать, что Рубенс не был убит горем. Филипп умер в возрасте всего тридцати шести лет, в расцвете своих дарований и способностей, обласканный судьбой; подобно тестю Рубенса Яну Бранту, он занимал чрезвычайно престижный и важный пост одного из четырех секретарей городского совета. Хотя он отверг ученую карьеру в Лувене, Филипп по-прежнему уделял много времени науке; он издавал античные тексты и совершенствовал труд, начатый им в соавторстве с Питером Паулем еще в Риме. Перед ним открывалось поприще высокообразованного патриция, идеально сочетающее жизнь деятельную и жизнь созерцательную.
Впрочем, нам известно одно свидетельство скорби, в котором Рубенс все-таки увековечил память брата. Но это не письменный документ, а так называемая картина «Четыре философа», ныне находящаяся в палаццо Питти и почти наверняка написанная в 1611–1612 годах. Приступая к работе, Рубенс явно задумывал нечто большее, чем простой групповой портрет: в пользу подобного предположения говорят не только размеры картины. Куда более значимо, что Рубенс объединяет в ее пространстве живых (Питера Пауля слева и Яна Воверия справа) и мертвых (Филиппа с пером в руке и его учителя Липсия, властным жестом указывающего на какое-то место в раскрытой перед ним книге). Хотя ни один из персонажей не смотрит прямо на своих соседей, это произведение все же можно счесть некоей беседой обитателей посюстороннего мира с уже ушедшими, неопровержимым свидетельством их интеллектуальной и духовной общности. Их родство провозглашают тюльпаны, ведь не случайно закрытые бутоны, символизирующие покойных, и распустившиеся цветы, аллегорически представляющие живых, стоят в одной стеклянной вазе. Одновременно эта яркая, красочная деталь служит напоминанием об одном из величайших достижений Липсия – об основанном им в Лейдене ботаническом саде, непосредственном предшественнике университетского ботанического сада. В трактате «De Constantia» («О постоянстве») Липсий сам писал о карликовом дикорастущем тюльпане вида Tulipa tulipae. Этот вид тюльпана, по преданию, привез из Персии или Турции посланник императора Фердинанда Габсбурга Гислен де Бусбеке, фламандец, хорошо знакомый изображенным на портрете, и в конце концов скрестил с другими видами в Лейдене еще один переселившийся туда фламандец, наиученейший из нидерландских ботаников Карл Клузиус[168]. Тюльпаны, поставленные в нише рядом с бюстом Сенеки, словно бы задают смысловую тональность картины. Бессмертие отказывает смерти в ее праве, не позволяет ей расторгнуть узы дружества и за могилой, подтверждая, что братья и друзья, наставники и ученики, идеалы классической древности и их современные ревнители, а также, не в последнюю очередь, любители тюльпанов неразлучны, несмотря ни на что.
Прошлое властно вторгается в настоящее, судя хотя бы по пейзажу, который открывается меж классическими колоннами, обрамляющими портретную группу. Во времена Рубенса Палатинский холм с церковью Сан-Теодоро (Святого Теодора), изображенный на картине от Капитолия, считался местом основания Рима; там, по легенде, волчица вскормила Ромула и Рема. С Палатинским холмом братьев Рубенс связывали и личные воспоминания: здесь они запечатлевали в своих блокнотах и тетрадях овеянные славой римские древности. Эти четверо гуманистов были в равной мере взращены и воспитаны римской культурой, а еще их соединяли узы памяти, различимые в многочисленных деталях картины. Преданность Питера Пауля брату символизирует одна подробность из мира природы – клематис, вьющийся по колонне над головой Филиппа. Филипп, в свою очередь, указывает пером на сочинения своего учителя Липсия, а Липсий почти касается левой рукой правой руки Воверия, которого назначил своим душеприказчиком.
Череда взаимосвязей на этом не обрывается. Филипп помогал хворающему Липсию завершить грандиозное издание трудов Сенеки, а в своей поэме, включенной в книгу «Electorum Libri II» (которую проиллюстрировал Питер Пауль), вообразил, как бюст римского стоика оживает и из-за плеча Липсия взирает на ученого за работой. Более того, он имел в виду вполне конкретный бюст, неверно идентифицированный итальянским гуманистом Фульвио Орсини как голова Сенеки; по всей вероятности, Питеру Паулю живописное изображение Псевдо-Сенеки было знакомо еще до отъезда в Италию в 1600 году. Впрочем, в Риме он увидел в палаццо Фарнезе и оригинал и был столь растроган им, что запечатлел его в разных ракурсах в целом цикле рисунков. Возвращаясь в 1608 году в Антверпен, он взял с собою его копию; именно она стоит в нише на портрете четырех философов, рядом с тюльпанами, данью памяти ушедших, воссоздавая еще одно звено цепи, соединяющей древность, недавнее прошлое и последующие поколения. Бюст Псевдо-Сенеки в качестве подобного звена кажется тем более убедительным, что в Сенеке издавна было принято видеть философа, утомленного трудами на поприще общественного служения, а также внутренней борьбой, которую он вел, стремясь примирить свои обязанности перед императором с долгом совести и долгом по отношению к ученикам. (Изможденный лик Псевдо-Сенеки, его благородное чело и запавшие щеки как нельзя лучше соответствуют этому вымышленному образу.) Липсия также воспринимали не только как издателя, но и как последователя Сенеки, ведь на долю ему выпала та же дилемма: возможно ли сочетать повиновение существующей власти с честностью перед самим собой? – и она едва его не сокрушила. Картина прославляет Липсия как воплощение философа серебряного века римской культуры: недаром он словно изрекает истины для вечности, подобно Сенеке, который, согласн античным источникам, продолжал наставлять учеников, даже по приказу Нерона вскрыв себе вены и истекая кровью.
Питер Пауль Рубенс. Автопортрет с Юстом Липсием, Филиппом Рубенсом и Яном Воверием («Четыре философа»). Ок. 1611–1612. Дерево, масло. 167 143 см. Палаццо Питти, Флоренция
Именно такую «Смерть Сенеки» Рубенс написал за два года до «Четырех философов». Это еще один опыт Рубенса в изучении жестокости и тщания. Лекарь, который, по свидетельству Тацита, всячески противился указаниям философа, на картине старательно выполняет свою тяжкую обязанность, затягивая жгут и одновременно сжимая правой рукой нож, только что вскрывший артерию мудреца. Из раны яркая, выписанная с детальной точностью струйка крови брызжет в золотой таз, сравнимый размерами с небольшой ванной. Справа от Сенеки его ученик, с пером и чернильницей в руках, завороженно приоткрыв рот, внимает ему, ловя каждое слово и будто запечатлевая услышанное кровью философа. Как и в случае со всеми шедеврами Рубенса этого периода, картина изобилует конкретными, осязаемыми, достойными натюрморта деталями, вроде тетради, которую молодой человек, пишущий на колене, для удобства сложил пополам. Они подмечены настолько точно, что превращают нравоучительную визуальную проповедь в глубоко человеческую драму. Воины, посланные Нероном, ничем не напоминают классических статистов, скорее они – поседевшие в походах ветераны, однако они невольно склоняются пред силой истины, исходящей из уст философа и освящающей его последние мгновения. Параллели со страстями Христовыми очевидны и едва ли не граничат со святотатством: на мученике – набедренная повязка, повторяющая традиционный иконографический атрибут «Ecce Homo» и «Мужа скорбей», внезапное, исполненное восторга обращение копьеносца приводит на память сотника Лонгина, уверовавшего, как только пронзил бок Христа. Лицо одного из воинов буквально излучает какой-то внутренний свет, свидетельствующий об обретении истины и напоминающий сцены Распятия[169].
Если Сенеку можно считать отцом стоической веры, то Липсия – его верным апостолом. Поэтому нельзя исключать, что на обсуждаемом групповом портрете он указывает на текст, которым особенно прославился в Европе, то есть на трактат о постоянстве, опубликованный в 1584 году в Лейдене. Скептически настроенные критики его взглядов не уставали насмешничать, что вот-де какова смелость человека, профессорствовавшего поочередно в кальвинистском университете Лейдена, в лютеранском университете Йены и католическом университете Лувена, и он еще дерзает наставлять других в добродетели постоянства! Однако в глазах страстных поклонников Липсия переменчив и неверен был мир, а не их учитель, и Рубенсу удается наделить философа честностью и прямотой, в точности передав его изможденное лицо, высокое чело неподкупного мыслителя и отороченный леопардовым мехом плащ, который он обыкновенно носил и который завещал коллегии в Галле. И наконец, на картине, в кругу ревностных поклонников Юста Липсия, появляется еще один персонаж, пожалуй более всех преданный его памяти: это охотничий пес, который сидит, положив лапу на колено Воверия, словно побуждая его скорее покориться воле покойного и сделаться его душеприказчиком. Не стоит и упоминать о том, что философ написал ученый трактат о собаках, восхваляя их верность и преданность, а также силу и, в сравнении с другими животными, незаурядный ум. На протяжении всей жизни он держал собак, и, судя по оставленным им описаниям, на групповом портрете изображен Мопс, который после безвременной гибели Сапфира в котле с кипятком унаследовал завидное место «первого пса» стоика, предмет вожделения многих других собак. А всякий, кто столь же хорошо разбирался в деталях античных саркофагов, как Рубенс, наверняка знал об обычае помещать рядом с изваянием покойного статую его любимой собаки, дабы пес сопровождал умершего хозяина в загробный мир.
Питер Пауль Рубенс. Смерть Сенеки. Ок. 1608. Дерево, масло. 181 152 см. Старая Пинакотека, Мюнхен
В противоположном от Мопса углу расположился сам живописец, посредник между прошлым и настоящим. Сейчас он кажется значительно старше того блестящего денди, что укрывался под пологом жимолости вместе со своей юной женой. Теперь его манеры исполнены серьезности и чувства собственного достоинства, он носит уже более пышные усы и бороду, как приличествует человеку зрелого возраста, его каштановые кудри поредели, обнажив высокий лоб мыслителя и сделав его похожим одновременно на брата, учителя и философа в каменной нише. Рубенс еще раз создал группу, объединенную некоей композиционной линией, извивы и изгибы которой, подобно золотой цепи, оплетают всех персонажей, подчеркивая диагональ от головы собаки к голове художника. Это сообщество единомышленников, друзей, которых не в силах разлучить даже смерть, однако они не замыкаются в себе. Их взоры устремлены не на стол, а на нас и в вечность, и взирают они так, словно готовы сообщить нам нечто важное. Не случайно братья Рубенс облачены в одинаковые черные одеяния, точно объединяющие их в стремлении передать что-то потомкам. А в живых из этих двоих остался художник, именно он производит впечатление более уверенного в себе человека, он стоит, властным жестом отставив локоть, подобно аристократу или воину. С точки зрения композиции и соблюдения декорума он занимает весьма скромное место в заднем ряду. Но именно он приковывает к себе наши взгляды и осознает это.
Не отдавая себе отчета в том, что совершает почти святотатство, купец Ян ле Гранд, рекомендуя заказать главный алтарь бенедиктинского аббатства города Синт-Виноксберген именно Рубенсу, не преминул описать его как «бога живописи»[170]. Этот панегирик он произнес в марте 1611-го, спустя каких-нибудь два с половиной года после возвращения Рубенса в Антверпен. Однако он действительно уже чем-то напоминал олимпийца, небожителя, и являл собою чудо учености, вдохновенного таланта и светскости. Впрочем, эти черты не подвигли бы набожных католиков Фландрии и Брабанта дать ему заказы, если бы Рубенс не продемонстрировал глубокое понимание того, как именно можно нести Евангелие простым людям. Несмотря на его патрицианские манеры, вера Рубенса сохранила в себе плебейское начало. Иоганн Молан, Федерико Борромео, отец Палеотти и другие религиозные деятели Контрреформации, желавшие создать с помощью живописных образов «Biblia Pauperum», Библию для бедных и неграмотных, ясно давали понять, что именно требуется от художников. Во-первых, наглядному Священному Писанию полагалось быть простым и доступным, даже в глазах человека неученого, а отнюдь не изобиловать темными аллюзиями и таинственными образами. Любому жесту и любой гримасе надлежало немедленно давать объяснение. Загадки не приветствовались. Во-вторых, полотна на религиозные темы следовало писать в самом что ни на есть реалистическом стиле, так чтобы Священная история представала не далеким прошлым чужеземной страны, но близкой и осязаемой и напоминала простому, необразованному зрителю его собственную жизнь. И наконец, подобные картины должны были властно взывать к чувствам верующих, избавлять от малейших сомнений и подвигать их к экстатическому растворению во Христе и Его Церкви.
Быстрее, чем его нидерландские предшественники и современники, Рубенс приобрел репутацию живописца, всецело отвечающего этим критериям. В итоге между 1609 и 1620 годом он написал не менее шестидесяти трех алтарных картин: двадцать две для церквей и часовен Антверпена, десять – для Брюсселя, три – для Лилля, Мехелена и Турне и еще какое-то количество для церквей Франции и Германии[171]. И ни в одной из них он не прибегал к готовым клише, не пользовался живописными штампами и не выдавал по первому слову заказчика стандартные мученичества, словно сошедшие с конвейера. Напротив, и в Италии, и впоследствии во Фландрии Рубенс чрезвычайно внимательно относился к архитектуре конкретной церкви, к ее местным традициям и покоящимся в не мощам, к особым интересам и богословским предпочтениям богатых и щедрых ее прихожан и ко всем элементам, собирая которые воедино создавал гармоничное, продуманное зрелище, совершенную, всеобъемлющую визуальную драму на священный сюжет.
Нигде эти черты не проявились столь ярко, как в его первом неоспоримом шедевре «Воздвижение Креста», написанном для церкви Святой Вальбурги. Это была не просто одна из многочисленных приходских церквей Антверпена. Она располагалась неподалеку от гавани, вблизи дома Яна Бранта на Клостерстрат, где Питер Пауль и Изабелла еще жили в 1610 году. Кроме того, она считалась одной из старейших церквей города, а ее прихожанами были рыбаки, моряки и шкиперы, облюбовавшие узкие мощеные переулки, отходящие от набережной Шельды. А освятили ее в честь святой Вальбурги Уэссекской, которая во время своего бегства из Англии в Германию чудесным образом усмирила морскую бурю и потому сделалась святой покровительницей мореплавателей, особенно страдавших от штормов на Северном море. Согласно местному преданию, святая Вальбурга упокоилась в склепе той антверпенской церкви, где многие годы провела в молитвах и постах. Первоначально эта церковь представляла собой всего-навсего примитивную по архитектуре часовню, однако в конце XV века ее площадь увеличили, пристроив два нефа. В начале XVI века собрались было расширить клирос, однако, поскольку места на тесных улочках непосредственно за церковью не оказалось, пришлось ограничиться дополнительной конструкцией на переднем фасаде, нависающей над переулком и напоминающей встроенную в здание корму фламандского грузового судна. Впрочем, в культуре, где церковь метафорически уподоблялась кораблю, это было вполне уместно[172].
Рубенс тотчас понял, что может использовать эту архитектурную нелепость для придания интерьеру церкви яркого, поистине театрального облика. Как явствует из описания внутреннего убранства церкви Святой Вальбурги, составленного Антоном Герингом, главный алтарь в ней после всех преобразований разместился очень высоко, к нему вела лестница из девятнадцати ступеней. Поэтому Рубенс решил обыграть сходство клироса со сценой, выбрав для своего триптиха подчеркнуто вертикальный формат, а в качестве сюжета – эпизод страстей, являющий квинтэссенцию возвышения, вознесения: Воздвижение Креста. Этот сюжет редко встречался в нидерландском искусстве, однако сам Рубенс уже использовал его в одной из боковых, размещающихся в церковных приделах панелей «Святой Елены» в церкви Санта-Кроче ин Джерусалемме. Основой для этой ранней версии сюжета послужила Рубенсу гравюра «Воздвижение Креста», выполненная Иеронимом Вириксом и иллюстрирующая наиболее авторитетный контрреформистский трактат о священных образах, автором которого был испанский иезуит Херонимо Надаль. Однако гравюра Вирикса и указания Надаля лишь дали размышлениям Рубенса своеобразный импульс. Обдумывая композицию будущей картины, Рубенс пришел к выводу, что самое важное – «вписать» ее в это странное, вертикально ориентированное пространство, возвышенное и величественное. Почему бы не создать трагический образ, запечатлевающий одновременно физический подъем креста и миг духовного подъема, так чтобы взор созерцателя скользил по телу Спасителя к Его очам, в муке и мольбе возведенным горе, к Отцу Небесному, образ которого, располагающийся над картиной, будет словно венчать собою всю композицию?
Возможно, памятуя о неудаче в церкви Санта-Мария ин Валличелла, Рубенс решил работать прямо на месте, что было для него совершенно нехарактерно. Чтобы художнику не мешали церковные службы, один из местных капитанов одолжил ему целый корабельный парус, а ватага матросов помогла натянуть его вокруг мольберта и над клиросом, превратив это пространство в подобие закрытого шатра, недоступного взглядам любопытствующих прихожан[173]. Под покровом парусины Рубенсу пришла в голову интересная мысль – выбрать в качестве одного из сюжетов для пределлы морской пейзаж с чудом святой Вальбурги, спасающей свой корабль во время бури; он создаст небольшую картину, своего рода гимн буйству стихий, которая впоследствии послужит Рембрандту моделью для «Христа, усмиряющего бурю на море Галилейском»[174].
В отличие от итальянских заказов, сейчас Рубенс мог позволить себе некоторые вольности в изображении персонажей, поскольку был уверен, что богатые и щедрые покровители окажут ему безусловную поддержку. Церковным старостой в церкви Святой Вальбурги числился Корнелис ван дер Гест, подобно приемному деду Рубенса, богатый торговец специями, обитатель квартала, в котором располагалась церковь, и, самое важное, один из наиболее честолюбивых и страстных антверпенских коллекционеров и ценителей искусства. Впоследствии Рубенс говорил о Гесте как «одном из старинных своих друзей» и давал понять, что он «всячески содействовал получению этого заказа».
По обыкновению, Рубенс всецело погрузился в работу, демонстрируя потрясающее сочетание быстроты и импульсивности со склонностью к продуманным экспериментам. Он подготовил предварительные эскизы мелом и пером, а персонажей заимствовал из своих прежних работ, в особенности из картин, написанных для Санта-Кроче ин Джерусалемме, однако словно вдохнув в них новую жизнь. Возведение нового главного алтаря завершилось в начале 1610 года, а к июню Рубенс выполнил достаточно эскизов, которые давали исчерпывающее представление о различных деталях картины и потому вполне удовлетворили церковных старост. В начале июня контракт был подписан, и в честь сего знаменательного события – в Антверпене иначе и быть не могло! – устроен пир в закрытом кабинете постоялого двора «Маленькая Зеландия». У Рубенса были все основания для веселья, ведь за работу ему обещали две тысячи шестьсот гульденов[175]. Уже предварительный набросок маслом свидетельствует, что в творчестве Рубенса происходит революционный перелом. Даже в консервативной Фландрии триптихи решительно вышли из моды. Может быть, Рубенс с ван дер Гестом сознательно намеревались возродить архаичную художественную форму, дабы подчеркнуть легендарную древность святой Вальбурги, подобно тому как Рубенс включил изображение руин имперского Рима, лежащих под Санта-Кроче ин Джерусалемме, в запрестольный образ, написанный для этой церкви. Одновременно он стремился объединить три панели триптиха так, чтобы они составили целостную, всеобъемлющую сцену. На боковых створках он задумал разместить отдельные сюжеты: на левой – скорбящих Марий и евангелиста Иоанна, на правой – римских центурионов и всадников, – но их жесты, их мимику, их взоры сосредоточить на Воздвижении Креста, тем самым воссоздавая единое целое с эпизодом страстей.
Гениальный замысел Рубенса заметен уже на стадии подготовительного этюда. Рубенс догадался, что все величие жертвы Христовой можно запечатлеть телесно и зримо, если возложить ее мучительное бремя на плечи тех самых грешников, ради которых она совершается, то есть палачей, пытающихся поднять крест. Разве не проще будет прихожанам, особенно из числа моряков, складских рабочих и докеров, отождествить себя с занятыми тяжким трудом грешниками, чем с самим Спасителем, не в последнюю очередь потому, что крест они поднимают с таким же усилием, как матросы – грот? Поэтому тело Христово, неподвижное и излучающее сияние, его взор, покорно обращенный к Отцу Небесному, должны были составлять контраст грубому физическому труду запыленных, грязных, вспотевших его мучителей. Рубенсу снова удалось передать удивительное сочетание насилия и покоя. Для этого он созвал свою привычную команду полуобнаженных, мускулистых борцов, гладиаторов, атлетов и акробатов из углов своих прежних картин: «Крещение» и «Поклонение волхвов» – и привел в центр сцены, тщательно выписав их смуглую кожу, покрытые потом торсы и наморщенные от напряжения лбы.
Боковые створки эскиза также в значительной мере служат воплощению основного замысла Рубенса, и потому их персонажи подхвачены вихрем яростного, изнурительного движения. Неподвижны лишь тело самого Хрста, замерший в торжественном смирении святой Иоанн и Дева Мария, изображенная не в глубоком обмороке, а в сдержанной скорби. Судя по такому облику Святой Девы, Рубенс разделял средневековое воззрение, согласно которому Она изначально знала о грядущей участи Сына[176]. Драматический контраст им составляют фигуры жен, в ужасе и отчаянии сбившихся в стайку в углу той же створки: одна не в силах поднять глаза на скорбное зрелище; другая не может оторвать от него взора; третья пребывает в нерешительности. Внизу расположилась пышнотелая Мария Магдалина, обнажившая грудь и кормящая младенца; она откинулась назад, словно боясь, что крест обрушится на нее. На правой створке римский офицер, неумолимый, бородатый (его голова скопирована с античного Геракла, которого Рубенс некогда зарисовал в палаццо Фарнезе), жезлом подает команду воздвигнуть крест.
Питер Пауль Рубенс. Чудо святой Вальбурги. Ок. 1610. Дерево, масло. 75,5 98,5 см. Музей изобразительных искусств, Лейпциг
И все-таки что-то не удовлетворяло Рубенса. Композиционной динамике картины явно чего-то недоставало. Мощным усилием воображения он восстановил отсутствующее звено. Следуя условностям классической живописи, как это делал, например, Тинторетто в своем гениальном «Распятии», хранящемся в Скуола ди Сан-Рокко в Венеции, страсти Христовы полагалось изображать на фоне холма Голгофа, откуда открывался вид на другие кресты поодаль и на окружающий пейзаж. Соблюдая эти конвенции, Рубенс поневоле показал в перспективе глубокое пространство. Однако подобная композиция потребовала не только населить задний план римскими легионерами и ворами, тем самым фактически повторяя сюжет правой створки, но и создавала вокруг центральной сцены мученичества воздушную и световую среду, ослабляя впечатление от страстей. К тому же Рубенсу нужно было учитывать не только тех зрителей, которые будут подходить к его запрестольному образу от паперти через весь неф, но и тех, кто будет сидеть внизу, под клиросом, и, соответственно, видеть картину под острым углом малого градуса. Как обычно, он решил проблему, выбрав новаторский путь. Что, если он совершит доселе невиданное и покажет только ту часть Голгофы, где происходит распятие, почти вытеснив персонажей картины из рамы и максимально приблизив сцену страстей к созерцателям, стоящим или сидящим внизу, под девятнадцатью ступенями? А что, если он еще изменит угол подъема креста? Тогда, чтобы установить его прямо, потребуется качнуть его, и он на мгновение накренится прямо в лицо созерцателю, вызвав у него невольный страх. Существовало ли свидетельство спасения более убедительное, нежели тяжкое бремя жертвы, вздымающееся из земли и властно возносящееся над головой коленопреклоненного верующего?