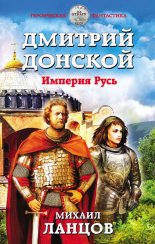Глаза Рембрандта Шама Саймон
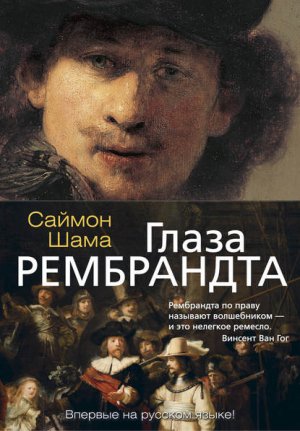
Как неустанно предостерегали проповедники, обжорство – смертный грех и непременно навлечет на чревоугодника возмездие. У амстердамских сладкоежек, постоянно лакомившихся бразильским сахаром, торговля которым полностью находилась в руках амстердамских же купцов, были безобразные, разрушенные кариесом зубы. Богачи закладывали в дупла гниющих коренных зубов зубную пасту, составленную из перемолотых каракатиц, кораллов, высушенных розовых лепестков и винного камня, причем увлажненную слюной пасту втирали прямо пальцами. А когда челюсть начинала пульсировать тупой, зловещей болью, спасались можжевеловым маслом или сушеной гвоздикой, откладывая визит к вооруженному щипцами хирургу, впрочем совершенно неизбежный. Если жертва зубной гнили, несмотря на предостережения проповедников, гордилась своей неотразимой улыбкой, то заказывала себе вставные челюсти из клыков гиппопотама, закреплявшиеся блестящей серебряной проволокой.
Трех-четырехдневный пир неумолимо сказывался на пищеварении даже самого отъявленного гурмана. Очистительные клизмы и рвотные средства, прописываемые страдающим несварением, по-прежнему заимствовались из средневековой фармакопеи и представляли собой в буквальном смысле слова горькие пилюли (и микстуры). Лекарства изготавливались из смеси таких трав и кореньев, как лакрица и сассафрас, зачастую с добавкой ингредиентов, имевшихся в арсенале всякого уважающего себя аптекаря: свежей мочи, растертых в порошок оленьих пантов и коралла, секрета жаб и тритонов. В результате получалось зелье, которое никто не в силах был проглотить, не запивая доброй порцией любимого крепкого напитка горожан – бренди. А если лекарство, сколь угодно мерзкое, все же помогало, то воспрянувший житель Амстердама мог вновь предаться порокам излишества и разврата в двух его наиболее привлекательных местных формах: попробовать на зуб золотую монету и прильнуть к сладким податливым устам, поцелуем сняв с них последнюю каплю вина.
Казалось, Амстердам изо всех сил тщится не затупить острые грани, лезвия и не скруглить углы. У точильщиков и шлифовщиков не переводилась работа. Горожан на каждом шагу окружали сабли и пики, алебарды и протазаны, коньки для катания на льду, кирки, кинжалы и кайлы для резки торфа, бритвы и скальпели, пилы и топоры, и за всеми надобно было неусыпно следить, как бы они не затупились и не заржавели. Поэтому опытные владельцы приноровились проводить пальцами по наточенному лезвию, проверяя, в порядке ли инструмент, в боевой ли готовности оружие и ощущается ли легкое покалывание, после которого, стоит чуть-чуть надавить, на коже выступит кровь.
Однако Амстердам состоял не из одних лишь острых граней и углов. Три новых канала: Херенграхт, Кайзерсграхт и Принсенграхт, на которых располагались резиденции сильных мира сего, изящно охватывали центр города, словно ожерелье из трех нитей – шею, а фронтоны, венчавшие эти изысканные дома, имели уже не ступенчатую форму, напоминавшую о средневековых замках с их бойницами и амбразурами, а плавные очертания колокола. Даже там, где архитекторы по-прежнему предпочитали прямоугольные щипцы «с шейкой», они смягчали их контуры витыми, закругленными волютами и гирляндами, придававшими известняку облик мягкого мела.
Жесткость и мягкость, грубость и нежность всегда соседствовали в этом городе. Для снятия катаракты хирурги-Товии применяли тонкие как игла инструменты с длинными спиральными рукоятями, зачастую затейливо украшенными, которые позволяли легко отделить помутневший хрусталик, не повредив роговицы. Граверы неустанно натачивали свои орудия – грабштихель и сухую иглу, чтобы, если найдется подходящий сюжет и придет нужное настроение, создать на доске линии, по своей мягкости не уступающие бархату. Вдавливая сухую иглу в податливую медную доску, они получали желобчатые, рифленые бороздки, на краях которых из крошечных металлических опилок образовывались гребни. Если не трогать эти микроскопические «гребешки», то, покрытые чернилами, они оставляли на бумаге мягкий, размытый «ореол», придававший печатной линии плавность. То же самое относилось и к серебряных дел мастерам. Самый изобретательный из них – Иоганнес Лутма осознал, насколько горожане тяготеют ко всему причудливому, асимметричному и неправильному, и стал удовлетворять спрос на подобные предметы, выковывая кувшины и умывальные тазы в форме раковин и в подражание морским волнам придавая их краям форму завитков. В руках Лутмы металл словно опровергал собственную природу и делался льющейся, текущей, прихотливой водой, а потом застывал навеки взметнувшимся волновым гребнем.
Поскольку в статуях святых и апостолов город не нуждался, амстердамские скульпторы были не очень-то заметны, хотя по-прежнему вытесывали резцами и киянками фигуры, помещавшиеся на носу кораблей, и маленькие барельефные панно, устанавливаемые на фасадах или на фронтонах зданий. Однако без тонкой ручной работы в Амстердаме не обходилось ни одно ремесло. Производители бумаги пытались соперничать с мягкими, воздушными сортами восточной выделки и потому придирчиво проводили ладонью по листам собственного изготовления, проверяя, имеют ли они впитывающую плотность, на которой настаивали наиболее требовательные офортисты. Синдики, назначенные в текстильных гильдиях следить за качеством тканей, не доверяли глазам своим и не полагались всецело на внешний облик, а тщательно перебирали перстами камлоты, дамасты и фаи в поисках пресловутых узелков и выбившихся петель. Ткачи, изготавливавшие бархат, поглаживали свое изделие тыльной стороной ладони, чтобы ощутить, достаточно ли оно гладко и возвращается ли потревоженный ворс в первоначальное положение. А поставщики товаров для живописцев кончиками пальцев долго водили по поверхности дубовых досок и основе и утку холстов, чтобы убедиться, что они должным образом впитают грунт и краску.
Однако город осязал себя не только умелыми и проворными руками искусных творцов. Медные грелки с длинными ручками висели в изножье постелей-альковов, чтобы в морозные зимние ночи согреть своих владельцев под простынями. В лучших домах служанки истово следили за тем, чтобы шелковые чулки господина и госпожи, в которые им предстояло облечь бледные икры и бедра, были неизменно сухими и теплыми. И хотя проповедники неустанно обличали пристрастие к драгоценностям как отъявленное блудодейство, в Амстердаме носили жемчуга и брильянты, и юные патрицианки умели расположить нити ожерелья так, что они возлежали меж шеей и грудью.
Однако то, что можно было привязать, приковать, закрепить, можно было и распустить, развязать, отделить. По ночам леди и джентльмены наконец-то освобождали усталые шеи от тесных воротников: пожилые – от жестко накрахмаленных, напоминающих мельничный жернов, кто помоложе – от более мягких «fraises de confusion», брыжей с волнистыми складками, или от отложных воротников. Сковывающие движения корсеты из китового уса и узкие кафтаны сменялись мягко облегающими домашними одеяниями из тафты или меха, а сапоги и башмаки с пряжками – удобными домашними туфлями, иногда без задника. А в стороне от благопристойных кварталов (впрочем, не так уж и далеко), в борделе, иногда даже существующем вполне легально, солдат торопливо запускал потные руки под тонкую рубашку девицы, а на его прикосновения отвечали сразу две пары женских рук: одна, вторя его ласкам, ощупывала его пах, другая в это время молниеносным движением проникала в его карман и проворно ускользала, сжав меж большим и указательным пальцем кошелек.
А что можно было увидеть в Амстердаме? Весь огромный мир, и даже больше, если наведаться к искусному шлифовальщику линз и взять у него напрокат телескоп: тогда перед вами представали бесконечные, испещренные мириадами крохотных звезд небеса и, вся в пятнах, луна, блеклая, ни дать ни взять миска прокисшего молока.
В Амстердаме постоянно хотелось запрокинуть голову: эта плоская равнина непременно стремилась куда-то ввысь. В гавани мощные портовые краны то и дело поднимали грот-мачты, устанавливая их на палубе торговых судов, совершающих регулярные рейсы в Ост-Индию и горделиво вздымающих высоко над водой бак и нос; иногда эти краны разгружали содержимое трюмов в маленькие легкие лодки, которым предстояло развезти товары по причалам и пристаням поменьше. В Амстердаме нередко можно было увидеть многоэтажные склады, а городские дома купцов, возведенные по берегам новых каналов, которые словно кольцом охватывали теперь центр города, часто доходили и до шести этажей, то есть были куда выше, чем резиденции богачей в Лейдене или в Дельфте. Их фасады венчали фронтоны, в том числе облицованные по последней моде бентхаймским известняком или песчаником, не просто украшенные колоколами и «шейками», а целые фронтоны-храмы, со щипцами, пилястрами, кариатидами, с поддерживающим земной шар атлантом и с отдельно стоящими обелисками. Над слуховыми окнами по небу плыли флюгера в форме дельфинов и парусников, а с противоположного берега канала на них взирали каменные и гипсовые орлы и пеликаны. Когда возвели новую линию укреплений, чтобы охватить центр города с тремя новыми каналами, старинные бастионы, с их эффектными надвратными башнями, утратили всякое оборонительное значение. Однако де Кейзер и его помощник, городской архитектор Хендрик Статс, решили сохранить их ради величественного облика, напоминающего итальянские колокольни кампанилы, и ради уникальных названий, отражавших их предназначение: бастион Схрейерсторен, именуемый так по железным крючьям, «schreier», загнанным в его стены, бастион Харингпаккерсторен, под остроконечным кирпичным шпицем которого солили рыбу. В 1631 году, когда церковь Вестеркерк распахнула свои врата прихожанам, ее шпиль оказался самым высоким архитектурным сооружением в республике и достигал двухсот тридцати восьми футов, а на вершине его была установлена позолоченная корона в память о геральдической короне, по преданию дарованной городу императором Максимилианом.
Ничто на свете не могло утаиться от жадного, пытливого, любопытствующего взора амстердамца. Он завороженно созерцал тропических животных: ост-индских слонов и тигров, привозимых из Бразилии капибару, тапира и броненосца, или «свинью в доспехах», обезьян ростом с кулачок или с высокого солдата и самое поразительное создание – птицу, не умеющую летать, дронта с острова Маврикий, живого и на удивление безобразного, впервые показанного зрителям в 1626 году. В тех случаях, когда публике, готовой платить за необычайное зрелище, нельзя было продемонстрировать живой экземпляр целиком, ей предъявляли наиболее поразительные части его тела, чаще всего щупальца и выросты, например китовый пенис, рог чудовищного «renoster», или носорога, и спиральный бивень нарвала, указывая на который знатоки могли убедить доверчивых простаков, что «een-horn», единорог, на самом-то деле обитает в морских глубинах. На рынке Ботермаркт (ныне площадь Рембрандтсплейн) демонстрировались заспиртованные рептилии, в том числе особо популярные гигантские, свернувшиеся кольцами змеи и какой-то непонятный чешуйчатый объект, по мнению авторитетных специалистов представляющий собой чрево дракона. Там же зеваки глазели на огромные репы и брюквы, опухоли фантастических очертаний и живых чудовищ и монстров – например, на сиамских близнецов, сросшихся бедрами, карликов и великанов, лапландцев и эскимосов, своим запахом, как уже заметил Тринкуло, более напоминавших рыбу, нежели человека, на полуобнаженных индейцев, расписанных синими и пурпурными узорами, ужасно ощерившихся, с кольцами в носу, испещренных специально нанесенными шрамами и столь погрязших в варварстве, что, по слухам, предпочитали всем мясным блюдам на свете окорок из человеческого бедра.
Те, кому претила низменная суета, грязь и примитивные увеселения, могли увидеть мир в безмятежной тиши библиотеки. Прежде образ мира создавался в Антверпене, но было это, по словам мудрых старцев, в те времена, когда город сей был центром империи, охватывавшей и Европу, и Азию, и Африку, и Америку. Но эта эпоха давно прошла. Сейчас он превратился в жалкого лакея Испании, он кишмя кишит монахами, а вот денег в нем что-то не водится. Если хотите увидеть американское серебро короля Филиппа, приезжайте лучше в Голландию, ведь именно сюда флот Пита Хейна доставил это сокровище, захватив у испанцев три года тому назад, в 1628-м. Некогда именно Антверпен снабжал Европу глобусами и всевозможными картами и показывал мореплавателям и географам очертания континентов и границы морей. Не то сейчас. Теперь фламандцу Герарду Меркатору карты, объединенные в сборники, которые он нарек «атласами», печатает амстердамская фирма Хондиуса, хотя он изо всех сил соперничает с признанным мастером Виллемом Янсом Блау, также изготавливающим прекрасные, точные глобусы, не имея которых в своем распоряжении ни один джентльмен не может считать себя образованным. С каждым последующим изданием на картах появлялись новые земли, вроде таинственной южной «terra australis», о существовании которых совсем недавно никто и не подозревал, словно Господь Бог по произволению своему возжелал открыть последние тайны мироздания. А наведавшись к Блау, «schipper», мореплаватель, мог обзавестись орудиями и инструментами для поиска этих новых земель: не только всевозможными картами, но и навигационными и оптическими приборами, которые позволяли ему проложить курс в море с невиданной прежде точностью.
Чтобы перед созерцателем предстала вся земля в ее широко раскинувшихся пределах, надобно было кончиком перста обвести на карте края каждого архипелага и каждого побережья, увиденного где-то далеко-далеко капитанами Голландской республики, а иногда и тоненькие пунктирные линии, таинственно теряющиеся в открытом океане и заставляющие мучительно гадать: что же там?.. Те, кому недоставало ни воображения, ни терпения, могли обозреть все «tout coup», подержав на ладони мир, вырезанный искусным мастером на ореховой скорлупке, вишневой косточке или на поверхности одной-единственной жемчужины. Страстные коллекционеры редкостей любили похваляться загадочными образами, созданными природой без всякого участия человека: безмятежным пейзажем с облачными небесами и рощицей вдали, который можно было различить в узоре, пятнающем моховой агат или безоар, из тех молочно-кремовых, похожих на крохотные луны камней, что находят в желудке жвачных животных. Другие чудеса изяществом и блеском превосходили все, что в силах было вообразить человеческое сознание: вот хотя бы раковины размером с кошку, снаружи испещренные причудливыми пятнами и полосами, фиолетовыми, пурпурными, темно-коричневыми, а внутри таящие розовую нежную складчатую щель, напоминающую вход в женское тело.
Антони ван Левенгук еще не изобрел оптический прибор, который откроет человечеству целый доселе невиданный мир микроскопических существ, кишащих даже в капле воды. Однако увеличительные стекла, достаточно мощные, чтобы показать волоски на ножках китовой вши или отдельные сегменты жала скорпиона, уже были доступны первым исследователям микрокосма. Любитель мог прильнуть глазом к бархатной оправе такого стекла и узреть другой, немигающий глаз, взор которого был устремлен прямо на него: покрытый изящной филигранью линий, испещренный поперечной штриховкой пугающе всезнающий и мудрый глаз журчалки или крохотные глазки-пуговки лангуста или краба, помещающиеся на кончиках стебельков. А в городе, где значительную часть года царила полутьма, неизбежно находились и те, кто мечтал об идеальной прозрачности и совершенном сиянии: шлифовщики драгоценных камней, искавшие горный хрусталь такой чистоты, что позволила бы им вырезать сферу, при взгляде на которую показалось бы, что она не поглощает, а излучает свет; оптики – изготовители очков, обещавшие зоркость рыси близоруким, которые не в силах и шагу ступить.
В 1617 году, спустя двадцать лет после того, как Амстердам неохотно принял протестантизм, когда первые голландские корабли стали доставлять в лагуну зерно и соль, разочаровавшийся в своих соотечественниках венецианец Антонио Обисси привез с Мурано в Амстердам секреты стеклодувного ремесла. Дюны Северного моря обеспечили его и его учеников несметным количеством кварцевого песка, и уже к двадцатым годам XVII века такие амстердамские стеклодувы, как бывший маслобой Ян Янс Карел, производили весьма широкий ассортимент изделий. Постепенно традиционные оловянные пивные кружки стали теснить бокалы-рёмеры с декором в виде ягод малины, с полой ножкой, из зеленого или золотистого стекла, получаемого при добавлении железа к расплавленному кварцевому песку. Люди с более утонченным вкусом могли приобрести высокие тонкие бокалы и «bekers», кубки на серебряных ножках в виде когтистых лап. Амстердамское стекло не могло соперничать с более нарядными и изящными изделиями венецианских и нюрнбергских мастеров, однако уже недурно себя зарекомендовало. Узкие высокие фасады расположенных по берегам каналов домов теперь на трех-четырех этажах прорезал ряд довольно больших окон, пропускавших свет в прежде мрачные, полутемные помещения. А люди побогаче залучали в комнаты свет, еще и развешивая зеркала: овальные, круглые, прямоугольные. Впервые в истории большинство этих зеркал были не выпуклые, а плоские, поскольку стекло теперь удавалось отлить и гладко отшлифовать, чтобы затем нанести на него олово и ртуть. Висящие на гвоздях или карнизах, иногда чуть-чуть наклоненные вперед, так чтобы в них попадало больше уличного света из окон напротив, эти зеркала показывали горожанам их неподдельный, истинный облик, приводя в восхищение, или в недоумение, или в ярость. И хотя проповедники без устали поносили зеркала как орудие тщеславия и праздности, а разглядывание себя в оных – как грех, не многие могли противиться искушению бросить на себя взгляд, хотя бы для того, чтобы быстрым жестом надвинуть на глаза фетровую шляпу с широкими полями или поправить кружевное жабо.
«Ex tenebris lux!» Империя торговцев узрела свет и, возможно, впервые без прикрас воочию увидела себя. Но, даже восхищаясь тем, что предстало перед нею в зеркале, или недоумевая по поводу своего отражения, она осознавала, что зеркальный образ обманчив в своей мнимой неподвижности, осязаемости и плотности. На самом деле он столь же мимолетен, сколь и отражение, увиденное с моста на поверхности канала в редкое для Амстердама безветренное утро. Чтобы воистину узреть себя и дать понять последующим поколениям, что означает быть амстердамцем, им нужны были глаз и рука художника.
Константин Гюйгенс убеждал Рембрандта и Ливенса непременно поехать в Италию. Поэтому Ливенс отправился в Англию, а Рембрандт – в Амстердам.
Для человека с амбициями и притязаниями Рембрандта Лейден был захудалым провинциальным местечком. Картины там, конечно, писали и меценаты водились, но гильдии Святого Луки там не было, она появилась только в 1648 году. Отсутствие подобного ремесленного цеха означало, что теоретически продать свои работы художнику легче. Но если сравнить с Утрехтом, где могущественный глава гильдии художников мог объединить своих коллег в подобие неформального синдиката, которому доставались важные придворные заказы, то лейденская «неформальность» оказывалась скорее недостатком. С другой стороны, Рембрандт мог переехать в Гаагу и, воспользовавшись рекомендациями Гюйгенса, подвизаться при дворе. Однако, если не брать в расчет широкие улицы и площади вокруг озера Вейвер, Гаага, в сущности, оставалась маленьким городком. Амстердам, напротив, был столицей, многолюдной, богатой и беспечной. Когда Рубенса удостоили звания придворного художника, он подчеркнул, что хотел бы остаться в Антверпене, где можно писать не только для принцев, но и для купцов. К тому же крупные города, вроде Антверпена или Амстердама, неизменно привлекали учеников и подмастерьев. В Лейдене в 1628–1631 годах у Рембрандта было четверо учеников, вносящих плату за уроки живописи: Доу, Ян Йорис ван Влит, Жак де Руссо и осиротевший сын трактирщика Исаак де Жюдервиль, которого он, вероятно, взял с собой в Амстердам. Видимо, в глазах соотечественников он уже руководил чем-то, что можно было обозначить как мастерская, «круг», и, возможно, мастерская эта специализировалась на портретиках-«tronies» мавров, яванцев, стариков, солдат, на гравюрах с изображением нищих и бродяг, на небольших полотнах на исторические сюжеты. Однако знакомство с Гюйгенсом навсегда изменило его судьбу. Его «исторические сюжеты» сделались куда возвышеннее и величественнее, а амбиции возросли им под стать.
Рембрандт ван Рейн. Вид Амстрдама с северо-запада. Ок. 1640. Офорт. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк
Кроме того, Питер Ластман не прервал отношений со своим бывшим учеником. После того как Рембрандт вернулся в Лейден, он по-прежнему давал ему советы. Амстердам был именно тем местом, где можно было заявить о себе и сделать себе имя. Заказы, полученные Ластманом от датского королевского двора, подтверждали, что Утрехт не обладает монополией на хорошо оплачиваемые исторические полотна. К тому же каждый день на амстердамских каналах появлялись новые роскошные дома, а владельцы хотели, чтобы комнаты украшали их портреты. Иными словами, отправляйся за деньгами, отправляйся в улей.
Так Рембрандт и поступил. В Лейдене он оставил совсем не ту семью, которая провожала его, когда он уезжал учиться живописи. Ослепший патриарх Хармен Герритс в апреле 1630 года упокоился в церкви Синт-Питерскерк, а спустя полтора года за ним последовал старший сын Геррит, возможно так и не поправившийся после несчастного случая на мельнице. Теперь всем распоряжались четверо братьев: Рембрандт, его старшие братья Адриан и Виллем и таинственный младший брат Корнелис, о котором ничего не известно. После того как Геррит получил увечье, Адриан бросил сапожное ремесло, вновь вернулся на мельницу и, возможно, стал вести дела вместе с Виллемом, пекарем и торговцем зерном. Именно Адриан принял на себя заботу о семействе ван Рейн. В доме на Веддестег теперь обитали овдовевшая мать Нельтген, которой уже исполнилось шестьдесят, и две незамужние дочери, Махтельт и Лейсбет. В 1640 году, после смерти Нельтген, Адриан вернулся в родительский дом, однако семейная собственность уже была распределена, с тем чтобы обеспечить женщин средствами к существованию, если они переживут мужчин, как это нередко бывало. Часть доходов они получали от сдачи недвижимости внаем. В марте 1631 года Рембрандт купил «садовый» участок неподалеку от башни Витте-Порт, уберегая своих близких от возможных финансовых потрясений, которые все голландцы ожидали в следующем десятилетии. В конце 1631 года, уезжая из Лейдена, он не сомневался, что семья его будет жить безбедно.
В 1631 году перебраться из Лейдена в Амстердам означало не просто поменять место жительства, но и пересечь границу вражеских земель. В конце двадцатых годов XVII века, в разгар споров о веротерпимости, главные города Голландии разделились на два непримиримых лагеря. В кальвинистском Лейдене власть по-прежнему находилась в руках воинствующих, несгибаемых контрремонстрантов, которые и знать не желали о ремонстрантских молитвенных собраниях, а тем более о католических обеднях. Хотя штатгальтер и такие торговые города, как Амстердам, Роттердам и Дордрехт, теперь выступали за мирные переговоры с Брюсселем, лейденские проповедники до сих пор осуждали подобное предложение как политическую измену и предательство религиозных идеалов. Когда воины Господни слышали призывы амнистировать и вернуть из ссылки Гуго Гроция, чаще всего раздававшиеся из Роттердама, с ними едва не делался апоплексический удар.
Амстердам во всех смыслах представлял собой иную вселенную. Еще при жизни принца Морица, в 1622 году, могуществу контрремонстрантов там был нанесен серьезный удар, когда наиболее ярый поборник кальвинистского учения – Рейнир Пау потерпел поражение на выборах бургомистра. Спустя год после прихода к власти Фредерика-Хендрика городской совет решительно отринул кальвинистский режим принуждения, избрав на два из четырех бургомистерских постов Андриса Бикера и Герта Диркса ван Бёйнингена. Вскоре Бикер станет крестным отцом амстердамских олигархов, а его безжалостная жестокость облачится в одежды разума. Однако к этому времени Бикер, с его тяжелой челюстью и длинным носом, уже сделался внушающим трепет главой несметно богатой торговой компании, состоящей из членов его семьи. Он и трое его братьев, Якоб, Корнелис и Ян, унаследовали преуспевающую пивоварню и превратили ее в гигантскую купеческую империю, поделив весь мир на «колонии Бикеров». Андрису достались индийские пряности и русские меха, Якобу – прибыльная торговля лесом и зерном с Прибалтикой, Корнелису – знойное, опаляемое жарким солнцем, полное опасностей царство американо-бразильского сахара, а на долю бедняжки Яна выпали всего лишь Венеция, Восточное Средиземноморье и крупная верфь. Что ж, с Бикерами приходилось считаться. Андрис особенно преисполнился презрения к фанатичным приверженцам кальвинизма. Именно их чрезмерный религиозный пыл и стремление во что бы то ни стало построить теократическое государство, с его точки зрения, были отчасти повинны в том, что в городе наступил экономический спад. Не будучи ремонстрантом лично, он тем не менее выступал за то, чтобы разрешить им частное, непубличное богослужение, и даже не возражал против назначения ремонстрантов на городские посты. Ведь что такое, в конце концов, городская власть, если не бизнес? А бизнесу не с руки изгонять и объявлять вне закона ни состоятельных и предприимчивых дельцов, ни, если уж на то пошло, честных ремесленников-ремонстрантов, ведь город отчаянно нуждался в их капиталах и в их умениях. Люди здравомыслящие уже раскаивались, что некогда позволили увлечь себя фанатикам, разжигавшим разрушительные инстинкты толпы. Бикер и его сторонники решили, что это не должно повториться. В первые годы своего правления Бикер, ван Бёйнинген, Якоб де Графф, Антони Утгенс и сказочно богатый Якоб Поппен (которого проповедники не уставали обличать как тайного католика) вместе со своими коллегами повели дела весьма ловко, искусно и хитроумно: сначала притворяясь, будто не могут провести карательные и запретительные меры, а затем уверяя, будто не в силах воспрепятствовать ряду лиц занять определенные посты.
Патриции, составлявшие ядро городского совета, нисколько не сомневались в том, что Блюстители Нравственности и Стражи Пути Праведного не оставят без внимания их уловки и хитрости. Так и произошло. Наиболее яростный и гневный из контрремонстрантских проповедников – Адриан Смаут еженедельно поносил либеральных бургомистров с церковной кафедры, браня их «либертенами», «мамелюками» и подлыми лицемерами, которые лишь объявляют себя верными сынами Реформатской церкви, а на деле разрушают ее изнутри. Они-де хуже еретиков и отступников, злодеи, «смущающие Израиля», вознамерившиеся «опустошить святилища». В его массированных атаках Смаута поддерживали собратья-кальвинисты, как и он, возомнившие себя пророком Иеремией: Якоб Тригланд и Иоганнес Клоппенбург.
Пока дело ограничивалось проповедями, страстными речами и словесными обвинениями, Бикер и его друзья просто отмахивались от них, как от назойливых мух. Однако в 1626 году события приняли куда более мрачный оборот. В Вербное воскресенье Смаут произнес пламенную проповедь, в которой призвал всех, воистину внемлющих Слову Господню, подняться на праведную борьбу против безбожных бургомистров и их пособников. Как и следовало ожидать, последовали беспорядки, и во время их подавления двое в толпе недовольных были застрелены солдатами городской милиции. Однако верность этих стрелковых рот властям постепенно стала вызывать все большие сомнения, особенно среди младших офицеров, где было много фанатичных кальвинистов. В 1628 году, когда на посту капитана одной из рот ополчения контрремонстранта сменил ремонстрант, представитель одного из богатейших амстердамских семейств, ван Влосвейков, значительное число рядовых и часть младших офицеров пригрозили властям бунтом. Сложилось столь серьезное положение, что отцы города были вынуждены просить штатгальтера лично явиться для умиротворения горячих голов. Штатгальтер внял призывам и, заранее предвидя театральный эффект подобного выбора, вошел в город, сопровождаемый ремонстрантским и контрремонстрантским священниками. Однако этот жест никого не убедил. Напротив, возможно, именно этот спектакль побудил лидеров взбунтовавшегося ополчения отправиться с жалобой в гаагские Генеральные штаты, где, как они справедливо рассудили, их поддержат делегации Харлема, Дельфта и Лейдена. Они утверждали, что городской совет Амстердама обязан действенно и самоотверженно защищать «истинную» Церковь, а не закрывать глаза на то, как ее разрушают всяческие «псевдопаписты», что именно они, «schutters», стрелки, есть глас народный и что их нельзя было бросать на подавление праведного гнева.
И тут они просчитались. Фредерик-Хендрик не собирался прислушиваться к мнению каких-то выскочек-капралов и никому не известных стрелков, осмелившихся поучать его, что есть права человека и каковы пути праведных. Вместо того чтобы поддержать лидеров стрелковых рот, он отправил в Амстердам войска – арестовать их и очистить ряды милиции от смутьянов. Отныне город пребывал во власти Господа Бога и Андриса Бикера, у которого явно сложились со Всемогущим прочные деловые отношения. В январе 1630 года он и его коллеги по городскому совету, «vroedschap», выслушав поток особенно яростных обвинений, которые обрушил на них проповедник Смаут, решили, что их терпение лопнуло. Его изгнали из Амстердама, а вслед за ним в знак протеста отправились Тригланд и Клоппенбург, что было очень на руку бургомистрам. С этих пор они или их представители участвовали в заседаниях церковного суда, чтобы пресекать распространение подстрекательских речей или деяний. На этих заседаниях им редко приходилось выступать. Достаточно было просто сидеть, безмолвно сложив руки, сурово поджав губы, не снимая шляпы; одно лишь их присутствие служило предостережением.
Куда же отправились воинствующие кальвинистские проповедники? Конечно, в Лейден, ведь члены тамошнего городского совета, как и его коллеги в Харлеме, бросили вызов Амстердаму, сделав рассчитанный жест: они наложили на молитвенные собрания ремонстрантов еще более строгий запрет, чем прежде. Противостояние двух городов тем самым достигло апогея. В Голландии они олицетворяли диаметрально противоположные взгляды на политику и религию: точку зрения упрямых, ортодоксальных, воинствующих фанатиков и другую, плюралистическую, неортодоксальную, прагматичную. А Рембрандт, как мы уже видели, склонялся к разнообразию и разносторонности.
Нельзя сказать, что его семья принадлежала к числу ремонстрантов или формально заявляла об их поддержке. Его отец и его брат Геррит, вероятно (по крайней мере, внешне), исполняли ритуалы ортодоксальной Реформатской церкви, поскольку оба были похоронены в Синт-Питерскерк, церкви Святого Петра. Однако семья его матери сохранила верность католицизму, а Рембрандт совершенно точно поддерживал отношения с отъявленными арминианами, вроде Петра Скриверия. К тому времени, как Рембрандт перебрался в Амстердам, борьба за власть уже прекратилась. В 1631 году ремонстрантская церковь распахнула свои врата и публично призвала прихожан на молитву впервые со времен переворота 1618 года. По подсчетам потрясенных кальвинистов, в городе тайно существовало сорок католических церквей. В Амстердаме имелась также если не совсем синагога, то еврейский молитвенный дом, а также дома молитвенных собраний лютеран и меннонитов, на которые тоже никто не покушался. Первая волна меценатов и заказчиков Рембрандта включала представителей всех перечисленных вероисповеданий и конфессий, а в течение четырех лет он будет снимать жилье у одного из наиболее известных амстердамских меннонитов, антиквара Хендрика ван Эйленбурга.
Режим веротерпимости, почти отказавшийся от цензурных ограничений, преобразил амстердамскую культуру, не только привлекая иноверцев. Высшее учебное заведение Амстердама «Athenaeum Illustre», «Блистательный Атеней», члены городского совета, которых кальвинисты заклеймили как «либертенов», основали специально в качестве некоей альтернативы Лейденскому университету, а тот, в свою очередь, после долгого и упорного сопротивления согласился терпеть соперника, при условии, что он не будет именовать себя ни «коллегией», ни «академией», ни «университетом». Первые профессора «Блистательного Атенея» Герард Воссий и Каспар Барлаус, известные ремонстранты, в свое время были изгнаны из Лейденского университета и предпочли остаться в Амстердаме. В день торжественного открытия «Атенея» Воссий прочитал лекцию под названием «Назначение и польза истории», обращаясь столь же к своим лейденским противникам, сколь и к нынешней избранной аудитории. На следующий день Барлаус, специализировавшийся на латинской риторике, приспособленной к интересам и потребностям торговых классов, произнес речь на тему, близкую сердцу Бикеров, Поппенов, Утгенсов и им подобных: она была посвящена «mercator sapiens», «мудрому купцу».
О том, что Рембрандт принят в амстердамское братство веротерпимости, ни одна картина не возвещала более решительно, чем героический портрет патриарха ремонстрантов Иоганна Уотенбогарта, написанный в три четверти[342]. До катастрофы 1618–1619 годов Уотенбогарт служил советником при Олденбарневелте, а также личным проповедником при штатгальтере Морице и воспитателем его сводного брата Фредерика-Хендрика, причем явно произвел более глубокое впечатление на младшего из принцев. Дабы не разделить судьбу Олденбарневелта и Гроция, он бежал во Францию, но вернулся в 1625 году, когда его сиятельный ученик сделался штатгальтером. Впрочем, Уотенбогарт быстро дал всем понять, что сидеть тихо не намерен. Чтобы всегда пребывать в гуще политических событий, он решил поселиться в Гааге и, заручившись поддержкой Симона Епископия, вновь возглавил набиравшую силы и ширившуюся кампанию за утверждение веротерпимости. В апреле 1633 года, когда он на несколько дней приехал в Амстердам, Рембрандт написал его по просьбе пригласившего Уотенбогарта богатого амстердамского купца Абрахама Антониса, дочь которого выходила за сына блаженной памяти Арминия. Значит, Рембрандт воспользовался случаем воздать должное и конкретному человеку, и делу его жизни. К моменту написания портрета Уотенбогарту было далеко за семьдесят, но Рембрандт изображает его полным сил, величественным и даже не лишенным воинственности. Однако главное – это его жесты (одну руку он приложил к сердцу, а другой сжимает пару перчаток, традиционный символ верности), свидетельствующие о честности и неподкупной преданности своему делу, а в этих достоинствах Уотенбогарту не отказывали даже враги. Но преданности чему именно? Ответ, как всегда, таится в книге.
Рембрандт ван Рейн. Портрет Иоганна Уотенбогарта. 1633. Холст, масло. 130 103 см. Рейксмюзеум, Амстердам
Судя по всему, это Библия, хотя Рембрандт по свойственной ему привычке не позволяет зрителю различить текст на ее страницах. Однако она столь же ярко освещена, сколь и лицо Уотенбогарта: мы ясно видим высокое чело философа и на удивление прямой, требовательный взор утомленных чтением глаз с покрасневшими веками, на которые Рембрандт наносит каплю кармина, будто изображенный устало потер их руками, видим каждую старческую морщину и мимическую складку, словно годичные кольца на несокрушимом дубе, свидетельствующие о великой стойкости. И хотя у Рембрандта, возможно, не было времени даже схематично набросать на холсте все главные детали облика своей модели и некоторые фрагменты, например низко опущенную правую руку, он мог поручить ученику, композиция в целом решена необычайно хитроумно, искусно и проницательно, но при этом не производит впечатления надуманной. Плоеный круглый воротник, чуть прикрывающий подбородок Уотенбогарта, подчеркивает жесткие очертания его нижней челюсти и рта, а тень, падающая на внутреннюю поверхность воротника слева, может означать, что Рембрандт точно схватывает движение, а его модель внезапно поворачивает голову к зрителю. Даже несколько неудачное расположение в пространстве картины книги и шляпы, лежащих на столе, словно выталкивает портретируемого на передний план. Иными словами, эта композиция не позволяет увидеть в нем почтенного старца. Вместо этого Рембрандт создает образ мыслителя-героя, отмеченного печатью тяжких испытаний, но не сломленного, в сильном теле которого словно объединились жизнь созерцательная и жизнь деятельная.
Ко времени написания этого портрета Рембрандт уже прославился мастерством, с которым запечатлевал активных и энергичных, однако склонных к глубоким размышлениям. Ведь он быстро сообразил, что именно такая поза как нельзя более пришлась по нраву не только интеллектуалам и лицам духовнго звания, но и циничным и немало повидавшим крупным коммерсантам, которые задавали тон среди амстердамских патрициев. Он появился в городе в 1631 году, когда они наслаждались успехом и поздравляли друг друга с благословленной Господом удачей, с удивительным прагматизмом и с тонким политическим чутьем. Кроме того, они всячески стремились подчеркнуть свой изысканный эстетический вкус, особенно в собственных портретах, и полагали, будто ушли далеко-далеко от своих предков, торговавших банальными, пошлыми, заурядными вещами: рыбой, зерном, деревом, кожами, пивом. Склады сыновей переполняли уже не предметы повседневного быта, а предметы роскоши: шелка, меха, бархаты, брильянты, вина, пряности, сахар. А разбогатели они, как их дедам и не снилось. В 1631 году состояния десяти богатейших жителей Амстердама исчислялись в сотнях тысяч гульденов. Многие вкладывали доходы от коммерции в благоразумное и своевременное приобретение недвижимости, многократно увеличивая эти вложения. Им принадлежали земельные участки на окраине Амстердама, которые, когда городские границы раздвинулись, mirabile dictu, внезапно сделались лакомыми кусочками и за которые застройщики соглашались платить огромные суммы. А еще они успели скупить ни на что не годные болота и мелкие заливы в местности Нордерквартир к северу от города, вложили немалые деньги в их осушение, превратили сильно увлажненные, заболоченные земли в подходящие для строительства и земледелия и стали спокойненько ждать, пока цена на них не взлетит в четыре-пять раз по сравнению с первоначальной.
Всё в Амстердаме свидетельствовало о невозмутимой самоуверенности правящих олигархов. Горожане вряд ли заметили приезд нового художника, Рембрандта ван Рейна, однако едва ли обошли вниманием том формата ин-фолио под названием «Architectura Moderna», опубликованный Саломоном де Браем в 1631 году. Сознательно ориентируясь на книги о зодчестве таких венецианских архитекторов, как Серлио, а возможно, даже на сборник чертежей генуэзских палаццо, изданный Рубенсом в 1622 году, де Брай в своем прекрасном труде отдавал дань памяти наиболее плодовитому и оригинально мыслящему из голландских архитекторов – Хендрику де Кейзеру, умершему за восемь лет до этого. Однако нельзя было превозносить заслуги человека, заново создавшего местную гражданскую и церковную архитектуру Голландии, не прорекламировав одновременно пышности и роскоши домов, в которых обитали самые богатые жители Амстердама. В книге де Брая содержался явный намек, что, хотя городские резиденции нынешних патрициев и украшают отделанные кирпичом фасады и щипцы, это не просто купеческие дома. Это первые голландские палаццо. А ощущение великолепия в особенности охватывало созерцателя на Кайзерсграхт, напротив новой блистательной церкви Вестеркерк, впервые растворившей врата прихожанам в «Pinksterdag», Троицын день, 1631 года. У излучины канала зодчий Якоб ван Кампен, без стеснения подражающий античному стилю, построил еще для одного из «десяти богатейших амстердамцев» Бальтазара Койманса и его брата настоящее городское палаццо, облицованное камнем и увенчанное богато украшенным фронтоном.
Внешний облик такой резиденции свидетельствовал о претензиях нового патрициата на утонченность, недаром на верхних ее этажах теснились гипсовые гирлянды цветов и плодов, волюты, зубцы и фестоны. Во внутреннем убранстве свою незаменимую роль в обществе владельцы, едва ли не совершая грех гордыни, подчеркивали портретами.
Поэт Шарль Бодлер удачно заметил, что в основе любого портрета лежит желание художника «переиначить модель»[343]. На самом деле портреты – результат трехстороннего соглашения: между восприятием моделью собственной личности, между видением этой личности живописцем, зачастую исключительно воображаемым, ни на чем не основанным, кроме желания посмеяться над заказчиком или творчески переосмыслить его образ, и, наконец, между теми социальными конвенциями, которым портрет должен удовлетворять[344]. Не стоит и упоминать о том, что в Голландии XVII века от художников требовалось передавать сходство. Однако, несмотря на то что портрет обыкновенно именовался словом «conterfeitsel», то есть «копия», которое на современный слух предполагает точное подобие, портреты, хотя бы в силу своей двухмерности, не могли быть абсолютными копиями оригинала. Разумеется, проповедники-иконоборцы обличали святотатственное высокомерие живописцев, тщившихся присвоить копирайт Господа Бога на Его творение. Даже художники, мало задумывавшиеся над подобными вопросами, предполагали, что «портрет», сколь бы точно он ни воспроизводил черты модели, есть нечто иное, чем просто факсимиле.
Это «нечто», по мнению живописцев, было некоей визуальной возгонкой, дистилляцией самого существенного, в чем кроется личность модели. До эпохи романтизма эта маска, персона, личина представлялась скорее социальной, нежели психологической конструкцией: джентльмен, воин, ученый, супруг, помещик. А передавать этот статус надобно было через позу, жест, осанку, костюм и атрибуты: джентльмена полагалось изображать со шпагой, ученого – с книгой или с античным бюстом. Однако даже до расцвета современной культуры личности портретистов просили воспроизводить некоторые отличительные черты персонажа: склонность к веселью или созерцательности, сдержанности и смирению или придворной изысканности. Впрочем, тщась передать индивидуальность модели, живописец рисковал создать облик, не соответствующий тому отражению, что персонаж различал в своем новомодном амстердамском зеркале на оловянной основе. Естественно, что художники, пользовавшиеся популярностью на портретном рынке до Рембрандта, чаще всего ограничивались определенным набором жестов, атрибутов, взглядов, выражений лица. Когда богатые и знаменитые заказывали им портрет, такие художники, как Корнелис Кетель или Николас Элиас Пикеной, брали за основу некое живописное клише (джентльмена изображали упирающим руку в бок, воина – сжимающим эфес сабли), а затем пытались придать портрету индивидуальные черты, сообщая особую выразительность лицу или рукам и тщась создать из облика и позы некое идеализированное целое. На самом деле очень часто наиболее популярные из подобных художников доверяли фон с архитектурными сооружениями или интерьер, а иногда и тело персонажа ассистентам и ученикам, ограничивая свое участие руками и лицом модели, а иногда, может быть, еще такими стратегически важными структурными деталями костюма, как жесткий плоеный воротник или манжеты. Таким образом, портрет собирали по частям, словно корабль на стапеле, для которого отдельно изготавливали в особых мастерских в маленьких городках по берегам реки Зан корпус, мачты, паруса, якоря и оснастку, а потом переправляли их в Амстердам, где и пригоняли на месте.
Может быть, подобное «конвейерное производство» так наскучило Корнелису Кетелю, что он стал удивлять своих заказчиков портретами, написанными не кистью, а исключительно обмакнутыми в краску пальцами, а иногда даже, если верить суровому ван Мандеру, и вовсе ступнями. Однако, если оставить курьезы Кетеля, его проворные пальцы и «ногоделие», большинство портретов начала XVII века отличают позы античных статуй и сдержанные, элегантные жесты. Возможно, амстердамские патриции мечтали быть изображенными именно так, чтобы ничто в их облике не вызывало упреков в легкомыслии и кричащей роскоши, и предстать на портретах в скромных костюмах, суровость которых оживляет лишь цветок в руке или подвеска на шее. Однако к 1630 году олигархи, выстроившие роскошные дома по берегам каналов, уже хотели, чтобы их запечатлели на полотне в образе несколько более смелом, более соответствующем их убеждению, что они – правители нового Тира, властители торговой империи, охватывающей целый мир.
В каком же стиле писали эти новые портреты, куда более смелые и роскошные, нежели прежние? В Харлеме Франс Хальс увековечивал местных патрициев и офицеров стрелковых рот, обнаруживая невиданную до того в Голландии творческую свободу и яркость красок. Его заказчики представали на холсте абсолютно оязаемыми, исполненными жизненных сил и были написаны столь эффектно, в столь ярком освещении, что даже в самого одутловатого, рыхлого, бледного кисть Хальса вселяла энергию и бодрость, точно волшебные дрожжи в тесто. Однако, если мы сегодня видим в его подъеме, яркости и творческой энергии непреходящие достоинства, в 1630 году его портреты, возможно, казались всего-навсего лучшим образцом провинциального харлемского стиля, в значительной мере обязанного живости и непосредственности картин Хендрика Гольциуса и приземленной, грубоватой манере Юдифи Лейстер и ее мужа Яна Минсе Моленара. Судя по тому, что амстердамцы заказали Хальсу групповой портрет одной из своих стрелковых рот, его стиль наверняка угодил многим[345]. Однако нетрудно вообразить, что теперь плутократы, преисполнившиеся презрения к большинству «почтенных» ремесел и промыслов, сочли дерзкую и бесцеремонную, бьющую через край энергию Хальса более подходящей вкусу пивоваров и белильщиков холстов, чем своему собственному, утонченному и изящному.
Если Хальс был скорее смел, чем аристократичен, то Ван Дейк был скорее аристократичен, чем смел. В отличие от Хальса, в Амстердаме его воспринимали как идеал светского портретиста, не столько как ученика, сколько как последователя Рубенса, как блестящего мастера. Он запечатлевал своих заказчиков в полный рост, экстравагантными и изысканными и умел изобразить их с таким как будто небрежным изяществом, с ниспадающими в таком продуманном беспорядке кудрями, что в деланой непринужденности их облика нельзя было не разглядеть аристократизм. С особым тщанием Ван Дейк выписывал костюмы с плавно ложащимися складками, с играющими на свету переливами муара, превращая их в своего рода знамя изысканнейшего вкуса. А руки персонажей Ван Дейк неизменно показывал грациозно-исхудавшими, чрезмерно тонкими, уподобляя их чудесным цветам, бессильно поникшим на изящных стеблях. Со времен его гаагского визита наверняка было известно, что в свой графический альбом, на основе которого намеревался выпустить печатную версию «Иконографии», охватывающей всю Европу, он внес портреты нескольких голландцев. Этот жест явно свидетельствовал о том, что голландские патриции и их живописцы заняли прочное место рядом с вельможами, принцами и аристократами. Пора было им предстать на полотне меж коринфскими колоннами, в сияющих шелках, в сопровождении стройных борзых.
А Ван Дейк включил в свой пантеон художников, которые, по его мнению, могли стать мастерами светского портрета: конечно, ван Миревелта, а еще Яна Ливенса. Ливенс уехал из Лейдена после того, как Рембрандт отправился в Амстердам, возможно, потому, что теперь, когда их сотрудничество и творческое соперничество осталось в прошлом, ему потребовалось совершенно иное художественное окружение. Не исключено, что после успеха Рембрандта, написавшего «Снятие с креста» по заказу самого штатгальтера, уязвленный завистью Ливенс решил найти покровителей при каком-либо монаршем дворе. В блестящем, одержимом самолюбованием, предельно поэтизирующем каждый жест, взгляд и слово мире Стюартов он, видимо, нашел то, о чем мечтал, и не желал упустить свой шанс. И хотя о трехлетнем пребывании Ливенса в Англии мало что доподлинно известно, очевидно, он избрал общество, разительно отличающееся от того, что предпочел Рембрандт, – наиболее утонченную аристократическую европейскую культуру, представители которой, будучи всего лишь дилетантами, удивляли Рубенса своей ученостью. Самые эффектные портреты кисти Ван Дейка, разумеется, есть не что иное, как пример блестящей лжи: Тициан, перенесенный в захолустные английские графства, персонажи с ничем не примечательными чертами и невзрачными телами, благодаря косметическим усилиям умелого гримера-художника превращающиеся в идеализированных античных героев и прекрасных пастушек, стройные фигуры, томно демонстрирующие струящиеся складки шелка и муара на фоне узорчатого травертина, кудри, обрамляющие бледное чело и ниспадающие на шею, плавные переливы сверкающего атласа, драпирующего изящные тела, темные глаза, влажные губы, почти неестественно пурпурные, словно открытая рана, ослепительно-яркие по сравнению с мертвенно-бледной кожей, написанной блеклой, тусклой краской, словно растертым в пудру опалом. А за их спиной, по завету венецианцев, предстают золотистые нежные пейзажи с античными колоннами, способными облагородить любой ландшафт, их сопровождают длинномордые изящные борзые и левретки, аристократы красуются верхом на великолепных длинноногих скакунах. Однако пока амстердамские магнаты, все эти Бикеры и де Граффы, стеснялись изображать себя в таком облике. Впрочем, Ливенс явно подпал под обаяние вандейковой манеры, да и, возможно, самой его личности. Восторг Ливенса перед мастером окупил себя. Ливенс был представлен ко двору Стюартов, вполне прижился в его тепличной, замкнутой атмосфере и, по крайней мере ненадолго, сделался одним из живописцев, воспевавших его блеск.
Так пути двоих лейденских друзей и соперников совершенно разошлись. Рембрандт делал себе имя среди амстердамских коммерсантов и капитанов, прагматичных циников, которых он пытался представить людьми действия. Напротив, чтобы добиться успеха при английском дворе, художнику прежде всего надлежало уметь показывать на полотне своих персонажей, пребывающих в совершенной праздности, но в самой этой праздности прекрасных. А когда к 1635 году английские заказы иссякли, Ливенс вернулся не в Голландию, а в Антверпен. Рембрандт в свое время всего-навсего позаимствовал позу и одеяние Рубенса, дабы тем вернее прорекламировать свои оригинальные сильные стороны; Ливенс решил сделаться соседом и помощником Рубенса, возможно надеясь занять место, освободившееся с отъездом Ван Дейка в Англию. Вероятно, в какой-то степени Ливенс добился успеха, ведь именно ему была заказана большая алтарная картина для наиболее воинственной в своем контрреформистском пыле антверпенской иезуитской церкви Святого Карла Борромео, отчасти оформленной Рубенсом в духе римской Кьеза Нуова и украшенной циклом великолепных фресок его же работы. Даже наиболее неожиданная и нешаблонная из тех работ, что Ливенс выполнил в Амстердаме, – ряд необычайно выразительных ксилографий обязан своим замыслом Рубенсу, точнее, гравюрам на дереве, вырезанным Христоффелем Йегером по живописным оригиналам фламандского мастера.
В 1638 году Ливенс женился на Сусанне де Ноле, дочери известного скульптора Андриса Колейна де Ноле, прославившегося своими статуями для католических церквей города. Женитьба оказалась поворотным пунктом в его карьере. Сын вышивальщика решил растворить свой оригинальный талант в обширном мире католического барокко. По меркам аристократической католической культуры он добьется некоторого успеха, хотя и не столь громкого, как ожидал. Однако он никогда больше не будет писать с прежней смелостью и эмоциональной выразительностью, свойственной таким его лучшим лейденским работам, как «Иов на гноище» и «Воскрешение Лазаря». Спустя десять лет после Рембрандта Ливенс тоже перебрался в Амстердам, но уже на чужих условиях, ведь он бежал от кредиторов. В Голландии он вернулся к той же холодной придворной манере, которую избрал для себя в 1632 году, когда уезжал в Лондон, и снова стал писать полные внушительных, монументальных персонажей картины на исторические сюжеты и портреты застывших в элегантных позах заказчиков.
Не так видел свой путь Рембрандт. Для него Амстердам был не досадным отступлением на прежние позиции, а шансом, который дает удача. Пока признанные поэты воспевали Амстердам как новую торговую империю, «новый Антверпен», уверенно прокладывающий себе дорогу в мире, Рембрандт воспользовался возможностью, которую предоставили ему амстердамские меценаты, решив не просто подражать Рубенсу, а писать оригинальные картины. Особенно он стремился прославиться в жанре, которым Рубенс в значительной мере пренебрегал, а именно в портретной живописи. Он хотел сделать его столь же престижным и – несомненно, это было для него важно – столь же доходным, сколь и историческая живопись. Он изображал почтенных амстердамских бюргеров в три четверти, даже в полный рост, не менее величественными, чем итальянские или английские аристократы, но лишенными их тщеславия. А потом просил по сотне гульденов за портрет.
Рембрандт ван Рейн. Портрет человека в восточном костюме. 1632. Холст, масло. 152,7 111,1 см. Музей Метрополитен, Нью-Йорк
Рембрандту суждено будет заново создать конвенции портретного жанра, наделив эти монументальные полотна динамизмом и энергией исторической живописи. На протяжении всей своей карьеры Рембрандт будет приводить в замешательство искусствоведов, без конца ломающих голову, как же классифицировать, например, хранящийся в музее Метрополитен эффектный «Портрет человека в восточном костюме»: как портрет, как образец исторического жанра или как «portrait histori», то есть изображение заказчика в античном или библейском одеянии. Подобная трудность возникает оттого, что Рембрандт сознательно стирал границы жанров. Персонажей своих исторических полотен он наделял непосредственностью и узнаваемостью, напоминающей о людях с улицы (каковыми они зачастую и были), тогда как портретируемым сообщал энергию и естественность, делая из них героев собственной, личной драмы.
Сознательно «возвышая» повседневное и будничное, Рембрандт демонстрировал подход к творчеству, разительно отличавший его от таких более традиционных портретистов, как Николас Элиас и Томас де Кейзер, которые зарабатывали на жизнь, превращая свои модели в подобие неподвижных античных статуй. Стоит отметить, что Рембрандт заимствовал многие из их приемов: так же как и они, он помещал портретируемых на нейтральном сером или коричневом фоне, наделял их весьма решительным видом, облачал в простые одеяния и ограничивался минимальным фоновым декором. Однако эти рутинные приемы он использовал для того, чтобы оживить персонажей, сделать их подвижными, освободить из плена, в который их заключает пространство картины, приблизить к зрителю, приковать к ним внимание созерцателя. Он часто выбирает нарочито неровное освещение: на одни фрагменты картины падает луч направленного света, словно от прожектора, другие погружены в резко очерченную тень и во мраке кажутся пустыми, бесплотными. Фон, который у не столь талантливого художника предстал бы невыразительным театральным задником, Рембрандт создает из слоев жидкой, разбавленной, почти прозрачной серо-коричневой краски, излучающей яркое сияние вокруг контуров фигуры и постепенно сгущающейся ближе к краям композиции: так живописец дает зрителю представление о вечном, непреходящем пространстве, в котором оставляет свой след портретируемый. Вообразите подобную картину в патрицианском доме: в передней или в гостиной над каминной полкой. Она давала яркое представление о человеке, даже когда его давным-давно уже не было в живых.
Так обстояло дело и с портретом Николаса Рютса, возможно первым амстердамским заказом Рембрандта, выполненным в 1631 году. Это удивительный дебют, пожалуй, наиболее удачный по своему исполнению портрет кисти Рембрандта, написанный в тридцатые годы. Увидев его, потенциальные заказчики, вероятно, толпой кинулись в мастерскую на Брестрат.
Рембрандт ван Рейн. Портрет Николаса Рютса. 1631. Дерево, масло. 116,8 87,3 см. Коллекция Фрика, Нью-Йорк
Работа строится на эффектной демонстрации приема так называемого «stofuitdrukking». Рембрандт уже довел эту технику до совершенства в ряде лейденских картин на исторические сюжеты, например в «Самсоне и Далиле», однако она никогда еще не приобретала в его глазах такую важность, как здесь. Ведь Николас Рютс буквально облачен в собственный товар, то есть в соболя. Хочется думать, что Рембрандт создавал чувственное ощущение этого мягчайшего и драгоценнейшего из мехов именно соболиной кистью, однако, как бы то ни было, он добивается необычайно убедительной иллюзии. Достаточно посмотреть на бархатистую меховую шапку портретируемого, на отдельные волоски на его правом рукаве: они стоят дыбом, словно по ним только что провели щеткой или погладили рукой, – их Рембрандт воспроизводит крохотными белыми штрихами, – на мех на плече модели и ниже, по всей длине плаща: его фрагменты отличаются густотой, цветом и большим или меньшим матовым блеском и нанесены мазками охры, которые выглядят почти рельефными на живописной поверхности. Кажется, будто Рембрандт, всю жизнь наслаждавшийся чувственным ощущением тканей, точно запомнил мягкость меха, в котором утопают осязающие его податливую поверхность пальцы, и воспроизвел ее на картине.
Ни одна ткань: ни персидский шелк, ни индийский ситец, ни дамаст французской работы – не ценилась выше соболей. Длинный плащ Рютса оторочен мехом, которым московские князья издавна одаривали союзников и упрочивали дипломатические договоры. Посылая соболей, они добивались расположения у двора Стюартов, умиротворяли монгольских ханов и льстили османским султанам. Однако несравненный, великолепный плащ Рютса, фактуру которого с таким тщанием передает Рембрандт, вовсе не говорит о тщеславии или праздной, пустой роскоши. Напротив, взгляд портретируемого, с его ярко освещенным лицом, зоркими, колючими глазами (почти столь же зоркими и колючими, сколь и глазки зверьков, из шкурок которых сшита его накидка) и безупречно расчесанными усами и бородой, со слегка склоненной головой, повернутой в сторону, противоположную телу, в свою очередь обращенному к зрителю в три четверти, взгляд, исполненный легкого нетерпения, одновременно проницательный и раздраженный, словно, едва касаясь, скользит по созерцателю и теряется где-то позади него. Перед нами предприниматель и человек действия, и такое определение вполне оправданно, ведь пушная торговля с Московией принадлежала к числу наиболее опасных среди различных видов торговли предметами роскоши[346].
Хотя меховой промысел мог принести баснословный доход, заниматься им рисковали только смелые и состоятельные. Белое море на подступах к Архангельску, гигантскому «складу пушнины», освобождалось ото льда лишь в летние месяцы, с конца июня до третьей недели августа. Путь из Амстердама в Архангельск на кораблях, способных вынести тяготы плавания в арктических водах и перевезти максимум драгоценного груза, при благоприятных обстоятельствах занимал от месяца до полутора. Хотя первыми в пятидесятые годы XVI века внутреннюю российскую торговлю открыли для европейцев англичане, освоившие путь по Белому морю, именно голландцы просили заложить город Архангельск в устье Северной Двины, где он был надежно защищен от нападений норвежских пиратов. К 1610 году он превратился в настоящую голландскую колонию, а все остальные европейцы уступали там голландским конкурентам по масштабам заключаемых сделок, организации торговли и количеству судов. Оптовые торговцы из Амстердама имели постоянно проживающих в Архангельске агентов, через которых переправлялись огромные суммы денег для скупки авансом шкурок добываемых за зиму соболя, куницы, горностая, рыси, норки, волка, песца и даже белки. А поскольку Амстердам в буквальном смысле слова контролировал перевозки морем многих товаров, в которых нуждались русские: игл, сабель, церковных колоколов, шафрана, окрашенных шерстяных тканей и конских чепраков, зеркал, писчей бумаги, оловянных кружек и стеклянных бокалов, жемчуга и игральных карт, ладана, оловянной фольги и сусального золота, – то мог диктовать свои условия в этой международной торговле[347]. К тому времени, как облаченный в роскошные соболя Николас Рютс стал позировать Рембрандту, голландские купцы ежегодно отправляли в Архангельск от тридцати до сорока судов. Что пришлось не по вкусу жителям Амстердама и Дордрехта, например второсортные шкурки молодых соболей, страдавших аллергией на какие-то сибирские ягоды, потиравших спинку о древесные стволы и жесткой корой портивших драгоценный мех, так уж и быть, разрешали раскупить немцам, англичанам и грекам. Однако, если голландцы авансом платили наличными и заключали бартерные сделки, скупая пушнину будущего года, следующим летом их конкурентам ничего не оставалось, как только сетовать на полное отсутствие товара. И наоборот, когда русскй торговец Антон Лаптев безрассудно решил продать пушнину прямо в Голландии, амстердамские купцы, предварительно сговорившись, объявили ему бойкот и вынудили вернуться со своими мехами обратно в Московию и продавать их там на обычных условиях[348].
Николас Рютс родился в 1573 году в Кёльне в семье фламандских эмигрантов. Поэтому нельзя исключать, что его родные были знакомы с семейством Рубенс и могли знать их печальную историю. Однако, в отличие от Рубенсов, они сохранили верность протестантизму. Николас был воспитан меннонитом, но впоследствии сделался приверженцем ортодоксальной Реформатской церкви, возможно, потому, что так легче было вступить в братство тридцати шести избранных, составлявших амстердамскую гильдию меховщиков. Впрочем, он не принадлежал к числу крупных игроков. Едва ли он мог конкурировать с Бикерами или Бонтемантелами, а на набережных Архангельска у него еще не было собственного склада. Судя по всему, он был партнером в одном из синдикатов, или «rederijen», члены которых сообща финансировали конкретное плавание, а затем делили доход в соответствии с долей внесенного капитала. Будучи мелким торговцем, Рютс, без сомнения, хотел, чтобы Рембрандт запечатлел его в почти царственном облике эдакого финансового магната; отсюда и необычный выбор деревянной панели для картины: она написана на доске не крепкого дуба, а ценного красного дерева. Рекламную составляющую образа Рютса – коммерсанта, которому можно безбоязненно доверять, – подчеркивает значимая деталь: на портрете он сжимает в левой руке вексель или деловое письмо. Текст этого письма не разобрать; в очередной раз Рембрандт избегает вульгарного буквализма подробностей, чтобы создать впечатление надежности слова и обязательства портретируемого. Правая рука, покоящаяся на спинке стула, поставленного параллельно плоскости картины и отделяющего пространство, в котором находится Рютс, от пространства зрителя, также усиливает ощущение надежности и солидности. В эти большие, крепкие руки, конечно, можно без опасений передать свой капитал.
По крайней мере, в этом хотел бы убедить кого-то сам Николас Рютс. Может быть, этот кто-то был из русских? Ведь в ноябре 1631 года, как раз когда Рембрандт работал над этим портретом, в Голландию прибыло московитское посольство. Сейбранд Бест написал его в гаагском Бинненхофе, сплошь в длинных шубах и высоких меховых шапках, весьма уместных при голландской сырости. Бояре, входившие в состав подобных посольств, имели печальную славу взяточников и охотно принимали подарки, впрочем не забывая в свою очередь одаривать московитскими предметами роскоши тех, кто искал их расположения. Что, если Рютс пытался произвести на московитов впечатление человека более влиятельного, чем на самом деле, купца, которому подобает владеть складами и факториями в Архангельске и снизить таможенные пошлины, как и его наиболее богатым и могущественным собратьям по ремеслу?
Если портрет был заказан для того, чтобы упрочить деловую репутацию Рютса, он не достиг своей цели, ведь, как ни тщился портретируемый предстать надежным, обязательным и солидным коммерсантом, за несколько месяцев до смерти, в 1638 году, он был вынужден объявить себя банкротом. Задолго до этого портрет перешел к его дочери Сусанне, в подарок которой, по случаю заключения ее второго брака, он, возможно, и был написан. Несмотря на финансовый крах Рютса, его сыну все-таки удалось открыть факторию и склад пушнины в Московии. Поэтому почтительная дочь Сусанна могла, не особо смущаясь, повесить портрет на видном месте.
Почему бы и нет? Ведь охарактеризовать это произведение искусства можно одним словом – «уверенность», решительность живописца, сообщаемая модели. Вот человек, вольготно расположившийся в пространстве картины, однако лицо его исполнено живости и проницательности, на нем печать коммерческой сметки[349]. Как впоследствии во всех остальных наиболее удачных портретах 1630-х годов, Рембрандт варьирует живописную технику для передачи различных, но взаимодополняющих черт характера персонажа: его энергию воплощают и свободные мазки, которыми написан ярко освещенный, почти сияющий модный плоеный воротник, «fraise de confusion», и наложенная толстым слоем широкими движениями кисти краска на правой манжете, нанесенная быстрыми мазками серого и белого поверх серого подмалевка. Аккуратность и безукоризненную ухоженность всего его облика передают тщательно воспроизведенные бакенбарды, чуть топорщащиеся над верхней губой усы, отдельные волоски которых изображены глубокими бороздками, проведенными на красочном слое черенком кисти. О серьезности и склонности к глубоким размышлениям свидетельствуют густая тень, отбрасываемая его головой, и отблески света, играющие на его зрачках меж слегка покрасневших век, словно Рютс пожертвовал сном на благо вкладчиков своего предприятия.
Неудивительно, что эту картину впоследствии приобрел Дж. П. Морган. Ведь если и существовал когда-либо лучший портрет, воспевающий предпринимателя как героя, не было ни одного, в котором удалось бы добиться столь впечатляющих результатов, казалось бы, столь лаконичными, столь экономными изобразительными средствами.
Рембрандт ван Рейн. Портрет Мартена Лотена. 1632. Дерево, масло. 91 74 см. Музей искусств округа Лос-Анджелес, Лос-Анджелес
Но это мнимая экономия. Внешней экономии деталей и лаконизма всего облика часто требовали от Рембрандта его заказчики-протестанты, отвергающие великолепные, царственные одеяния и грандиозный архитектурный фон, любимые при монарших дворах и популярные у католиков. Подчеркнутая простота была особенно симпатичной чертой меннонитской общины Амстердама, из которой происходил ряд покровителей Рембрандта, заказывавших ему портреты в начале его творческого пути; меннонитом был также партнер и домохозяин Рембрандта Хендрик ван Эйленбург. К числу меннонитов принадлежал и Мартен Лотен, портрет которого Рембрандт написал в 1632 году, еще один фламандский эмигрант, торговец сукном, вроде лейденских знакомцев Рембрандта. В свое время он отверг ортодоксальный кальвинизм ради более суровой и в большей степени ориентирующейся на Священное Писание меннонитской веры. На первый взгляд Рембрандту предстоял еще один скучный и предсказуемый заказ, однако он сумел сделать непостижимо привлекательными такие простые детали, как изящно закругленный уголок льняного воротника Лотена, подобно отороченному собольим мехом плащу Рютса, служащий на портрете атрибутом не только профессии, но и характера, или изгиб полей шляпы, визуально повторяющий, словно в рифму, тонкие мимические морщины, избороздившие лоб модели.
Живописное красноречие Рембрандта, строящееся на экономии изобразительных средств, вполне отвечало той манере, которую он выработал для исторических полотен, где он отверг изобилие ненужных, чрезмерно броских деталей, отвлекающих зрителя от сути сюжета, от визуального нарратива. В портретной живописи отказ от сложных, вычурных декоративных подробностей позволил ему за счет гигантского арсенала живописных приемов сосредоточиться на самом важном: на передаче наиболее существенных черт характера посредством языка тела и на освещении лиц и рук. Наряд персонажа перестает быть декоративной деталью, но и не пишется равнодушной, равномерной кистью без акцентирования отдельных элементов. Вместо этого Рембрандт выделяет ряд его фрагментов – не только плоеные воротники и манжеты, но и шляпы, пуговицы, чепцы, перчатки – и превращает их в некое продолжение личности портретируемого, выражающее суть его натуры: иногда порывистой, сильной, яркой, иногда – сдержанной и робкой.
Поэтому, хотя все лучшие портреты 1630-х годов и оставляют впечатление спонтанности и свежести, они, даже если написаны удивительно быстро, есть результат умелого сочетания и подгонки позы, пигмента и света[350]. Например, телесные тона Рембрандт получает из широкого спектра цветов, от карминово-красного до насыщенной желтой охры и даже зеленоватых теней, и накладывает их на холст, с необычайной чувствительностью вопроизводя тот или иной урон, наносимый временем различным фрагментам лица модели. Никто из его современников не уделял столь пристального внимания топографии верхнего века уже не юного заказчика, маслянистому блеску на крыльях носа богатого и знаменитого, свисающим складкам подбородка или шеи, водянистости остекленевших глаз, поблескивающей жирной коже, туго натянутой на лбу ободом льняного чепца. Кроме того, ни один из его собратьев по ремеслу не запечатлевал с таким тщанием едва заметные отблески, отбрасываемые освещенными фрагментами лица на темные, например на нижнюю часть носа или на нижнюю челюсть[351].
Несмотря на стойкую иллюзию, будто ни один художник XVII века не взирал на человеческое лицо дольше и пристальнее Рембрандта, он никогда не воспроизводил топографию лица в духе физиогномического педантизма. Хотя головы и тела его заказчиков показаны убедительно и точно, иными словами, их облик в некоем неоспоримом смысле есть свидетельство жизненной правды, Рембрандт редко описывает их буквально, прибегая к жестким линиям и четким очертаниям. Одному лишь Хальсу удавалось сравниться с Рембрандтом в свободе и разнообразии манеры наложения мазков, иногда наносимых короткими, резкими линиями, почти точками, иногда длинными, плавными извивами-арабесками. Разумеется, он стремился создать не совокупность черт-слагаемых, не приблизительное подобие, вроде составляемого из отдельных деталей полицейского фоторобота, а совершенное озарение. В таком случае удивительно, что самые сильные произведения Рембрандта, например хранящийся в Лондонской национальной галерее «Портрет восьмидесятитрехлетней старухи», оставляют ощущение абсолютной ясности, даже будучи написаны в чрезвычайно свободной, раскованной манере. Ведь эта ясность – результат не только проворства и ловкости рук живописца, но и творческого видения, кристаллизовавшегося в его сознании. Достаточно взглянуть на то, сколь блестяще Рембрандт воспроизводит прозрачные «крылышки» чепца, сшитого из тонкого батиста, на их края, написанные одним восхитительно плавным движением, одним мазком, в конце которого Рембрандт поворачивает кисть, или на то, как передан правый глаз модели, и мы увидим художника, сочетающего точность и тщательность миниатюриста с не знающей запретов свободой модерниста. Особенно обращает на себя внимание мясистая складка брови, нависающая над верхним веком, в свою очередь немного опущенным и открывающим короткие ресницы, – этот фрагмент написан густой чередой коротких, отрывистых мазков, частично мягких, частично резких. Впечатление рассеянной, самоуглубленной меланхолии, порождаемое этим влажным глазом, более мутным и освещенным ярче, чем левый, необходимо Рембрандту, чтобы передать ее слегка опущенный взор и создать исходящее от портрета в целом ощущение острой уязвимости, хрупкости, непрочности жизни. Инстинктивно этот художник угадал то, что впоследствии сделается общим местом модернизма: чем свободнее и суггестивнее манера, тем большее желание она вызывает у зрителя ассоциировать себя с изображенным.
Рембрандт ван Рейн. Портрет восьмидесятитрехлетней старухи (Ахье Клас). 1634. Дерево, масло. 71,1 55,9 см. Национальная галерея, Лондон
Хотя детали своих портретов Рембрандт выписывает в соответствии со строгой иерархией значимости, любые их элементы, не важно, нанесенные широкими движениями кисти или мелкими, скрупулезно проведенными мазками, должны были составлять единый образ, способный передать ощущение живого присутствия. Для этого требовалось нечто большее, нежели сочетание различных приемов письма. Чтобы производить подобный эффект, портрет должен был обладать неким общим свойством, присущим своему персонажу, чем-то, что можно обозначить как «атмосферу» картины, сходную с общей цветовой гаммой пейзажа, выдержанного в теплых или холодных тонах. Например, портрету Мартена Лотена свойственна прозрачная, прохладная атмосфера, как нельзя более подходящая облику благочестивого купца-меннонита, а фигуру Йориса де Кауллери, военного моряка, сжимающего приклад небольшого мушкета, освещает на портрете более теплый, бронзоватый свет, подчеркивающий несколько театрально-воинственную позу изображенного. Иногда желаемого эффекта можно было добиться, немного изменив состав тонкого слоя имприматуры, которой Рембрандт покрывал белый меловой грунт, однако эти минимальные изменения оказывались весьма и весьма существенными. Обыкновенно имприматура состояла из разведенных маслом свинцовых белил и земляных пигментов с крохотной добавкой черного. Она могла быть разных тонов, от охристо-золотистого до значительно более темного серого или коричневого, что, в свою очередь, влияло на прозрачность и сияние последующих слоев красок. Чтобы гармонично сочетать все эти живописные приемы, требовался безупречный вкус и решительность, и бывали случаи, когда Рембрандту не удавалось полностью подчинить разрозненные элементы единому композиционному замыслу и он слишком откровенно прибегал к технике визуальной риторики (особенно это бывает заметно в парных портретах, когда один портрет менее удачен, чем другой). Введенные в заблуждение излишней робостью или чрезмерной поспешностью, с которой выполнен один из подобных парных портретов (например, если взять «чету», хранящуюся в Бостонском музее изящных искусств, или «чету» из нью-йоркского музея Метрополитен), участники «Исследовательского проекта „Рембрандт“» отвергли авторство Рембрандта применительно к обоим портретам в каждой паре, признав их работой другого художника[352]. Впрочем, вполне возможно, что, нанеся на холст основные элементы композиции, Рембрандт поручил завершить картину ученику или ассистенту, работавшему у него в мастерской на Брестрат, в доме Хендрика ван Эйленбурга, или что, будучи не только гением, но и смертным, которому свойственно заблуждаться, он, даже выполняя «парный» заказ, уделял одному портрету больше времени, чем другому.
Рембрандт ван Рейн. Портрет Йориса де Кауллери. 1632. Холст, масло. 102,2 83,8 см. Мемориальный музей М. Г. де Янга, Сан-Франциско
Рембрандт ван Рейн. Портрет ученого. 1631. Холст, масло. 104 92 см. Эрмитаж, Санкт-Петербург
Разница между совершенными и не столь совершенными портретами так бросается в глаза, лишь поскольку наиболее гармоничным из них свойственна феноменальная убедительность и правдоподобие, словно изображенные не приняли определенную позу по просьбе живописца, а случайно застигнуты им за каким-то занятием. Кажется, будто каллиграфа, очиняющего перо, или ученого за письменным столом, резко повернувшего голову к зрителю, застали за привычными, рутинными делами, а не заставили «позировать» и надеть соответствующую той или иной социальной роли маску, в которой их теперь по всем правилам запечатлеют для вечности. Ни одна деталь эрмитажного портрета ученого не соответствует принятым конвенциям: на полотне перед нами предстает не сухощавый и угловатый, погруженный в созерцание, аскетического облика старец, показанный непременно в профиль, как, например, Гольбейн запечатлел Эразма, а на миг оторвавшийся от письма, изображенный в натуральную величину довольно молодой человек, излучающий энергию и полный жизненных сил. У него розовые щеки, ухоженные ногти, глаза его сияют, нижняя губа кажется влажной (за счет точно нанесенного отблеска света), словно он только что в задумчивости по своей привычке ее облизнул. Широкий плоеный воротник из пенящихся белоснежных кружев, обрамляющий венчиком и словно озаряющий его лицо, придает дополнительную энергичность его живым чертам. Однако самую обескураживающую иллюзию присутствия во плоти создают на первый взгляд случайные детали, невольно привлекающие внимание созерцателя: приоткрытый рот персонажа, будто произносящего что-то этому самому созерцателю, который отвлек его от работы, мясистые, с заметными складками на суставах пальцы, придерживающие лист писчей бумаги и не дающие ему соскользнуть с книги, и две великолепно подмеченные тени. Одну из этих теней отбрасывает украшенный колцом безымянный палец персонажа, она отчетливо видна под его перстом на листе бумаги; другая падает от завязки книги на торец деревянной книжной подставки, столь же эфемерной, сколь сама книга массивна, и эта поэтичная деталь достойна кисти Вермеера.
Само по себе мнение о том, что индивидуальность наиболее полно и искренне проявляется, будучи застигнута врасплох «in medias res», в разгар событий, во времена Рембрандта казалось удивительно новым. Оно предвосхищает фотографию не потому, что в основе его, как и в основе фотографии, – идея примитивного, вульгарного удвоения действительности, а потому, что с фотографией его роднит вера в то, что одно мгновение способно обнажить сущностные черты личности. Застывший в рамке даже единственный миг в силах дать представление о том континууме жизни, из которого он был произвольно извлечен. Оказавшись в фокусе, такие подсмотренные моменты могут приоткрыть и завесу над будущим, связав воедино мимолетное и вечное.
Оказывается, у Рембрандта нашлась парочка лишних рук. За два дня до смерти, в октябре 1669 года, его навестил специалист по генеалогии и антиквар Питер ван Бредероде, взором «охотника и собирателя» окинувший все, что осталось от знаменитой коллекции «редкостей и древностей», которая некогда принадлежала художнику. Большая часть чудесного собрания бюстов, шлемов, раковин, кораллов, западного и ост-индского оружия, фарфоровых казуаров и оленьих рогов была распродана с аукциона в 1656 году по условиям мирового соглашения о банкротстве. Однако среди сохранившихся предметов, согласно Бредероде, имелись «четыре освежеванные руки и ноги, анатомированные Везалием»[353]. На фронтисписе первого издания своего знаменитого труда «De Humani Corporis Fabrica Libri Septem», опубликованного в 1543 году, отец-основатель современной анатомии Андреас ван Везель, более известный как Везалий, предстает препарирующим человеческое предплечье. Рембрандт, в отличие от Рубенса, так и не собравший большой библиотеки, тем не менее приобрел печальную известность, поскольку испытывал слабость к странным, иногда жутковатым и зловещим объектам, особенно если их можно было как-то использовать. Поэтому нельзя исключать, что с одной из этих «везалиевых» рук, которые видел Бредероде и которые плавали в стеклянной банке, заспиртованные, с розовыми обнажившимися мышцами, за тридцать семь лет до этого было написано предплечье, анатомируемое доктором Тульпом на рембрандтовском шедевре 1632 года[354].
Если это так, Николасу Тульпу наверняка польстило косвенное уподобление великому брабантскому анатому, ведь Везалий на фронтисписе своего труда и Тульп на картине Рембрандта препарируют одну и ту же часть тела. Возможно, Уильям Хекшер и преувеличивает, утверждая, будто Тульп пожелал быть изображенным на полотне в образе нового Везалия, тем более что Тульп был «doctor medicinae», врачом общей практики, а не профессиональным анатомом[355]. Однако со слов бывшего студента Тульпа Йоба ван Мекерена нам известно, что, вскрывая предплечье и демонстрируя сгибающие мышцы, Тульп действительно подчеркивал, что видит в них пример целесообразности, мудрости и изящества, с которым Господь создал человеческое тело[356]. Возможно, он избрал для своего портрета позу, приводящую на память наиболее блестящего из ренессансных анатомов, именно потому, что на правах приглашенного профессора читал курс лекций по анатомии для амстердамской гильдии хирургов. Есть ли лучший способ прорекламировать свою высокую квалификацию, знания и умения в залах гильдии, нежели отождествив себя с гением, впервые провозгласившим, что понять строение человеческого тела можно лишь через непосредственный анализ человеческой плоти, не ограничиваясь книжными сведениями и вскрытием животных?[357]
Хотя Рембрандт написал несколько шедевров и до 1632 года, в том числе столь неоспоримые, сколь «Ужин в Эммаусе» и «Раскаявшийся Иуда», ни один из них не привлек такого внимания публики, как «Урок анатомии». Поэтому можно сказать, что в каком-то смысле доктор Тульп сделал Рембрандту имя, а Рембрандт отплатил ему сторицей. Разумеется, доктор мог почувствовать недовольство, когда художник дал ему понять, что для упрочения научной репутации ему потребуется предстать на групповом портрете. Ведь «доктором Тульпом» он стал далеко не тотчас, как задумал овладеть ученым и возвышенным искусством медицины. Он родился в семье торговца льном, получил не слишком-то аристократическое имя Клас Питерс и вырос в доме на углу Гравенстрат и Ньювендейк, в сердце старейшего амстердамского квартала[358]. Подобно Рембрандту, он получил образование в латинской школе и в Лейденском университете, куда поступил в 1611 году на факультет медицины. Факультет этот был невелик по числу преподавателей и студентов, но славился знаменитыми профессорами. Клас Питерс наверняка слушал там лекции Райнира де Бонта (лейб-медика Морица, а впоследствии Фредерика-Хендрика) и Алия Ворстия, а анатомии его обучал прославленный доктор Питер Пау. Обычно Пау читал лекции, прибегая к помощи иллюстрированных учебников или скелетов. Однако иногда, в зимние месяцы, он проводил в университетском анатомическом театре публичные вскрытия трупов только что казненных преступников. Этих уроков анатомии с нетерпением ожидала жадная до зрелищ лейденская публика. Все важные персоны из чиновничьей и академической среды: бургомистры, ректоры и попечители университета, члены городского и университетского советов, главы гильдий – присутствовали на подобных представлениях вместе с толпами студентов и профессоров. Однако задние ряды скамей в амфитеатре занимали зеваки, входившие по билетам, и они-то, невзирая на установленные вдоль стен собранные скелеты (и даже один человеческий скелет верхом на скелете лошади) с табличками в костяных руках, призывавшими их задуматься о собственной бренности, откровенно веселились. Процедура вскрытия сопровождалась музыкой, разносчики предлагали публике закуски и напитки, собравшиеся как ни в чем не бывало обсуждали последние городские сплетни. Анатом демонстрировал внутренности, мозг, сердце, и, несмотря на дым курильниц, долженствующий скрыть зловоние, их даже можно было неплохо разглядеть. А Клас Питерс наверняка взирал и внимал очень и очень внимательно.
Неподалеку от анатомического театра располагалось другое, куда более идиллическое место, где он и его однокашники получали основы необходимых знаний: университетский ботанический сад, Hortus Botanicus. Под руководством Аутгера Клёйта, неутомимо заботившегося о саде и всячески совершенствовавшего его, Hortus Botanicus превратился не просто в ботаническую коллекцию, собрание садоводческих редкостей, «wonderkamer», а в место, где студенты овладевали фундаментальными биологическими и медицинскими знаниями. Именно там, на дорожках, присыпанных дроблеными раковинами, меж перголами и расположенными в строгом геометрическом порядке клумбами, студентов посвящали в целебные свойства трав и растений, в которых необходимо разбираться современному аптекарю. Не случайно изображение этого сада доктор Тульп велел воспроизвести в 1636 году в своем собственном учебнике по медицине «Pharmacopoeia Amstelredensis». Но, даже внимательно слушая лекции Клёйта по медицинской ботанике, Клас Питерс не мог не заметить на других клумбах новомодный восточный цветок, привезенный в Европу и выращенный на европейской почве Карлом Клузиусом, известный в Турции из-за своего сходства с остроконечным тюрбаном как «tulbend», а в Голландии получивший наименование «tulp», «тюльпан».
Впрочем, талантливый молодой студент еще не сделался доктором Тульпом. В 1614 году он успешно защитил диссертацию о болезни cholera humida и уехал из Лейдена дипломированным доктором медицины. Диплом позволял ему практиковать в верхнем эшелоне профессии, отчетливо поделенной на три соприкасавшиеся друг с другом, но составлявшие особе группы ремесла. Подобно своим коллегам, получившим степени в одном из знаменитых медицинских коллежей Европы: в Падуе или в Париже, – Тульп, в сущности, сделался консультантом, которого призывали диагностировать недуг и назначать либо хирургическое, либо терапевтическое лечение. В первом случае он направлял страдальца к хирургам-костоправам, главным инструментом которых слыла пила и которым издавна вменялось в обязанность состоять в одной гильдии с резчиками деревянных сабо, изготовителями коньков и рубщиками требухи[359]. Количество выполняемых ими процедур было весьма ограниченно и сводилось по большей части к удалению желчных камней, катаракты и некоторых видов внешних опухолей, а также к «размягчению» того, что представлялось тогдашней хирургии болезненными новообразованиями и тромбами: либо путем трепанации черепа, то есть просверливания отверстия, чтобы уменьшить давление мозга на черепную коробку, либо посредством горячих банок, которые быстро ставили на кожу, чтобы «изгнать» инфекцию, либо кровопусканием, либо пиявками, призванными облегчить отток «зараженной» крови. Кроме того, хирурги ставили клизмы и по мере сил удаляли болезненные и доставлявшие пациенту ужасные неудобства свищи в прямой кишке. Желая пощадить пациента, подобные Тульпу врачи выбирали для него терапевтические, а не хирургические средства и посылали его к аптекарю с рецептом, какое лекарство или простой элемент и какую дозу назначать.
Вернувшись в Амстердам и основав свою практику, молодой доктор, вероятно, ожидал, что на ступенях его дома с раннего утра до позднего вечера станут обретаться толпы недужных, чающих исцеления, а также что ему придется посещать городские богадельни, госпитали, лепрозории и дома зачумленных. К тому же он мог рассчитывать, что даже если и не разбогатеет, то добьется известного благосостояния, станет уважаемым и ценимым в обществе гражданином и, соответственно, сделает хорошую партию. В 1617 году он женился на Еве ван дер Вух, и этот выбор раздосадовал его честолюбивую мать, так как доктор, видимо, предпочел красоту, а не фамильные связи. Что касается фамильных связей, то они представали весьма сомнительными даже в глазах добрых кальвинистов, так как один из Евиных дядьев очень гордился своим участием в иконоборческом мятеже 1566 года и тем, что собственноручно уничтожал церковные картины[360]. Однако Клас Питерс настоял на своем и после свадьбы переехал в дом на Принсенграхт под горделивой вывеской с изображением тюльпана, получивший посему название «De Tulp», «Тюльпан». Перебравшись в следующее жилище, теперь уже надолго, супружеская чета опять-таки приказала изобразить тюльпан на фронтоне нового дома, а в 1622 году, когда доктора избрали в городской совет и назначили одним из девяти правителей города, он украсил золотым цветком тюльпана свой личный герб на лазурном поле, со звездой, помещенной в верхней левой четверти. Постепенно он превращался в фигуру, которую трудно вообразить в отрыве от «тюльпанного» дома, от утопающего в тюльпанах Амстердама, от яркой и разноцветной, как тюльпан, природы Голландии: в доктора Тульпа. Именно под этим псевдонимом он будет известен еще пятьдесят лет, станет, получив на то особое разрешение, разъезжать по вызовам богатых пациентов в карете, украшенной тюльпанами, именно он вдохновит Иоганнеса Лутму на создание одной из его наиболее удивительных фантазий: кубка для вина из чистого серебра в форме тюльпана, не на обыкновенной, прямой ножке, а на живом, склоненном стебельке, чудесным образом отлитом из сияющего металла, вместе с остроконечными листьями и сосудом для питья, напоминающим зубчатую головку тюльпана.
Бартоломеус Долендо по оригиналу Яна Корнелиса Ваудануса. Лейденский анатомический театр. 1609. Гравюра резцом. Кабинет гравюр, Рейксмюзеум, Амстердам
К тому времени, как Рембрандту заказали написать групповой портрет Тульпа и семерых его коллег по гильдии хирургов, доктор приобрел в Амстердаме немалый вес и влияние. В том же 1628 году, когда он был назначен читать курс лекций по анатомии для амстердамской гильдии хирургов на правах приглашенного профессора, а значит, и проводить в Амстердаме ежегодное публичное вскрытие, умерла его жена. В рамках культуры, не понаслышке знакомой с моровыми поветриями, никто, сколь бы искренне он или она ни скорбели по ушедшей спутнице или спутнику жизни, подолгу не оставался в одиночестве, если мог найти подходящую супругу или супруга. А в лице Маргариты де Вламинг ван Аутсхорн Тульп обрел жену, семейство которой не вызывало возражений даже у его матери. Она выросла по соседству с Тульпом, в той же богобоязненной кальвинистской среде, что и сам доктор. Покойный отец Маргариты был дьяконом церкви Ньивекерк, «kerkmeester», и принадлежал к числу наиболее влиятельных членов городского совета, а во времена, когда контрремонстранты господствовали безраздельно, четырежды избирался бургомистром[361]. Они поженились в 1630 году и еще полвека прожили в доме с тюльпаном.
Поэтому, решив запечатлеть на групповом портрете свое второе публичное вскрытие, проведенное в январе 1632 года, Тульп увековечивал себя в образе не только врача, но и облеченного властью строгого чиновника. Картина Рембрандта не была зачинательницей нового жанра. В 1603 году Арт Питерс написал не менее двадцати восьми рядовых членов и глав гильдии хирургов, собравшихся вокруг ученого лектора, доктора Себастьяна Эгбертса де Врея, который замер со скальпелем, занесенным над обезображенным трупом английского пирата. Другой художник, возможно Томас де Кейзер[362], впоследствии изобразил того же доктора, уже не столь теснимого жаждущими знаний, на уроке «остеологии», или демонстрации костей, которая выполнялась на скелете, предварительно препарированного «subiectum anatomicum». И наконец, зимой 1625/26 года Николас Элиас Пикеной написал урок анатомии Иоганна Фонтейна, преемника Эгбертса на этом посту. Однако ничто в этих прежних, старательно выполненных «анатомиях», ни даже его собственные детальные указания художнику по поводу того, кого и как он должен изобразить на групповом портрете, не могли подготовить Тульпа к радикальному переосмыслению жанра «анатомии», которое предпримет Рембрандт[363].
В Амстердаме в еще большей степени, чем во всех крупных голландских городах, господствовали узкогрупповые, корпоративные интересы. Он представал истинным ульем капитализма, однако пчелы любят жужжать хором, а не поодиночке. Поэтому совершенно естественно, что с середины XVI века здесь расцвел жанр группового портрета. Ко временам Рембрандта он уже пользовался невероятной популярностью не только среди хирургов, но и среди стрелковых рот ополчения, которые и ввели эту моду еще в 1530-е годы, а также среди бесчисленных попечителей и попечительниц различных благотворительных учреждений. А поскольку за такие картины можно было запросить круглую сумму, доходившую до ста гульденов с изображенной персоны, то для любого честолюбивого художника они стали идеальным источником дохода, не говоря уже о рекламе собственного таланта, ведь групповые портреты выставлялись публично: их вывешивали в цеховых палатах и приемных. Поэтому Вернер ван ден Валкерт, Ян ван Равестейн, Томас де Кейзер и Николас Элиас Пикеной, семья которого лечилась у доктора Тульпа, сделали себе имя как признанные мастера указанного жанра.
Томас де Кейзер (?). Урок остеологии доктора Себастьяна Эгбертса. 1619. Холст, масло. 135 186 см. Исторический музей Амстердама, Амстердам
А жанр этот был чертовски сложным. На первый взгляд живописцу платили за то, чтобы он примирил две абсолютно противоположные задачи: написал узнаваемые портреты отдельных лиц, однако при этом передал коллективный характер группы[364]. В идеальном случае картина должна была изображать не просто некое множество, но множество, объединенное общей идеей. К подобным заказам предъвлялись и другие требования. Изображенных следовало располагать на холсте в соответствии со званием и должностными обязанностями, особенно если речь шла об офицерах стрелковых рот. К 1620-м годам, когда жанр уже изо всех сил тщился избежать застывших поз, напоминающих мраморные античные статуи, заказчики стали требовать, чтобы их наделяли правдоподобными жестами и мимикой, а также показывали в общении друг с другом, предпочтительнее всего в некоем соответствии с характером того учреждения, которое они представляют. Поэтому, например, у ван ден Валкерта одни и те же попечители приюта навещают больного и принимают вновь прибывших сирот, одни и те же офицеры ополчения маршируют и упражняются с оружием и веселятся во время ежегодной трехдневной пирушки по случаю дня поминовения небесного покровителя их роты. А выполнив все эти требования, автору группового портрета лучше было спохватиться и не забыть: да, хотя бы один персонаж должен многозначительно взирать на созерцателя или обращаться к нему со столь же многозначительным жестом, так чтобы картина свидетельствовала о серьезности представляемого учреждения и важной роли, которую играют портретируемые в жизни города.
Необходимость создать одновременно, как выразился в 1902 году Алоис Ригль, автор фундаментальной монографии о голландском групповом портрете, ощущение «внутреннего, замкнутого единства» (между изображенными персонажами) и «внешнего единства» (между персонажами и зрителем) являлась нелегкой задачей, и большинству портретистов она оказывалась не по плечу. В первую очередь приходилось учитывать желания тех, кто платит, поэтому, например, Арт Питерс в 1603 году выбрал для своего «Урока анатомии» предельно вытянутый горизонтальный формат, чтобы разместить всех двадцать восемь хирургов в три ряда вдоль одной-единственной оси, а глав гильдии особо выделил, «вручив» им медный тазик или список изображенных. Только едва заметный поворот головы или рука, положенная на плечо коллеги, нарушает монотонность неумолимо двухмерной скучной композиции, которую еще при жизни автора критиковали как безнадежно искусственную и надуманную. Стремясь избежать таких неловких сцен, авторы групповых портретов следующего поколения, в частности де Кейзер и Пикеной, сознательно пытались показать персонажей в процессе правдоподобного общения друг с другом и придать композиции в целом большее драматическое единство. С хирургами было проще; художников выручало то, что обычно число хирургов, желающих или имеющих деньги, чтобы запечатлеть себя на полотне рядом с лектором-анатомом, было невелико[365]. Это означает, что, например, де Кейзер, приступая к своему «Уроку остеологии доктора Себастьяна Эгбертса», мог отказаться от нелепого вытянутого формата, поневоле выбранного Питерсом, и совместить физический центр композиции, то есть анатома и великолепно изображенный скелет, и ее моральное и дидактическое ядро. Едва заметный намек на глубину, трехмерность, помогает создать впечатление, что группа находится в «настоящем» пространстве, а не расположена рядами на полках, словно плоские ярмарочные картонные фигуры. Трое хирургов на заднем плане внимают доктору Эгбертсу, хотя и не безраздельно. Двое, сидящие спереди, обращаются к зрителю, причем один из них многозначительным жестом указывает на скелет, напоминая нам, что человеческое тело, по Господню произволению, создано удивительно искусно, изящно и мудро, однако одновременно обречено на смерть в наказание за грехи. Сам скелет (который в лейденском анатомическом театре сжимал бы в костяных руках табличку с морализаторским изречением) хитроумно развернут таким образом, чтобы вновь повторять это послание, и не без надменности «взирает» прямо на доктора пустыми глазницами.
Рембрандт ван Рейн. Урок анатомии доктора Тульпа. 1632. Холст, масло. 169,5 216,5 см. Маурицхёйс, Гаага
Можно не сомневаться, что благочестивый доктор Тульп попросил Рембрандта включить в свой «Урок анатомии» это банальное двойное клише. А судя по пентименто вокруг головы Франса ван Лунена, персонажа на вершине пирамиды, Рембрандт изначально изобразил его в шляпе, придав ему необычайную важность, почти уравнявшую его с самим лектором. Жест ван Лунена, направляющего указательный перст на препарируемое тело, имеет ту же функцию, что и жест доктора Фонтейна на переднем плане картины Пикеноя 1625–1626 годов, и призван напомнить, что все мы смертны. Поза ван Лунена, а также тот факт, что он, единственный из всех персонажей, глядит непосредственно на зрителя, убедили Уильяма Шупбаха в том, что рембрандтовский «Урок анатомии доктора Тульпа» отнюдь не представляет собой прорыв в этом жанре, а, напротив, послушно воспроизводит все его привычные конвенции[366].
Однако предположить подобное означает не верить собственным глазам, ведь единственная банальная деталь картины – это включенное в абсолютно оригинальный групповой портрет по желанию заказчика напоминание о смерти, «memento mori». Ценители зачастую ошибочно видели в Рембрандте мятежного гения, «еретика», по словам одного из его современников. Но его воспринимали совершенно неверно. Он никогда не пренебрегал основными требованиями своих клиентов, он лишь пытался преобразить их во что-то невиданное прежде, во что-то, чего не могли и помыслить его предшественники. В данном случае он осознал, возможно даже более отчетливо, чем сам Тульп, что истинный сюжет этой картины – сопоставление жажды жизни и неизбежности смерти. Однако он не довольствовался лишь иллюстрацией к некоей общей идее, словно гравер, вырезающий эмблемы для сборника нравоучений. Как обычно, он лелеял честолюбивую мечту превратить банальность в глубокую драму.
Лукас Ворстерман по оригиналу Питера Пауля Рубенса. Денарий кесаря. Ок. 1621. Гравюра резцом. Британский музей, Лондон
А кто же научит живописной драматургии лучше, чем Рубенс?[367] Рембрандту, вероятно, приходилось видеть гравюру Ворстермана «Денарий кесаря». Большинство художников многофигурная, переполненная персонажами композиция Рубенса вдохновила бы на создание очередного исторического полотна. Но Рембрандт лишь взглянул на это множество лиц, на множество персонажей, пристально, завороженно взирающих на драматичную сцену, и на него снизошло творческое озарение: он понял, как использовать эту мимику, это различное выражение лиц, чтобы его «Анатомия» стала образом не ученого созерцания, а живых, динамичных телесных реакций на действо, к которому прикованы все взоры. В центре композиции – персонажи, словно образующие острие копья, которое указывает одновременно на вскрытое предплечье трупа и на руки самого Тульпа. Даже добавляя в процессе работы над картиной дополнительных персонажей, например крайнего слева Колевелта, Рембрандт развернул его голову так, чтобы не нарушить «боевого порядка» в виде наконечника стрелы или , динамичной линией устремленный ниже к центру картины. А препарируемое тело расположено весьма необычно, по диагонали к плоскости холста, не параллельно и не на одном уровне с верхним или нижним рядом голов, однако под таким углом, чтобы привлекать внимание зрителя. И это не единственная любопытная особенность тела. Как уже отмечали первые интерпретаторы картины, например Джошуа Рейнольдс, Рембрандт предпринял гигантские усилия, чтобы точно передать голубовато-бледный тон мертвой плоти, используя гениально подобранный оттенок свинцовых белил, смешанных с ламповой сажей, красной и желтой охрой и даже с чуточкой киновари[368], и, в сущности, еще раз демонстрируя виртуозное владение техникой «stofuitdrukking», хотя «stof» в данном случае – восковая кожа трупа. Прежние «анатомии», например картина Арта Питерса 1603 года или дельфтская «анатомия» Михила и Питера ван Миревелтов 1617 года, изображают препарируемый объект в состоянии трупного окоченения столь же румяным и розовощеким, сколь и наслаждающихся морозным зимним воздухом живых хирургов. Кроме того, они отдают дань правилам приличий, закрывая верхню часть лица, бедра и ноги трупа. Тем самым роль тела сводилось к «subiectum anatomicum», уже не человеческому существу, а набору органов, смиренно ожидающих, когда ими займется рука хирурга, наставляющего собратьев по ремеслу. Однако Рембрандт, который почти наверняка присутствовал на уроке анатомии доктора Тульпа 31 января 1632 года, делает нечто поразительное. Не скрывая от зрителя лица трупа, он обнажает его, погружая в тень одни глаза, а именно так он запечатлевал собственный облик. Он даже изображает голову мертвеца столь же детально, сколь и лица заказчиков, которые платят за свои портреты, и «проталкивает» его между двумя хирургами, словно он – один из них. В результате, несмотря на мертвенную бледность, ему удается скорее «очеловечить», нежели «расчеловечить» это безжизненное тело и заставить созерцателя ощутить свое, пусть даже зловещее и жутковатое, родство не только с живыми, но и с мертвыми.
Возможно, Рембрандт и сам полагал, что жив лишь милостью Божьей, ведь анатомический объект, как и он, при жизни был уроженцем Лейдена и перебрался в Амстердам искать счастья. Однако, в отличие от Рембрандта, счастье Адриан Адрианс, по прозвищу Арис Киндт (Дитя), искал главным образом в чужих карманах. На совести у этого преступника-рецидивиста была целая череда мелких краж и других уголовно наказуемых деяний, как и у любого головореза, из тех, что слоняются вокруг трактиров и в глухих переулках в поисках легкой поживы. Однако на сей раз он был пойман на месте преступления, когда пытался отобрать у бюргера плащ, и, по всей вероятности, натолкнулся на сопротивление, поскольку еще и избил свою жертву. За это злодеяние он был повешен на одной из виселиц возле залива Эй, обращенных к гавани и приветствовавших заходившие в порт корабли, точно нью-йоркская статуя Свободы. Хирургам вменялось в обязанность снять тело с виселицы, пока оно не пострадает – не в последнюю очередь от рук суеверных граждан, стремящихся заполучить зубы, кровь или кости повешенного, которые, по преданию, были панацеей от всех болезней (доктор Тульп не одобрил бы подобных врачебных советов). Таким образом, преступник в полной мере отдавал свой долг обществу. Не случайно Каспар Барлаус впоследствии писал в латинской поэме, посвященной сооружению в 1639 году нового анатомического театра: «Грешники, при жизни творившие лишь зло, / После смерти творят добро: / Здоровье извлекает пользу из самой Смерти»[369].
Если бы Рембрандт точно изобразил процедуру вскрытия, Киндт выглядел бы крайне неопрятно: с рассеченной брюшной полостью, извлеченными оттуда и выставленными напоказ внутренностями, – лишь после этого Тульп мог бы приступить к препарированию мышц и сухожилий. На самом деле доктор специализировался на анатомии тонкого и толстого кишечника; он первым обнаружил и описал илеоцекальный клапан, в порыве трогательного патриотического вдохновения удачно уподобив его плотинам и шлюзам голландских каналов, открывающимся и закрывающимся, чтобы пропускать корабли в одном направлении. Джошуа Рейнольдс полагал, что Рембрандт нереалистично изобразил вскрытие, чтобы его картина не вызвала отвращения у зрителя. Однако, сколь бы достоверной и жизнеподобной она ни казалась, разумеется, она не призвана была с документальной точностью показать вскрытие, состоявшееся 31 января 1632 года. Вместо этого Тульп выбрал анатомический элемент, посредством которого мог наиболее убедительно подчеркнуть свою связь с такими предшественниками, как Адриан ван ден Спигел и, возможно, Везалий, а также способность, служившую очевидным свидетельством призрения Господня на чад своих и той искусности, изящества и мудрости, с которыми Он создал их, – ловкость и проворство рук.
На самом деле Тульп изображен именно в тот момент, когда демонстрирует два уникальных качества человека: дар речи и гибкость тела. Правой рукой он приподнимает и отделяет сгибающие мышцы кисти и пальцев трупа, а левую руку сжимает, показывая функции исследуемых мускулов и сухожилий[370]. Как отмечает Шупбах, окружающие Тульпа хирурги реагируют на этот показ двойного чуда не единообразно, а каждый по-своему, последовательно повторяя стадии самой демонстрации. Адриан Слабберан, второй слева в первом ряду, показанный в профиль, устремил взгляд на книгу, возможно учебник анатомии, установленную на какой-то подставке в конце стола и словно проникающую через поверхность картины в мир зрителя. Хартман Хартманс, который выходит за пределы «наконечника стрелы», верхняя половина тела которого написана в профиль, а голова по контрасту резко обращена к зрителю, как обыкновенно принято изображать ученых, держит в руке лист бумаги, позднее украсившийся списком имен участников, но изначально запечатлевший узнаваемые контуры «везалиева» освежеванного человека. Хартманс пристально глядит на согнутые в суставах пальцы Тульпа, и Рембрандт, видимо, дает зрителю понять, что он только что оторвал взгляд от иллюстрации в учебнике, но сейчас всецело погрузился в созерцание настоящих мускулов. Хирург непосредственно справа от него (слева от нас), с бледным лицом, огненно-рыжими остроконечными усами и ухом, заметно покрасневшим от волнения, – Якоб Блок, а его взор, одновременно устремленный на кончики ярко освещенных пальцев Тульпа и теряющийся в пространстве где-то над ними, тоже словно переходит в задумчивости от книги к руке и обратно. Еще двое, наклонившись, наблюдают вскрытие с самого близкого расстояния. Седовласый Якоб де Витт пристально следит за тем, как инструмент в руке Тульпа обнажает мышцы и сухожилия; Маттейс Калкун, справа от него, наблюдает за следующей стадией вскрытия – за тем, как доктор сгибает и разгибает пальцы, то погружающиеся в тень, то ярко освещаемые.
Но куда направлен взор Тульпа? Куда устремлены его помыслы? Если бы эту картину написал не Рембрандт, главный персонаж смотрел бы прямо перед собой, непосредственно обращаясь к зрителю, словно ожидая похвалы своей мудрости и творческим способностям. Однако подлинный сюжет картины лишь второстепенно связан с мудростью, изобретательностью и творческим даром доктора Тульпа, но главным образом – с мудростью, изобретательностью и творческим даром Создателя. Поэтому Рембрандт возвышается до истинной гениальности, когда решает направить взор Тульпа не на зрителя и не на его завороженных коллег, а куда-то вдаль; этот взор христианина, прозревающего тайны мироздания. Что же это за тайны, было понятно, по крайней мере, Барлаусу, в 1639 году посвятившему картине Рембрандта стихи:
- Бездушная материя учит нас. Именно поэтому
- Фрагменты отрезанной плоти не дают нам умереть.
- Здесь, искусной рукой вскрывая мертвенно-бледные члены,
- К нам обращается красноречивый и ученый Тульп:
- «Внемлите же и учитесь! А исследуя все множество этих органов,
- Памятуйте, что даже в мельчайшем из них сокрыт Господь»[371].
Выходит, проворство и ловкость рук сродни Божественному началу. Однако осознать это означает, увы, осознать лишь частичную истину. А картина Рембрандта в буквальном смысле представляет собой аутопсию, то есть, если перевести термин с греческого, «непосредственное свидетельство; увиденное собственными глазами». Однако и автор, и персонажи картины, и мы сами убеждаемся, что человеческое тело, несущее на себе отпечаток гениального Божественного творческого замысла, оказывается хрупким и непрочным сосудом скудельным. Кроме трудов, где клапаны желудочно-кишечного тракта уподоблялись плотинам и шлюзам и подробно обсуждался сгибающий механизм руки, Тульп в 1635 году произнес речь на другую любимую в XVII веке тему, а именно на тему метафизического сходства и сродства тела и души. В этой речи он вполне мог упомянуть рембрандтовский шедевр.
Таким образом, Рембрандт написал момент истины, еще один миг, в котором озарение нисходит одновременно на мимолетное и вечное. И он, и доктор Тульп наверняка видели табличку, которую сжимал в костяных руках собранный скелет, установленный в задних рядах лейденского анатомического театра. На ней значилось: «Nosce te ipsum» («Познай самого себя»). Этому девизу и живописец, и медик, каждый по-своему, отныне будут следовать всю жизнь. Познать означает узреть означает познать, быть оболочкой и ядром, телом и душой. Вот стоит доктор Тульп, подняв левую руку, а в правой держа инструмент. Вот стоит Рембрандт, запечатлевающий его на холсте, в левой руке держа палитру, а в правой сжимая кисть, и каждый из них обессмертил другого.
Глава восьмая
Язык тела
Так что же вообще делала в Амстердаме эта Саския ван Эйленбург, с пухленьким подбородком, кривой улыбкой и медно-рыжими кудрями? Милая, приятная фрисландка и недурная партия, особенно если вспомнить, что она была дочерью бургомистра Леувардена, такой же чистокровной, как и знаменитые фрисландские молочные коровы. Ее отец Ромбертус слыл провинциальным влиятельным лицом, собрал немалый урожай всяческих постов и званий, был одним из основателей Франекерского университета, состоял в приятельских отношениях с фрисландским штатгальтером Фредериком-Хендриком, а кроме того, мог похвастаться семейством, в котором подрастали восемь детей. Саския воспитывалась среди сестер, нянек и служанок, будучи младшей из четырех девочек; впрочем, мать семейства Скаукье Озинга скончалась в 1619 году, когда Саскии исполнилось всего семь. Ее старшие сестры Антье, Тиция и Хиския удачно вышли замуж, однако за совершенно разных поклонников. С точки зрения болтливых кумушек и завистливых сплетников, Тиция, возможно, сделала лучшую партию, породнившись с патрицианским кланом зеландских кальвинистов Копалов. Ее муж Франсуа занимался коммерцией и пользовался немалым влиянием в портовом Флиссингене, а его брат Антонис, живший там же, любил выдавать себя за нечто большее, нежели простой купец, и именоваться «великим пенсионарием Флиссингена Зеландского и бывшим посланником при польском и английском дворе»[372].
Впрочем, и две другие сестры не имели причин жаловаться. Антье вышла за поляка, профессора богословия Иоганнеса Макковия, который сделал во Франекере блестящую академическую карьеру, в конце концов заняв пост «rector magnificus». Супруг Хискии Геррит ван Лоо был секретарем и письмоводителем общины (grietenij) Хет-Билдт, горстки деревенек и сел, раскиданных к северо-западу от Леувардена на землях, которые были отвоеваны у моря за сто лет до описываемых событий и заселены фермерами, прибывшими из Голландии. Их потомки говорили теперь на своеобразном диалекте, наполовину фризском, наполовину голландском, а свое поселение называли иногда Тзуммарум, иногда Тсйоммарум, иногда Фраувенпарохи, иногда Фраубуоррен.
Возможно, Саскии ван Эйленбург посчастливилось иметь всех этих сестер и зятьев, ведь со смертью отца, последовавшей в 1624 году, когда ей исполнилось всего двенадцать, она сделалась круглой сиротой. Вероятно, она кочевала из дома Хискии в дом Антье, из Синт-Аннапарохи во Франекер; обеим сестрам она помогала вести дом, вытряхивать простыни и носить корзины, возвращаясь вместе со служанками с рынка по узким улочкам, застроенным фермерскими домами с низко свисающими крышами. По воскресеньям, после церковной службы, когда мужчины отправлялись ловить рыбу или охотиться на перепелов, она, возможно, гуляла по немощеным дорожкам вдоль обсаженных ивами речек или по полям, усеянным яркими соцветиями льна и рапса, голубыми и желтыми, колеблющимися на ветру под пухлыми кучевыми облаками.
Рембрандт ван Рейн. Саския в вуали. 1634. Дерево, масло. 60,5 49 см. Национальная галерея искусства, Вашингтон
Так что же она делала в Амстердаме в 1633 году? Саскии шел двадцать первый год, ей досталась доля отцовского наследства. Впрочем, доля эта была довольно скромная. Ромбертус мог похвалиться известностью и влиянием, но никак не богатством и, уж по крайней мере, был далеко не столь состоятелен, как воображали завистливые сплетники. Стоит вспомнить также, что его наследство пришлось разделить между несколькими детьми. К тому же никто не позволил бы Саскии самостоятельно распоряжаться своей долей состояния. В Амстердаме у Саскии была кузина Алтье, которая вышла за священника Иоганнеса Корнелиса Сильвия, проповедника церкви Аудекерк, и уж он-то решил позаботиться, чтобы Саския не сбилась с пути истинного. Этот Сильвий сам происходил из Фрисландии. Он нес Слово Божие жителям общины Хет-Билдт и наставлял в вере обитателей Фирдгума, Балка и Миннертсга. В этой провинции господствовала Реформатская церковь, и ее власть, возможно, уберегла Сильвия от преследований со стороны ярых контрремонстрантов. Вот он и прибыл в Амстердам по приглашению самого богатого и наименее склонного к кальвинистскому фанатизму из «регентов» – членов городского совета, Якоба де Граффа, и сделался его протеже. К тому времени, как в Амстердаме появилась молодая кузина его жены Саския, Сильвий уже приближался к отпущенным ему судьбой семидесяти годам и более двадцати лет исполнял обязанности проповедника. Он изображен на первом портрете, выполненном Рембрандтом в Амстердаме в технике офорта, где его образ, создаваемый густой сетью перекрестных царапин, предстает печальным и задумчивым, в лучах падающего слева света. Сильвий у Рембрандта сложил руки на Библии. Второй офорт, в 1646 году увековечивший память о Сильвии, который умер в 1638-м, сопровождается стихотворением Каспара Барлауса, содержащим весьма деликатный намек на необычайно долгий срок пребывания покойного в должности проповедника: «Лучше насаждать христианское учение / Праведной жизнью, / Нежели громогласными призывами». (Иными словами, Сильвий, в отличие от контрремонстрантских воинствующих моралистов Смаута и Тригланда, проповедовал Слово Божие с благоразумной сдержанностью.) Выходит, Рембрандту нужно было как-то передать это снисходительное, несуровое красноречие. Поэтому проповедник на офорте едва заметно приоткрывает рот, однако подается вперед, опираясь на край овальной рамы, как на церковную кафедру с занавесями, а его теневой силуэт и тень его руки, а также тень Библии отчетливо вырисовываются на белой плоскости листа, словно проникая из-за рамы в наш мир. Он будто превращается у нас на глазах в собственную тень[373]. Сами бархатистые тени нанесены с почти живописным мастерством, не говоря уже об удивительной точности, с которой резец Рембрандта тонкими линиями проводит, например, слабо видимые морщины на лбу Сильвия или изящными штрихами – отдельные пряди на конце его жидкой бороды, там, где на нее падает тень.
Рембрандт ван Рейн. Портрет Иоганнеса Корнелиса Сильвия. Ок. 1633. Офорт. Дом-музей Рембрандта, Амстердам
Алтье и Сильвий дали Саскии приют в своем доме, где царствовали благочестие, добродетель и строгость. Вот почему двадцатиоднолетняя улыбчивая девица могла захотеть навестить другого своего кузена, жившего на Брестрат. Не то чтобы антиквар Хендрик ван Эйленбург пользовался дурной славой. Он принадлежал к числу меннонитов. Впрочем, основатель самой мягкой баптистской секты Менно Симонс тоже был фризом. Теперь, когда баптизм меннонитского толка перестали преследовать в Голландской республике, он распространился в продуваемых всеми ветрами, затерянных между песчаных островков деревеньках на Фрисландском побережье Северного моря. Этих новых меннонитов отличали серьезность, задумчивость и смирение, и потому они слыли достойными гражданами, нисколько не напоминающими известных своими дикими выходками первых анабаптистов. Ведь в прошлом столетии те вняли экстатическим мессианским призывам еще одного уроженца Лейдена, Яна Бейкелса, и установили коммунизм и полигамию, в 1534 году избрав своим «тысячелетним царством» вестфальский город Мюнстер. Этот Иоанн Лейденский, его апостолы и наложницы заново крестились и, как положено благочестивым христианам, страстно возжаждали светопреставления, какового и удостоились полтора года спустя, когда власти вырезали их общину. Царя и пророка заключили в железную клетку и вывесили на стенах Мюнстерского собора, где он восорженно славословил Господа за ниспосланные страдания, пока его приверженцев одного за другим умерщвляли. В Амстердаме члены подобной общины анабаптистов на пронизывающем мартовском ветру нагими носились по улицам, размахивая мечами, странно поблескивающими на фоне их обнаженных тел. Не прошло и месяца, как эти же тела раскачивались на виселице, установленной на площади Дам. Год спустя еще одна группа анабаптистов попыталась взять штурмом городскую ратушу. За уличными боями последовали казни через отсечение головы и повешение. Женщин признали блудницами и еретичками, то есть, в сущности, ведьмами, притащили к реке и утопили с камнями на шее.
Возможно, именно узнав о судьбе старшего брата Питера, который погиб во время осады, защищая от властей одну из анабаптистских общин Фрисландии, Менно сделался принципиальным пацифистом. Его последователи по-прежнему отрицали идею первородного греха, предопределение и крещение в младенчестве, поскольку все это, с их точки зрения, противоречило букве Священного Писания. Они по-прежнему настаивали на том, что надобно креститься в зрелом возрасте и «заключать завет» с Господом сознательно, ибо только тогда он станет непременным условием обретения благодати. Кроме того, они отвергали авторитет государства и Церкви. Однако, в отличие от первого поколения анабаптистов, не считали, что обязаны ниспровергнуть «безбожные» общественные установления. Пролив немало крови, они теперь готовы были принять, не сопротивляясь, власть государственных чиновников и судей, если те не заставляли их отправлять воинскую повинность. Впрочем, этого было явно недостаточно, чтобы развеять подозрения католических, лютеранских и кальвинистских правителей, которые большую часть XVI века продолжали смотреть на баптистов различного толка как на потенциальных мятежников и святотатцев (в особенности потому, что те отрицали Троицу). Исключением была Речь Посполитая, в состав которой входили королевство Польское и Великое княжество Литовское, где баптистам предоставили свободу вероисповедания. Такое решение было обусловлено не нравственными принципами, а хитроумной политикой этой выборной монархии. Кандидаты, чаявшие избрания, готовы были отказаться от преследований польских аристократов, которые приняли протестантизм, в обмен на их поддержку. Поэтому Варшавская конфедерация 1573 года, соблюдение которой гарантировал новый король из династии Валуа, превратила Польшу в наиболее неортодоксальную и терпимую страну Европы.
Изгнанные из Германии, Швейцарии и Нидерландов, меннониты и другие баптисты во множестве отправились на восток и поселились в двух совершенно разных областях. Некоторые семьи, в том числе ван Эйленбурги, избрали местом жительства столицу выборной монархии Краков, знаменитый своими высокими башнями и Ягеллонским университетом, где меннонитские богословы имели право вступать в теологические диспуты и защищать свою конфессию так же, как и все остальные. Другие меннониты обосновались по течению Вислы, неподалеку от ее устья, в низменной, болотистой местности, которая своими сочными пастбищами и рыбаками могла напоминать им родную Фрисландию, только перенесенную на эти северо-восточные берега Балтийского моря. Впрочем, в одном отношении эта страна весьма отличалась от их родины. Бесконечные поля ржи и пшеницы возделывали не свободные арендаторы, а крепостные, всецело принадлежавшие польским и литовским земельным магнатам. В конце XVI века голландские корабли постоянно приходили в Гданьск с ценными грузами: итальянскими шелками, турецкими коврами, лейденским сукном, а также с полными сундуками монет, готовясь скупить на корню весь урожай зерна, выращенный в поместьях польских феодалов. После этого рожь и пшеницу морем перевозили в Голландию, за две трети той цены, что назначали другие торговые конкуренты, и уже из голландских портов реэкспортировали в остальные бедные зерном страны Европы. В свою очередь, удовлетворяя собственный спрос на зерно дешевым импортом с восточноевропейских рынков, голландские фермеры могли заняться тем, что удавалось им лучше всего: разведением коров, выращиванием овощей и кормовых культур для скота[374]. Все эти сложные, запутанные связи означают, что одна ветвь ван Эйленбургов, польско-меннонитская, по крайней мере косвенно, содержала другую, фрисландско-кальвинистскую.
Ван Эйленбурги напрямую не занимались продажей зерна. Однако они вошли в число наиболее влиятельных торговцев предметами роскоши, а значит, наверняка были приняты в кругу таких «зерновых магнатов», как династии Потоцких и Чарторыйских. Один из родственников Хендрика, возможно его отец, служил краснодеревщиком при королевском дворе, а его брат Ромбаут даже сделал успешную карьеру придворного живописца[375]. Однако около 1611 года Хендрик и Ромбаут перебрались в портовый город Гданьск, который быстро превращался в своего рода перевалочный пункт всей морской торговли в Прибалтике[376]. Там Хендрик вполне взрослым человеком, как полагается меннониту, принял крещение, стал полноправным членом местной меннонитской общины и сделался отличным посредником между поляками и голландцами, торговцами и аристократами. Без сомнения, среди товаров, которые он импортировал в Польшу, потрафляя вкусам богатых и хорошо образованных, были и картины голландских мастеров, причем во множестве.
Рембрандт ван Рейн. Портрет Иоганнеса Корнелиса Сильвия. 1646. Офорт. Музей Метрополитен, Нью-Йорк
В какой-то момент Хендрик ван Эйленбург, который всю свою жизнь не выезжал за пределы Польши и Прибалтики, вероятно, решил «вернуться домой». Он перебрался в Голландию, возможно, еще в 1625 году, как только умер штатгальтер Мориц и стало понятно, что его преемник Фредерик-Хендрик не будет преследовать инакомыслящих в угоду воинствующим контрремонстрантам. Наряду с ремонстрантами, в Нидерланды возвратились десятки тысяч меннонитов. Нельзя исключать, что, как предположил Б. П. Й. Брос, Рембрандт познакомился с ван Эйленбургом в Амстердаме, когда обучался живописи у Питера Ластмана на Синт-Антонисбрестрат, в двух шагах от углового дома на той же улице, что снимал меннонит[377]. А спустя три года ван Эйленбург уже ездил в Лейден за картинами Рембрандта.
Возможно, во время одного из этих приездов ван Эйленбург сам предложил Рембрандту переселиться в Амстердам; это произошло в конце 1631 года. К этому времени Хендрик уже сделал успешную предпринимательскую карьеру в сфере торговли предметами искусства, прославился своими способностями разбираться в самых разных художественных изделиях и добился немалой известности. Он умел и создавать, и продавать, и консультировать. Его бизнес охватывал все, что было хоть как-то связано с искусством. Ван Эйленбург продавал картины старых мастеров и специально заказанные работы своих современников, а к тому же поставил на поток изготовление копий и тех и других, наняв для этого целые команды ассистентов и учеников под руководством наставника, подобного Рембрандту. Кроме того, его фирма продавала новые гравюры и офортные доски, с которых снимались оттиски[378]. Столь честолюбивое и обширное предприятие нуждалось и в постоянных вливаниях свободного капитала, и в искусной рабочей силе и обретало и то и другое в лице Рембрандта. Еще в Лейдене, в июне 1631 года, Рембрандт изыскал средства и ссудил ван Эйленбургу крупную сумму – тысячу гульденов[379]. Взамен ван Эйленбург свел Рембрандта со многими потенциальными заказчиками портретов, а возможно, даже заключил с ним контракт на «поставку портретов» для «фирмы». Не менее важно, что работа для Эйленбурга позволила Рембрандту совершенствовать свое искусство в течение двух лет, а это, согласно уставу амстердамской гильдии Святого Луки, требовалось, чтобы получить право открыть собственную мастерскую.
Мастерская Рембрандта. Натурный класс в мастерской. 1650. Рисунок. Отдел графики, Лувр, Париж/p>
Ван Эйленбург очевидно выигрывал от сотрудничества с Рембрандтом. Переехав в задние комнаты дома на Антонисбрестрат, предназначенные для студии, Рембрандт привез с собой ассистентов и учеников, в том числе Исаака де Жюдервиля, так сказать, персонал, которому вменялось в обязанность поточное производство копий и который был готов еще и приплачивать Эйленбургу за право работать на столь знаменитую «фирму». С другой стороны, быстро растущая слава Рембрандта в Амстердаме в свою очередь привлекла новую волну учеников, жаждущих постигать под его началом искусство живописи и работать рядом с ним. Только представьте себе, сколь кипучая деятельность царила в доме ван Эйленбурга, напоминающем настоящий пчелиный улей: в передних залах, «voorhuis», была открыта выставочная галерея, где хранились не только картины, но и гравюры и рисунки; в задних комнатах размещались печатный станок и щедро освещаемая неярким северным солнцем собственно мастерская, где работали ученики, усердно расширяя арсенал ван Эйленбурга. В некоторых комнатах наставники, и не в последнюю очередь сам Рембрандт, давали ученикам уроки по всем областям изобразительного искусства. Существовали также натурные классы с моделями обоего пола, старыми и молодыми, одетыми и обнаженными; старшие ученики сидели кружком на скамеечках, а наставник обходил их одного за другим, пристально вглядываясь в рисунки, время от времени склоняясь, чтобы добавить или поправить линию или нанести мазок. Тем временем в самых задних комнатах, выходящих во двор, мальчики помоложе полировали доски для картин, подгоняли холсты по размеру рам, измельчали содержащие ртуть кристаллы киновари, наливали льняное масло, старались заслужить одобрение старших, подслушать профессиональные советы. Именно эту суету, суматоху, вечную беготню в помещениях фирмы «Эйленбург» имел в виду датский художник Эберхард Кейль, описывая ее Филиппо Бальдинуччи, который, в свою очередь, не без преувеличения обессмертил ее под названием «la famosa Accademia de Eulenburg»[380].
По крайней мере некоторое время сотрудничество ван Эйленбурга и Рембрандта зиждилось на искреннем взаимном уважении. Несомненно, антиквар познакомил Рембрандта с первыми почитателями его таланта, заказавшими ему свои портреты, но и хитроумный Рембрандт приносил ван Эйленбургу прибыль. Уже в конце лета 1632 года, когда нотариус, которому надлежало удостовериться, что все участники некоей тонтины живы, вызвал Рембрандта из задних комнат мастерской и засвидетельствовал, что тот, «хвала Господу, пребывает в добром здравии», он сделался в доме Эйленбурга незаменимым: вкладывал деньги в «фирму», обучал юных живописцев и привлекал новые таланты в предприятие Эйленбурга[381]. Тесно сотрудничающие ван Эйленбург и Рембрандт могли послужить живым опровержением расхожего мифа о легкомысленном и распутном художнике и развеять опасения серьезных и благочестивых родителей, озабоченных тем, что их сын избрал поприще живописца. «Для того ли Господь уберег меня, – в ужасе вопрошал Антонис Флинк, судебный пристав из Клеве, – чтобы я узрел, как сын мой погрязнет в разврате, среди тех, кто посещает блудниц?»[382] Вместо этого он решил отдать сына в обучение какому-нибудь почтенному и достойному ремеслу под началом какого-нибудь амстердамского меннонита. Однако его единоверец, меннонит Ламберт Якобс, вероятно, убедил его, что врата ада не распахнутся перед его сыном, если он переступит порог мастерской художника, а ведь Ламберт сам был странствующим меннонитским проповедником, известным во всей Фрисландии своим безупречным благочестием, и одновременно художником. Сначала Ламберт сам стал давать уроки живописи и рисунка Говерту Флинку, а затем в 1635 году, когда тот овладел навыками мастерства, отправил его на год в Амстердам к Рембрандту, чтобы там завершить обучение[383].
Рембрандт ван Рейн. Автопортрет в образе бюргера. 1632. Дерево, масло. 63,5 46,3 см. Коллекция Баррелла, Поллок-Хаус, Глазго
Рембрандт ван Рейн. Автопортрет с золотой цепью. 1633. Дерево, масло. 60 47 см. Лувр, Париж
Поэтому можно сказать, что всего через несколько лет после приезда из Лейдена Рембрандт, благодаря столь несомненным шедеврам, как «Урок анатомии доктора Тульпа», сделался весьма популярным, наиболее талантливым и ярким амстердамским художником, способным вдохнуть новую жизнь в набившие оскомину банальные жанры, при этом не утрачивая представления о приличиях. Он умел превратить ожидания своих заказчиков в нечто куда более возвышенное, польстить им, не пугая и не издеваясь. И заказчики устремились на Брестрат. Клиентура Рембрандта состояла не только из купцов средней руки, но и из молодых хлыщей, щеголей в кружевах и лентах, патрициев, занимавших куда более высокое место в социальной иерархии. Не случайно единственный портрет, на котором он предстает в облике истинного бюргера, Рембрандт написал в 1632 году, когда преисполнился небывалого прежде ощущения собственной значимости. Вот он уверенно глядит на зрителя, в элегантном воскресном наряде, «zondagspak», в гофрированном отложном воротнике и той же мягкой фетровой шляпе, в которой запечатлел себя на «рубенсовском» гравированном автопортрете 1631 года. Он еще недолго живет в Амстердаме и потому не может получить «poorterschap», свидетельство о месте жительства и состоянии, которое требуется для вступления в гильдию Святого Луки. Однако этот портрет, демонстративно пренебрегающий столь любимым Рембрандтом позерством, – портрет молодого человека с широким лицом, с грубоватыми чертами и с едва заметными усиками, фронтально обращенного к зрителю, – своего рода живописное прошение о «зачислении в класс честных бюргеров»; всем своим видом художник опровергает подозрения Антониса Флинка и ему подобных, что, мол, живописцы – горстка никчемных бездельников и нищих. Изображенный отличается сдержанной элегантностью, едва намеченной несколькими безупречно выбранными деталями и штрихами: вот красная лента, на которую завязывается воротник, вот ряд золотых пуговиц. Это изображение, занимающее весь передний план живописного пространства, воплощает добродетель, в XVII веке именовавшуюся «honntet», то есть искренность, надежность, честность. Оно словно говорит: «Вы можете быть уверены во мне и в моих видах на будущее». Я ничем не напоминаю печально известного Торренция, заключенного в темницу за еретические взгляды и прелюбодеяние. Воистину, я добропорядочный, солидный гражданин: предприниматель, наставник юношества, значительное лицо. В альбом немецкого гостя Бурхарда Гроссмана, возможно одного из клиентов ван Эйленбурга, Рембрандт вписал следующие строки, отмеченные печатью серьезности и достоинства: «Een vroom gemoet / acht eer boven goet» («Человек набожный / ценит честь превыше любых благ»).
Эту банальность Рембрандт высказал всего за несколько недель до женитьбы на Саскии ван Эйленбург: их свадьба состоялась во Фрисландии 4 июля 1634 года[384]. Хотя никто из его многочисленных своячениц и свояков, судя по всему, не видел этой надпись, Рембрандт, вероятно, внес в альбом немца этот тривиальный афоризм, чтобы возвыситься в их мнении, ведь на следующей странице альбома красуется краткая нравоучительная проповедь ван Эйленбурга под заглавием «Middelmaet hout staet» («Умеренность все превозможет»)[385]. Поэтому художник не без оснований мог предположить, что эта благочестивая самореклама дойдет до семейства его невесты. И даже если этот жест был не столь хладнокровно рассчитан, избранный афоризм содержал в себе именно ту банальную житейскую мудрость, которую невольно вспомнил бы любой, желающий развеять подозрения будущих своячениц и свояков, что он-де охотится за приданым сиротки. Фризские ван Эйленбурги кое-что знали о художниках. Троюродная сестра Саскии вышла за живописца Вейбранда де Геста. Однако он был всего-навсего провинциальной фигурой, и онимогли задуматься, припомнив предостережения ван Мандера о том, что знаменитые художники в больших городах денно и нощно пьют и в конце концов разоряются из-за собственной расточительности и безумных капризов. Но можно ли ожидать подобного от солидного, надежного, представительного Рембрандта ван Рейна, плодовитого художника, популярного в среде богатых и знаменитых, придворного живописца? Нет, его следовало сравнить с великим Хендриком Гольциусом, девиз которого, каламбурно обыгрывавший его фамилию, звучал как «Eer boven golt» («Честь дороже золота»). Однако, возможно, Рембрандт был не так уж равнодушен к презренному металлу, ведь на двух других автопортретах, созданных в 1633 году и ныне находящихся в Лувре, он запечатлел себя с массивной золотой цепью с медальоном, громоздкой, тяжело возлежащей на шее и плечах, и в отделанном заклепками латном воротнике на горле, воплощением светского успеха.
Рембрандт ван Рейн. Автопортрет в берете и меховом воротнике. 1634. Дерево, масло. 58,3 47,5 см. Картинная галерея, Государственные музеи, Берлин
Кем же он предпочел предстать перед Саскией и ван Эйленбургами – достойным, серьезным бюргером, или блестящим придворным, надежным управляющим капиталом невесты, или хлыщом и щеголем в широкополой шляпе с перьями? В книгах, содержащих рекомендации по поводу супружеской жизни, вроде «Брака» («Houwelijk») Якоба Катса, всячески подчеркивалось, что прочную и непоколебимую добродетель надлежит ценить выше таких преходящих свойств, как красота, веселый нрав и прочие прелести, быстро увядающие, словно розы. Кроме того, авторы подобных пособий предостерегали от страстей, коим ни за что нельзя было предаваться, и во множестве аппетитных подробностей изображали последствия столь неосмотрительного поведения. Однако в галантном, соблазнительном Амстердаме можно было почерпнуть и совершенно иные, далеко не столь чопорные и строгие советы: достаточно было открыть небольшую антологию любовных стихов и песен, продававшихся всего за несколько стюверов на ярмарочных прилавках, прийти в театр, на представление пьесы, где поклонник, обычно страдающий от неразделенной любви, изливал свою страсть возлюбленной, или оглядеться на улицах, где на каждом шагу попадались флиртующие молодые парочки, иной раз даже – к нескрываемому ужасу иностранцев – без сопровождения дуэньи или пожилой наперсницы. А ведь Рембрандт отнюдь не всегда стремился казаться добропорядочным, солидным и надежным, эдаким идеалом своячениц. На одном из самых прекрасных автопортретов, написанных в 1634-м, в год его свадьбы, он запечатлел себя счастливым любовником, прихорашивающимся перед зеркалом. Волосы у него распушились от щетки, на нем мягкие, приятные на ощупь одеяния, бархатные и меховые. Волоски на меховой опушке плаща стоят дыбом, словно у кошки, которую погладили против шерсти. Подбородок и шею Рембрандта прикрывает поднятый шелковый воротник, придающий твердые очертания на самом-то деле расплывшейся нижней части лица. У него аккуратно подстриженные тонкие усы, взгляд влажных глаз нежен и внимателен и словно взволнован желанием. Рот его приоткрыт, а на шею падает глубокая тень. Выражение его лица можно описать как одновременно серьезное и располагающее, он поворачивает голову, и его лицо вот-вот будет ярко освещено. Краска нанесена свободными, легкими мазками, едва заметными прикосновениями. На картине запечатлено лицо человека, который ждет от жизни лишь радости и удачи.
И это лицо городского денди, а Саския, уроженка Фрисландии, могла ожидать провинциального, деревенского ухаживания. Ведь, в конце концов, на островах вдоль побережья Фрисландии до сих пор были приняты «kweesten», или ночные визиты, когда женихи забирались через окно в спальни или даже в постели своих нареченных и проводили там сладостные и мучительные ночи, однако на рассвете обязаны были исчезнуть, не посягнув на добродетель своей возлюбленной[386]. Хотя не исключено, что Рембрандт и Саския обменивались долгими взглядами и робкими улыбками в гостиной священника Сильвия, по большей части их ухаживания протекали под холодным, дождливым небом общины Хет-Билдт. Возможно, Рембрандт впервые заметил свою будущую жену во время одного из своих приездов во Фрисландию, ведь он был хорошо знаком с двумя местными художниками, Ламбертом Якобсом и Вейбрандом де Гестом. А в конце весны 1633 года он наверняка возвратился в Синт-Аннапарохи, попросил руки Саскии у ее семейства, поговорил с нею с глазу на глаз в гостиной, предложил ей делить горести и радости до конца дней и обсудил детали помолвки со свояченицами и свояками.
Рембрандт ван Рейн. Саския в соломенной шляпе. 1633. Серебряный карандаш, загрунтованный пергамент. Кабинет гравюр, Государственные музеи, Берлин
На рисунке, подписанном «На третий день помолвки», Саския изображена в деревенской соломенной шляпе, точно такой же, как у модели Рубенса Сусанны Фоурмент на картине «Chapeau de paille». В подобных шляпках принято отправляться на прогулки. А рисунок был выполнен на пергаменте серебряным карандашом и, судя по этим материалам, появился в небольшом блокноте, со страниц которого легко было стереть изображение и который художники обычно повсюду носили с собой[387]. Рисунок сделан подобием стиля, предшественника графитного карандаша, кончик которого мог изготавливаться из различных металлов, в данном случае – из чистого серебра. Основу покрывали слоем измельченных костяных белил в смеси с гуммиарабиком, чтобы придать поверхности достаточную шероховатость, и уже по этому зернистому материалу проводили серебряным стилем тонкие линии. На воздухе серебряные линии постепенно тускнели, поэтому сейчас портрет Саскии предстает в черно-коричневых тонах. Но в тот июньский день Рембрандт показал Саскии рисунок в нежной серебристо-серой гамме, с едва заметно поблескивающими на пергаменте линиями.
Рембрандт ван Рейн. Смеющаяся Саския. 1633. Дерево, масло. 52,5 44,5 см. Галерея старых мастеров, Дрезден
Это акт поклонения в миниатюре. Может быть, они остановились во время прогулки по проселочным дорогам под цветущими деревьями. Или, когда они уже вернулись к ней домой в Синт-Аннапарохи, Рембрандт искоса взглянул на нее и достал свой этюдный блокнот, «tafelet». Лицо, плечи и грудь Саскии освещены неярким июньским солнцем. Она сидит за столом, опираясь локтями на что-то весьма напоминающее подставку для рисования, на которой живописец пристраивает лист, она подалась вперед к своему нареченному и явно одновременно и наслаждается его любящим взором, и смущается его вниманием. Ее черты прочерчены легкими, но необычайно точными линиями, словно художник обвел их кончиками пальцев. Он быстро подметил ряд сокровенных деталей с пристальным вниманием любовника, тщательно запоминающего череду маленьких сокровищ: вот прядь волос, прильнувшая к ее правой щеке, вот детские складочки на шее, охваченной жемчужным ожерельем (которое она будет носить и на дрезденском портрете), вот чуть приподнятый кончик вздернутого носа, вот сборки на полотняной блузе, там, где ее грудь возлежит на правой руке, вот изящный, сужающийся к концу пальчик, слегка прижатый к левой щеке, вот видимая изнанка большого пальца, на который она опирается подбородком. А в центре, оттеняемое эффектно изогнутыми полями широкополой шляпы, ее лицо в форме сердечка, со слегка курносым носом, со ртом – луком Купидона, с губами, разделяемыми темной, четко прочерченной чертой, нижней – чуть-чуть отвисающей, с миндалевидными глазами, взор которых, задумчивый, польщенный, говорит о том, что она снисходительно терпит его пристальное внимание. Тулью ее шляпы обвивает цветочный венок; еще один цветок, слегка поникший, она держит в руке за стебелек. Она сама – его роза и его радость, дитя природы, голландская нимфа, явившаяся к нему с фрисландского цветущего луга и вместе с ярким, напоенным росой букетом принесшая весеннее плодородие. «Dit is naer mijn huijsvrou geconterfeit do si 21 jaer oud was den derden dach als wij getroudt waeren den 8 junijus 1633 («Это портрет моей жены Саскии, написанный на третий день после нашей помолвки, 8 июня 1633 г.»), – гласит сопроводительная надпись. Однако в ней слышится не столько самодовольство обладателя, сколько удивление и упоение. Посмотрите только, вот истинное маленькое сокровище, «schatje», чудесное крохотное произведение искусства, моя будущая жена, моя великая удача.
Рембрандт ван Рейн. Саския в образе Флоры. 1634. Холст, масло. 125 101 см. Эрмитаж, Санкт-Петербург
С точки зрения той эпохи, вполне в духе Донна и Хофта, неустанно облекавших в сложные метафоры возвышенные чувства, Рембрандт был влюблен. Поясной портрет Саскии, также написанный в 1633 году, точно следует указаниям ван Мандера, как изображать лицо, исполненное нежности и блаженства: рот должен быть чуть-чуть приоткрыт «от благопристойно сдерживаемого смеха»[388], глаза полузакрыты. Он облачил Саскию в элегантное, но не вызывающе пышное платье с расшитым корсажем и в шляпу с перьями и с прорезными полями. Ее голова обращена к зрителю, почти под прямым углом к телу, она словно внезапно обернулась на оклик знакомого. Направленный луч света играет на ее жемчужной сережке. Она одновременно воплощает невинность и соблазн.
Рембрандт ван Рейн. Флора. Ок. 1634–1635. Холст, масло. 123,5 97,5 см. Национальная галерея, Лондон
Рембрандт ожидал супружеских утех, и его нетерпение, возможно, подогревалось вынужденной разлукой. В ноябре 1633 года умерла ее сестра Антье, и Саския, последняя незамужняя девица в этом семействе, потребовалась во Франекере, где ей предстояло ухаживать за вдовцом, профессором Макковием, известным своим тяжелым нравом. Во время разлуки Рембрандт получил у своей матери формальное согласие на брак, без которого нельзя было в третий, и последний раз огласить в церкви имена жениха и невесты. Однако, все теснее сближаясь с ван Эйленбургами, он, по-видимому, все более и более отдалялся от своего лейденского семейства. 10 июня 1634 года Рембрандт и Саския «вышли из красных дверей» ризницы церкви Аудекерк, зарегистрировав брак в присутствии свидетеля Иоганнеса Корнелиса Сильвия[389]. А в конце июня, когда жених и невеста наконец пересекли на пароме неспокойные воды залива Зюйдерзе, оправляясь на венчание, их сопровождали не только проповедник с женой, но и Хендрик ван Эйленбург с женой Марией ван Эйк. Долгий путь из Зеландии, чтобы присутствовать на свадьбе, проделали также Тиция и ее муж Франсуа Копал. Однако среди приглашенных не оказалось ни одного из Рембрандтов: ни братьев, ни сестер, ни матери, хотя Нельтген в это время пребывала в добром здравии. Спустя месяц после свадьбы Рембрандт поехал в Роттердам писать портрет богатого пивовара Дирка Янса Пессера. По дороге он вполне мог заглянуть к родным в Лейден. Но если он и взял с собой Саскию, чтобы представить своей семье в доме на Веддестег, об этом не сохранилось никаких сведений. Дело в том, что теперь Рембрандт стал одним из ван Эйленбургов, а свадебный пир, устроенный в доме Хискии и Геррита ван Лоо в Синт-Аннапарохи, символизировал его принятие в члены этого клана. Одна сестра упокоилась в могиле, другую ожидало брачное ложе – таковы неисповедимые пути Господни. Фризская свадьба, судя по всему, была шумной, многолюдной и хлебосольной; едва ли на пиру читали изящные латинские вирши, подобные тем, что воспевали союз Рубенса и Изабеллы Брант, однако столы ломились от сластей и хорошо прожаренных хлебцев с пряностями, от вина, пива и наливки из календулы. Кудри невесты украшал цветочный венок; жених улыбался, как ни за что не позволил бы себе улыбаться на полотне или на бумаге, – с неподдельным блаженством.
Свадьба пришлась на начало лета, «hooimaand», месяц, когда на фрисландских лугах косят сено. Рембрандт и Саския не спешили вернуться в Амстердам и по крайней мере до начала июля гостили в доме Хискии и Геррита ван Лоо. Однако, поскольку голландская культура той эпохи не отличалась особой сентиментальностью, в медовый месяц они не только наслаждались, но и благоразумно занимались практическими делами, связанными со вступлением Саскии в отцовское наследство. Нужно было получить деньги у должников, продать долю Саскии в одной местной ферме, где ей принадлежал земельный участок[390]. И, даже перебравшись с молодой женой обратно в Амстердам, на улицу Антонисбрестрат, в дом Хендрика ван Эйленбурга, Рембрандт перенес в город деревню, «rus in urbis», написав две трехчетвертные версии Флоры, богини весеннего изобилия и плодородия[391]. Обе эти картины, находящиеся теперь соответственно в Эрмитаже и в Лондонской национальной галерее, издавна принято считать изображениями Саскии. И по самым разным причинам хотелось бы согласиться с подобным мнением. Примерно в это же время Рубенс написал свою молодую жену Елену Фоурмент, оправдавшую его ожидания и оказавшуюся весьма плодовитой, в облике своей деревенской музы, в саду их антверпенского дома, одетую по сельской моде, в соломенную шляпу и сильно декольтированный корсаж. В эрмитажной «Флоре», датируемой 1634 годом и также изображенной на фоне фантастической, увитой зеленью беседки, можно не без некоторых усилий различить черты Саскии, если взять за образец увековечивающий помолвку рисунок и два дрезденских портрета и в особенности если вспомнить, что Рембрандт имел двусмысленную славу художника, не стремившегося с буквальной точностью передать сходство[392]. Однако моделью для лондонской Флоры, без сомнения, послужила совершенно иная женщина. Полная, приземистая, луноликая, с глазами слегка навыкате и с выпуклым лбом, с мясистым, крупным носом, она появляется на многих картинах Рембрандта середины 1630-х годов. Это не очень удачная нью-йоркская «Беллона». Это мадридская «Софонисба, подносящая к устам чашу с ядом». Это токийская «Минерва». Она изображена также на офорте 1636 года, известном как «Женщина, сидящая на холмике»: ее неприкрытый целлюлит впоследствии необычайно расстраивал самозваных блюстителей классического хорошего вкуса. Однако это не Саския.
Не важно. Едва ли можно счесть совпадением, что, как только его фрисландская жена переехала в город, Рембрандт решил обратиться к жанру пасторали, с его напоенным благоуханием цветов воздухом, пронизанным зеленоватым, прохладным весенним солнцем, столь свойственным обеим картинам. Однако это был очередной хитроумно рассчитанный прием, ведь сельские идиллии вошли в Амстердаме в моду благодаря таким популярным пьесам-пасторалям, как «Гранида и Даифило» Питера Корнелиса Хофта и «Диана и Флоренций» Яна Харменса Крула; в обеих фигурируют страдающие от неразделенной любви пастухи и очаровательные пастушки[393]. К 1630 году ими пестрили любовная поэзия, вокальные пьесы и живопись; так, утрехтский художник Паулюс Морелсе неустанно изображал аркадских пастушек в соломенных шляпах и широких шалях, официальной пасторальной униформе. В свою очередь, театральная мода повлияла и на излюбленные фасоны, и потому, отправляясь время от времени на сельскую прогулку, щеголихи полюбили наряжаться пастушками: в глубоко декольтированные, с высокой талией корсажи, прозрачные «аркадские» вуали и вездесущие соломенные шляпы.
Рембрандт, как обычно, размывает границы между актерской игрой и жизнью. А судя по выполненному им элегантному портрету Яна Крула в полный рост, он мог быть знаком с этим католиком и автором поэтических пасторалей. Поэтому, если бы Рембрандт изобразил себя и Саскию в образе аркадских пастушков, он не только последовал бы моде, но и поступил бы совершенно естественно, в абсолютном соответствии с собственным характером, как это сделал его ученик Говерт Флинк, создавший портреты Рембрандта и Саскии в пастушеских костюмах. Однако написанные в три четверти, крупным планом, модели на обеих картинах Рембрандта наряжены слишком пышно, облачены в одеяния слишком фантастические, чтобы показаться пастушками, героинями пасторали, коорые вдруг забрели на холст с подмостков, ведь костюмы в этом театральном жанре неизменно отличались скромностью и простотой. Лондонская Флора предстает не столько пастушкой, сколько богиней, и подчеркнуто демонстрирует обнаженную низко вырезанным корсажем грудь, напоминая о том, что Флора слыла покровительницей куртизанок. По-видимому, первоначально Рембрандт лелеял совсем иной замысел и иной сюжет, «Юдифь с головой Олоферна», а «визуальным претекстом» ему могла послужить удивительная «Юдифь» Рубенса, которую он наверняка видел в Лейдене в 1620-е годы; у Рубенса коварная героиня тоже обнажает грудь вызывающим жестом роковой соблазнительницы. Возможно, еще задолго до 1635 года Рембрандт в общих чертах уже сделал набросок исходной композиции, в которой «Флора» вместо букета бархатцев и тюльпанов держала в руке ужасную отсеченную голову Олоферна. Не исключено, что он изменил свой замысел под влиянием аркадских фантазий, разыгравшихся после очередной поездки во Фрисландию, предпринятой в том же году, когда их с Саскией пригласили на крестины одной из дочерей Хискии, которую в честь покойной тети нарекли Антье. Или ожидание их собственного первого ребенка, зачатого весной 1635 года, подвигло Рембрандта на эти благодетельные замены, заставив отказаться от жестоких деталей, смилостивиться над зрителем и вместо кровожадного убийства и ангела мщения представить царство идиллии и богиню плодородия? В любом случае новая «Флора» сияет яркими красками, особенно обращают на себя внимание ее пояс и яркое ожерелье из перемежающихся незабудок сочного цвета. Обе эти детали созданы из крохотных узелков, бусинок, шишечек, пузырьков сверкающей краски, более всего напоминающих луг, усеянный буйно растущими яркими полевыми цветами. Что, если ученому Рембрандту пришла на память чудесная аналогия ван Мандера, уподобившего картину яркой, утопающей в цветах лужайке, над которой взгляд зрителя неутомимо кружит, словно пчела в поисках меда?[394] Если так, то Флора превращается у него в покровительницу не только физической, но и творческой плодовитости, в олицетворение самой живописи.
Рембрандт ван Рейн. Спящая Саския. Ок. 1635. Перо коричневым тоном, кисть коричневым тоном, бумага. Музей Эшмола, Оксфорд
Согласно античным мифам, Флора расцветает от объятий Зефира, нежного влажного бриза. Допустим, что художник воображал себя Зефиром, а Флору – своей цветущей лужайкой; тогда весьма уместно было показать зрелую богиню в последней стадии беременности. А поскольку им с Саскией предстояло произвести на свет и картины, и потомство, он молил благословить их союз подательницу двойного изобилия. На эрмитажной картине Рембрандт даже по старинной фламандской моде изобразил богиню с выпуклым животиком. Однако в 1635 году благоухание цветов заглушил смрад смерти; Флора склонила голову перед занесенной косой. На этот год пришлась самая ужасная, опустошительная, сколько помнили амстердамцы, эпидемия чумы. От морового поветрия погиб каждый пятый житель города. Все, кто мог, бежали в деревню. Все, кто не мог, ожидали, когда их минует ангел смерти, и молились, боясь увидеть под мышками и в паху смертоносные пурпурные пятна, напоминающие цветом ежевику или тёрн. Самыми уязвимыми оказались младенцы. Первый ребенок Рембрандта и Саскии, сын, названный в честь ее отца Ромбертусом, прожил всего два месяца. Отец и мать похоронили его в церкви Зюйдеркерк, неподалеку от дома Хендрика, 15 февраля 1636 года; он стал еще одной жертвой среди множества невинных младенцев, унесенных чудовищной напастью.
Рембрандт ван Рейн. Лист набросков с портретом Саскии. Ок. 1635. Офорт. Кабинет гравюр, Рейксмюзеум, Амстердам
Вскоре после этого обитатели дома на Антонисбрестрат решили разъехаться. Хендрик ван Эйленбург переселился на противоположную сторону улицы, а Рембрандт и Саския наконец выбрали местом жительства один из двух домов, выстроенных на Ньиве-Дуленстрат и выходящих на реку Амстел. Они были возведены на деньги амстердамского пенсионария Виллема Борела, олигарха, прославившегося очень тяжелым характером, но при этом необычайно влиятельного: не случайно Гюйгенс искал встречи с ним всякий раз, когда ему требовалось склонить к чему-нибудь или чего-нибудь добиться от членов амстердамского городского совета. Сам Борел жил в одном из этих домов, а другой сдавал богатой вдове, которая, в свою очередь, сдавала комнаты Рембрандту. Поэтому, хотя Рембрандт фактически снимал жилье в поднаем, он, желая напустить на себя важность (прежде всего в беседе с Гюйгенсом), мог небрежно обмолвиться, что живет-де в роскошном доме, «по соседству с пенсионарием Борелом».
Иоахим Эйтевал. Автопортрет. 1601. Дерево, масло. 98 74 см. Центральный музей, Утрехт
Иоахим Эйтевал. Портрет жены художника, Христины ван Хален. 1601. Дерево, масло. 98 74,5 см. Центральный музей, Утрехт
В этом доме на берегу широкой серой реки Рембрандт выполнил двойной портрет в технике офорта, запечатлев себя и Саскию (с. 480). Если считать, что двойной автопортрет с Саскией в образе блудного сына и непристойной женщины выходит за пределы портретного жанра и скорее являет собой некий пример исторической живописи (а так оно и есть), то портрет – единственное изобразительное свидетельство его брака.
Рембрандт вновь решительно отказался от банальных жанровых условностей или, по крайней мере, пересоздал этот жанр по своему усмотрению. Разумеется, он был далеко не первым голландским художником, кто запечатлел себя с женой. Так, в 1601 году живописец-маньерист и богатый утрехтский торговец льном Иоахим Эйтевал увековечил себя и свою супругу Христину ван Хален на парных портретах, задуманных как единое целое: жена в одной руке держит Библию, а другой благоговейно указывает на мужа. Эйтевал, написавший себя в столь же динамичной манере, сколь свою супругу – в плавной и гладкой, изобразил себя за работой: он держит в руках палитру, кисти и муштабель[395]. В своем круглом и плоском воротнике, напоминающем колесо телеги, и черном атласном камзоле, Эйтевал предстает истинным воплощением джентльмена-художника, добропорядочного и корректного, подобного Отто ван Вену и Питеру Паулю Рубенсу, с которым его объединяет подчеркнутое пренебрежение к славе. Позади живописца и его супруги не требующая разъяснений надпись гласит: «Non gloria sed memoria» («Не ради славы, а просто на память»).
Однако Рембрандт совершенно точно жаждал и славы, и потомства. Парные портреты кисти Эйтевала предназначались только для украшения собственного дома и не покидали его стен. Напротив, офорт создается для того, чтобы его увидели многие, а значит, гравированный автопортрет художника становится чем-то вроде рекламы авторского образа, его личности, его маски. И, как и в случае с «Автопортретом в фетровой шляпе и в расшитом плаще», Рембрандт идеально рассчитал эффект, которого хотел добиться на сей раз за три состояния работы. С точки зрения композиции он абсолютно новаторский, ведь Рембрандт располагает супругов не параллельно плоскости листа, а почти под прямым углом к ней с разных сторон. Впрочем, подобное расположение персонажей сохраняет традиционную супружескую иерархию, так как Саския теоретически сидит «позади» мужа. Однако прежде всего благодаря яркому свету, падающему на ее довольно строгое лицо, ничем не напоминающее смеющуюся невесту с дрезденского портрета, может показаться, что Саския сидит напротив Рембрандта, по ту сторону стола. У зрителя создается впечатление, что, завершив работу, Рембрандт обернется к Саскии. Однако в тот миг, что увековечен на офорте, он погружен в творчество. А расположение руки в профиль, а головы – в фас, то есть под прямым углом, также создает дополнительный визуальный эффект: кажется, будто в работу художника включаемся и мы. Рука Рембрандта, зарисовывающая что-то на листе бумаги, почти отрезана нижним краем гравюры и столь далеко вынесена в пространство зрителя, что вся фигура художника грозит вторгнуться в реальный мир, разбив зеркало, в кторое устремлен его пристальный взор, пока он зарисовывает и зарисовывает себя, а его рука «слепо» повинуется инстинктивным указаниям глаза. Мы будто смотрим в двустороннее зеркало, а художник вглядывается одновременно в наше и в свое отражение. Незаметно созерцатель превращается и в объект созерцания, а жена Рембрандта из своего угла искоса смотрит на нас, смотрящих на него, смотрящего на нас. Вот насколько все сложно.
Рембрандт ван Рейн. Автопортрет с Саскией. 1636. Офорт. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк
Впрочем, состоятельные жители Амстердама при посредничестве Эйленбурга заказывали Рембрандту парные портреты не только в первые годы его брака, а постоянно. Некоторые из них – банальные поясные изображения, иногда их оживляют лишь ярко освещенный лоб или щегольские поблескивающие бакенбарды. Впрочем, есть и другие, как всегда нарушающие конвенции жанра, превращающие стандартные, написанные в пандан друг к другу портреты в образы союзов, основанных на сдержанной, но нежной дружеской привязанности. В подобных парных портретах Рембрандт запечатлевает дружбу между супругами, которую тогдашние руководства и наставления по вопросам брака превозносили как одну из главных добродетелей супружества[396]. А если мы предположим, что между жизнью и искусством все-таки существует простая связь, то нам нетрудно будет догадаться, что свежестью и непосредственностью лучшие его парные портреты обязаны в том числе и радости, которую он испытывал в своей молодой семье.
Рембрандт ван Рейн. Мужской портрет. 1632. Холст, масло. 111,8 88,9 см. Музей Метрополитен, Нью-Йорк
Рембрандт ван Рейн. Женский портрет. 1632. Холст, масло. 111,8 88,9 см. Музей Метрополитен, Нью-Йорк
Однако это не означает, что Рембрандт мог позволить себе пренебречь традиционными правилами хорошего тона, согласно которым надлежало писать супружеские портреты. Ведь, в конце концов, как провозглашали проповедники в ту пору и провозглашают ныне, институт брака установлен самим Господом не только для того, чтобы супруги помогали друг другу и поддерживали друг друга, но и с более серьезными целями, как то: рождение детей и воспитание оных в страхе Божием, а также, об этом даже и упоминать не стоит, ради искоренения разврата. Поэтому если традиционные голландские портреты всячески подчеркивали неразрывную связь между супругами, любые признаки взаимной склонности меркли перед визуальным утверждением власти мужа и границ, жестко отделяющих неравные и несоприкасающиеся сферы мужа и жены. На всех парных портретах той эпохи супруг всегда помещается слева от супруги, то есть по правую руку от нее. Он – ее правая рука, и он неизменно прав, его слово – закон для супруги, ибо он – верховный правитель и судия в их маленьком супружеском государстве. Но, кроме того, он министр иностранных дел и потому может позволить себе более энергичные, менее скованные жесты и движения, чем его супруга, изображаемая неизменно справа от зрителя и слева от него. Зачастую портретируемый указывает на супругу, словно представляя ее зрителю, в то время как она обычно замирает неподвижно, абсолютно пассивно, принимая его посредническую роль в отношениях между домашним и внешним миром. На многих парных портретах мужчина стоит, тем самым демонстрируя более светские и непринужденные манеры, нежели его супруга, которая по-прежнему сидит, а значит, символически исполняет роль хранительницы домашнего очага. Иногда портретируемый держит в руке пару перчаток – эмблему брачного соединения двух правых рук, «dextrarum iunctio»: в католической культуре эта деталь изначально подчеркивала природу брака как таинства, но сохранилась и в протестантском обиходе XVII века, сделавшись символом супружеских уз. Если портретируемый стремился предстать аристократом, он мог держать одну перчатку за палец, словно вот-вот галантно бросит ее к ногам супруги. Супруга обыкновенно изображалась с более сдержанными атрибутами своего положения: если она держала в руках веер, то плотно закрытый, а если открытый, то не играла им, а прижимала к корсажу[397].
Рембрандт ван Рейн. Портрет Иоганнеса Элисона. 1634. Холст, масло. 174,1 124,5 см. Музей изящных искусств, Бостон. Воспроизводится с разрешения музея
Рембрандт ван Рейн. Портрет Марии Бокенолле. 1634. Холст, масло. 175,1 124,3 см. Музей изящных искусств, Бостон. Воспроизводится с разрешения музея
Хотя впоследствии Рембрандт приобрел репутацию неутомимого новатора, он без колебаний соглашался соблюдать все традиционные условности данного жанра, если этого требовал заказчик. Авторство так называемого парного «Портрета ван Берестейнов», хранящегося в музее Метрополитен в Нью-Йорке, неоднократно подвергалось сомнению, в том числе и потому, что поза и вся фигура изображенной кажутся предельно неестественными, неподвижными и застывшими, а ведь Рембрандт предпочитал оживленных, жестикулирующих, движущихся моделей[398]. Однако в значительной мере неудачное впечатление, словно голова портретируемой отрезана, а затем хирургическим путем вновь пришита к телу, создает безнадежно старомодный огромный воротник в виде мельничного жернова, «отделяющий» подбородок от шеи. Любовь Рембрандта к изображению мельчайших деталей читается в том, как на грубоватом, внушающем страх и трепет лице супруга выписаны морщинки вокруг глаз, а его брыжи – блестящий пример виртуозного мастерства: живописец воспроизводит слои тканей, используя ту же технику, что и в собственном «Автопортрете в образе бюргера», и накладывая свинцовые белила необычайно плотно, почти взбивая их пеной. Белоснежные брыжи не только обрамляют лицо портретируемого, но и придают его топорным чертам бодрость и живость.
Рембрандт ван Рейн. Портрет Мартена Солманса. 1634. Холст, масло. 209,8 134,8 см. Частная коллекция
Рембрандт ван Рейн. Портрет Опьен Коппит. 1634. Холст, масло. 209,4 134,3 см. Частная коллекция
В других парных портретах в натуральную величину, изображающих в полный рост священника Нориджской реформатской церкви Иоганнеса Элисона и его супругу Марию Бокенолле, Рембрандт вновь демонстрирует удивительное владение жанром, покорно идя навстречу требованиям заказчика и запечатлевая кальвинистский брак, основанный на идеальном благочестии. Непосредственным заказчиком портретов стал сын этой четы Иоганнес-младший, амстердамский купец, богатство которого сыграло с Рембрандтом злую шутку, ведь молодой Элисон настоял на том, чтобы портреты выполнялись в вызывающе монументальном масштабе, совершенно нехарактерном для обычных портретов священников. Рембрандту понадобилось все его умение, например, чтобы модели не превратились в две скучные и совершенно безжизненные статуи: так, он привлекает внимание зрителя к ермолке изображенного, включает в картины обыкновенный драматический антураж, вроде книг, и демонстрирует жест Элисона, прижимающего руку к сердцу, тем самым словно заявляя о супружеской верности и искренности. Перед Рембрандтом стояла тем более сложная задача, что серьезный, строгий и даже суровый облик мужа и жены исключал использование любой легкомысленной бутафории. Хотя он всеми силами старается придать индивидуальность лицам этой пугающе безупречной четы, всем силуэтом крупной головы и массивной фигуры Элисона подчеркивая весомость его благочестия, а Марию Бокенолле, с ее теплым взглядом и легко возлежащей на корсаже левой рукой, представляя образцом супружеской доброты, портреты упрямо отказываются оживать. Однако, возможно, Элисона-младшего не интересовали достоверность и жизнеподобие и он хотел всего-навсего получить воплощающие солидность и внушающие благоговение портреты патриарха и матери семейства, восседающих на престолах праведности. И в таком случае Рембрандт со своей задачей справился.
Рембрандт ван Рейн. Портрет мужчины, встающего с кресла 1633. Холст, масло. 124,5 99,7 см. Художественный музей Тафта, Цинциннати
Рембрандт ван Рейн. Портрет молодой женщины с веером. 1633. Холст, масло. 125,7 101 см. Музей Метрополитен, Нью-Йорк. Дар Хелен Свифт-Нильсон, 1943
К счастью для него, другие супружеские пары, видимо, предпочитали что-то более живое или, по крайней мере, не возражали, когда он показывал их союз как пример не столько пассивного, сколько активного содружества. Впрочем, именно это и предписывали наиболее авторитетные из тогдашних руководств по вопросам брака. Якоб Катс, прибегнув к яркой, хотя и не совсем удачной метафоре, уподобил мужа и жену двум мельничным жерновам, вынужденным волей-неволей тереться друг о друга, дабы достичь гармонии и взаимопонимания в браке[399]. Однако у Рембрандта по крайней мере в двух брачных союзах супруги не мучительно «притираются», а, напротив, устремляются друг к другу, словно преодолевая пространство стены, разделяющей их написанные в пандан портреты. На наиболее ярком и изысканном из них Опьен Коппит, молодая супруга богатого патриция, демонстративно надев жемчужное ожерелье и повесив на него вместо медальона обручальное кольцо, будто танцуя, идет навстречу своему повелителю, хорошенькому и инфантильному Мартену Солмансу. Вся ее фигура развернута к нему, она кончиками пальцев приподнимает юбку, подол которой отбрасывает тень на выложенный плиткой пол, служащий общим основанием для обоих портретов, она выносит вперед правую ногу в изящной туфельке. Вероятно, это первый голландский парный портрет, написанный в полный рост, где ступням персонажей уделяется столько же внимания, сколько и рукам, ведь Рембрандт особенно тщательно выписывает вызывающе пышные розетки на туфлях Мартена Солманса, с аристократической изысканностью поставленных под прямым углом друг к другу.
Портрет Опьен Коппит нарушает традицию, согласно которой именно супругу на парных портретах предписывается проявлять большую физическую активность. Однако Рембрандт сумел не только показать безмятежность и спокойствие, неотъемлемые качества примерной жены, когда она устремляется к своему супругу и повелителю, но и наделить живостью и энергией другую, на первый взгляд сидящую неподвижно жену на другой блестящей картине (с. 484). Ее супруг, очередной молодой патриций, словно сошедший со страниц модного журнала, облаченный в вычурный расшитый черный атласный камзол, украшенный розетками, игольным кружевом и золотыми аксельбантами, изящно встает с места, подавшись вперед, к жене, и манит ее к себе. Хотя и не делая подобных эффектных движений, она слегка откинулась назад и едва заметно повернулась против часовой стрелки, а под ее правой рукой, сжимающей веер, залегла глубокая тень, и потому ее поза, как это ни парадоксально, предстает исполненной энергии. Многослойный ажурный кружевной воротник и такие же манжеты изображенной дамы приподнимаются и чуть-чуть выгибаются по краям, словно гребни маленьких волн, как будто по всему ее телу пробегает неуловимый электрический разряд. Уголки ее губ, уголки ее глаз, даже уголки ее бровей едва заметно тронуты улыбкой.
Рембрандт ван Рейн. Корабел Ян Рейксен и его жена Грит Янс. 1633. Холст, масло. 114,3 168,9 см. Букингемский дворец, королевская коллекция, Лондон
Так стандартный жанр парного портрета претерпел в руках Рембрандта не очень явные, но существенные изменения. Однако третья картина, «Корабел Ян Рейксен и его жена Грит Янс», совершенно исключительна по своему новаторству; это не столько единый парный портрет, сколько сцена из супружеской жизни. Ее оригинальность тем более изумляет, что пожилую супружескую чету полагалось изображать только в самых сдержанных и беспощадно официальных позах. Как обычно, новаторство Рембрандта берет начало в творческом переосмыслении традиции; на сей раз материалом ему служат двойные портреты XVI века, изображающие мужа и жену, которые сидят за одним столом, погруженные муж – в дела, чаще всего денежные, а жена – в молитву[400]. В данном случае источником вдохновения могла стать для него одна из самых знаменитых и породивших множество подражаний картин – «Меняла и его жена» Квентина Массейса 1514 года, пожалуй, тот самый «Портрет ювелира кисти мастера Квинтина», что фигурировал в описи коллекции Рубенса, составленной после его смерти в 1640 году[401]. Двойной портрет Массейса мог служить образцом традиционного разделения сфер на мужскую – светскую, активную и деятельную, и женскую – созерцательную, духовную и благочестивую, причем на картине это подчеркивается иллюстрацией в молитвеннике жены, изображающей Деву Марию с Младенцем Иисусом. Однако Массейс выстраивает свою композицию весьма хитроумно, и эта сложность не могла не прийтись по вкусу Рембрандту: если обыкновенно указанные сферы принято было изображать совершенно непроницаемыми друг для друга, Массейс незаметно размывает границу между ними, ведь жену на его портрете отвлек от молитв блеск и звон монет в руках менялы. Она словно замерла меж двух миров и завороженно следит за весами, на чашах которых лежат одновременно мирские и духовные блага и судьбы супругов в освященном Церковью браке[402].
Квентин Массейс. Меняла и его жена. 1514. Дерево, масло. Лувр, Париж
Рембрандт элегантно разрушает все эти стереотипы, переиначивая привычные штампы. У него на картине именно Ян Рейксен погружен в глубокие размышления, но не о духовном, а о чертеже корабля, корма которого, показанная сзади, различима на листе бумаги. Иными словами, он всецело захвачен своим воображением, он во власти творческой идеи, «ingenium», которая пробуждается в этот миг, а Рембрандту и самому, как свидетельствует его бостонский автопортрет 1629 года, были знакомы подобные состояния. Поэтому неудивительно, что, обнаруживая свое родство и сходство с портретируемым, он оставил свою подпись на его чертеже. В отличие от фламандских картин, изображающих «банкиров», это жена врывается в комнату, прерывая его глубокие раздумья. Как обычно, с легкостью сочетая старые и новые жанры, Рембрандт переносит в двойной супружеский портрет «фламандского типа» популярную в его эпоху сцену, в которой слуга, служанка или солдат, доставляющий письмо хозяину, хозяйке или офицеру, прерывает его или ее посреди беседы. Однако в результате синтеза получается нечто совершенно новое: сочувственное воплощение еще одной аксиомы из тогдашних брачных руководств, согласно которой идеальной жене надлежит поддерживать мужа во всех его начинаниях и делить с ним его тяжкое бремя, – Рембрандт не так уж погрешил против истины, ведь Грит Янс сама происходила из семьи корабелов[403]. Если портрет Опьен Коппит, идущей навстречу супругу, содержал лишь намек на ее, возможно, более активную роль в брачном союзе, то здесь Рембрандт предпринимает нечто куда более радикальное, просто неслыханное. Хотя портрет композиционно поделен пополам между обеими фигурами, возникает ощущение, что Грит Янс принадлежит главенствующая роль в пространстве картины, ведь ее руки простираются почти по всей длине полотна, от дверной ручки до стола ее мужа, она резко наклонилась вперед всем телом, ее щека и подбородок отбрасывают глубокую тень на ее белоснежные брыжи и, самое главное, она, очевидно, что-то говорит Яну, передавая письмо. Несмотря на всю новаторскую дерзость композиции, Рембрандт тщательно воспроизводит конвенции семейной иерархии. В конце концов жена, как и следовало ожидать, повинуется мужу. Она опирается на спинку его кресла, словно ища в своем повелителе поддержки и опоры, как требовали живописные клише того времени и как, в частности, Рубенс изобразил себя с Изабеллой Брант. А еще она не выпускает из левой руки дверную ручку, готовясь уйти, как только выполнит поручение, и тогда Ян Рейксен вернется к прерванным размышлениям над чертежами нового судна.
Проявив немалое хитроумие, Рембрандт даже сохранил в центре картины оди из формальных символических атрибутов брака, а именно «dextrarum iunctio», соединение правых рук. Однако он отказывается от эмблемы, визуального эвфемизма вроде пары перчаток, ради демонстрации непосредственного контакта между мужем и женой: она держит в руке письмо, а он – циркуль. В этом выборе сказывается типичное для Рембрандта желание почтить традиционные конвенции супружеских портретов, одновременно в корне изменив их репрезентацию. Хотя Яну Рейксену, когда он позировал Рембрандту, было не менее семидесяти двух лет, а его супруге – около шестидесяти пяти, они ничем не напоминают почтенного патриарха преклонных лет и спутницу его жизни, замерших в застывших позах на картинах, которые их дети благоговейно вешают на видном месте в гостиной. Рембрандт изображает не институт брака, а его живую реальность. Он словно вырывает один миг из непрерывной череды привычных семейных дел, как лист из календаря, и на долю секунды перед зрителем предстает история долгой совместной жизни.
А что же совместная история Рембрандта и Саскии? Несомненно, в какой-то момент он написал их двойной портрет, ведь каталог коллекции бывшего опекуна их сына Титуса, Луи Крайерса, составленный в 1677 году, когда его овдовевшая к тому времени супруга вторично вышла замуж, содержит упоминание о «een contrefeytsel van Rembrandt van Rijn en sijn huysvrouw» («портрете Рембрандта ван Рейна и его жены»)[404]. Бытует мнение, что это дрезденская картина, изображающая усатого щеголя со шпагой на портупее, который, ухмыляясь, одной рукой обвивает талию девицы в богатом наряде, плотно разместившей свой полный, соблазнительно прикрытый плавными шелковыми складками зад у него на коленях. Офорт, сделанный с этой картины в середине XVIII века смотрителем коллекции курфюрста Саксонского, получил название «La Double Jouissance», а сама картина была совершенно смехотворно истолкована как подлинное изображение Рембрандта и его супруги, откровенно воспевающее их приверженность всевозможным жизненным удовольствиям и атрибутам «красивой» жизни: сексу, вину и жареному павлину. С точки зрения биографов романтической школы, гедонизм этого полотна идеально соответствовал образу Рембрандта – бесстыдного развратника, который они всеми силами пытались создать, а на холсте был запечатлен миг гордыни, предшествующий падению, долгам, вдовству и банкротству. Когда впоследствии обнаружились жалобы фрисландских родственников Саскии на то, что супруг-де растрачивает доставшуюся ей часть наследства Ромбертуса ван Эйленбурга, искусствоведы только утвердились в своем мнении, что «Блудный сын» – ода бездумному мотовству.
Рембрандт ван Рейн. Три этюда блудного сына со шлюхой (фрагмент). 1630-е. Рисунок пером. Кабинет гравюр, Государственные музеи, Берлин
Однако, что бы она собой ни представляла, дрезденская картина никак не автобиографична, по крайней мере в бытовом смысле этого слова. Ведь если Рембрандт позирует в облике блудного сына, расточающего отцовское достояние в непристойном доме, то Саския – в образе пухленькой шлюхи с ямочками на щечках, а едва ли честолюбивый живописец, живущий «по соседству с пенсионарием Борелом» и получающий заказы от штатгальтера и избранных амстердамских патрициев, стал бы писать так свою супругу. Однако в основе картины, без сомнения, лежит притча о блудном сыне. Существует давняя иконографическая традиция, согласно которой блудного сына изображают именно так: пирующим, одной рукой обнявшим распутницу, а другой поднимающим кубок с вином[405]. Два чрезвычайно откровенных рисунка пером на этот сюжет дают весьма наглядное представление о том, сколь живо он интересовал Рембрандта. На более детально проработанном из двух блудный сын, в почти таких же шляпе и камзоле, что и на персонаже картины, ласкает грудь девицы, сидящей у него на коленях; на них смотрит вторая девица, полуодетая, примостившаяся в сторонке, а третья, совершенно обнаженная, тем временем перебирает струны лютни, в языке визуальных образов того времени служившей символом совокупления, как и экстравагантно высокий и узкий бокал. Рентгеновская съемка дрезденской картины, сильно переписанной и неуклюже отретушированной чужой рукой, показала, что изначально между обоими персонажами стояла ухмыляющаяся лютнистка, а гриф ее инструмента был развернут вправо, точно так же, как и на рисунке. На втором листе Рембрандт заходит в своих экспериментах еще дальше: на одном наброске блудный сын запускает руку между ног распутницы, на другом он с ухмылкой оборачивается к зрителю, подобно персонажу картины, правой рукой обнимая девицу за спину и лаская под мышкой ее обнаженную грудь. Шлюха сидит верхом у него на колене, задрав юбку до талии, и улыбается.
А вот здесь-то и кроется основное отличие рисунка от картины. У Саскии-блудницы ее грубоватый клиент не вызывает никакого восторга. На самом деле она демонстрирует именно ту не лишенную иронии снисходительность, которая считается неотъемлемой принадлежностью ее ремесла. И тут возникает проблема. Прежнюю, наивную и безыскусную точку зрения, согласно которой на картине запечатлена сцена невинного веселья и простодушного наслаждения жизнью, сменила другая, наивная при всей своей учености, что она-де содержит нравственное предостережение легкомысленным. В конце концов, на этом полотне собран весь подобающий реквизит моральных эмблем: павлин, символ тщеславия, и грифельная доска, на которой записывается счет, зловещий символ неизбежной расплаты! И неужели, провозгласили новоявленные ученые интерпретаторы, на лице Саскии, одном из немногих фрагментов картины, где работу Рембрандта пощадила кисть неизвестного, можно разглядеть что-то, кроме строгого осуждения? Однако, внимательно всмотревшись в ее лицо, мы осознаем, что выражение его загадочно и двусмысленно, в нем не читается ни осуждения, ни одобрения, уголки ее губ чуть приподняты в полуулыбке, правый глаз сияет, подобно длинной жемчужной подвеске в ушке.
Рембрандт ван Рейн. Автопортрет с Саскией на коленях (Блудный сын). Ок. 1635. Холст, масло. 161 131 см. Галерея старых мастеров, Дрезден
Все эти детали отнюдь не означают, что Рембрандт наслаждался своей ролью, одновременно притворяясь, будто осуждает ее. Впрочем, они неопровержимо свидетельствуют, что, если он и вправду стремился вдохнуть новую жизнь в устаревший жанр исторической живописи и изгнать из него банальные клише и тривиальные образы, унаследованные от прошлого, ему требовалось нечто большее, чем небрежно загримированные и облаченные в современные костюмы статисты. Однако он с головой погружается в эту роль, превращает блудного сына в узнаваемого уличного денди со страусовыми перьями на шляпе, с неправильным прикусом и со шпагой с безвкусным, кричащим золотым эфесом. Все это вместе производит странное, тревожное впечатление. Если увидеть в картине одновременно библейскую притчу и современное жанровое полотно, то контраст между пьяной развратной ухмылкой блудного сына и холодным и проницательным взглядом куртизанки ощущается особенно остро и вызывает у зрителя то же подобие шока, что и картины Яна Стена, на которых художник также предстает вдребезги пьяным клиентом трактирной девки. Значит, это не Рембрандт. А с другой стороны, это Рембрандт. Или это Рембрандт, олицетворяющий одновременно всех нас. Как и в тех случаях, когда он запечатлевал себя в облике палачей святого Стефана и Христа, Рембрандт еще раз превращается в «Elk», Имярека, воплощение грешного человечества, и, смилостивившись над нами, прощает нам наши позорные деяния, словно стирая губкой счет на грифельной доске и милосердно избавляя нас от расплаты.
А теперь перенесемся на три с половиной века вперед. 15 июня 1985 года. В Ленинграде, как он тогда еще именовался, это время белых ночей, наступающих внезапно и столь же внезапно исчезающих. Солнечным летним днем неприметный молодой литовец входит в длинный зал Рембрандта, расположенный на втором этаже Эрмитажа, на набережной Нев. Первой его приветствует «Даная», распростертая на ложе, опирающаяся на левый локоть; ее кожа золотится в мягком рассеянном свете, ее груди, ее лоно, ее бедра соблазнительно обращены к созерцателю. Посетитель подходит к «Данае» вплотную и пронзает ножом ее пах, насквозь прорезая холст, и, извлекая из раны орудие вандализма, оставляет в нем дыру размером более десяти сантиметров. Он еще раз наносит ей удар ножом и быстро совершает второе нападение, выплеснув флакон серной кислоты на ее лицо, на ее грудь, на ее ноги. На фотографиях, снятых непосредственно после этого акта вандализма, заметны три фрагмента, особо пострадавшие в результате насилия, поэтому можно говорить о том, что преступник трижды, широко размахнувшись, облил ее кислотой. Весь этот всплеск ярости и безумия занял считаные секунды, но, когда к преступнику подоспели смотрители, было уже поздно.
Не проходит и нескольких минут, как краски на картине закипают и обугливаются. У смотрителей нет воды, они не получают указаний, да и вполне понятно, что они побоялись бы промочить насквозь полотно Рембрандта[406]. В конце концов, шел лишь первый год эпохи гласности. К тому времени, как в зале появляются потрясенные хранители коллекции, кислота уже прожгла несколько красочных слоев и гризайлевый подмалевок, обнажив целые участки холста в центральной части картины. Темная, пузырящаяся, густая, вязкая жижа, напоминающая кипящую патоку, начинает стекать с поверхности холста на деревянный пол и там застывает зловонной черной лужей[407].
Чудовищный ущерб, причиненный «Данае», удалось устранить лишь частично. От нападения безумца пострадала в общей сложности треть площади картины, но это оказался главный, центральный ее участок, изображавший тело героини. Естественно, что остро переживавшие катастрофу реставраторы и искусствоведы опасались в процессе восстановления нанести «Данае» дополнительный вред, и потому реставрация продлилась долгих двенадцать лет. Однако на протяжении этого периода они неустанно демонстрировали смелость и бескомпромиссность. В июне 1985 года, тотчас после совершения преступления, коммунистические лидеры, предвосхищая тактику чернобыльской дезинформации и желая скрыть от публики масштаб нанесенного картине вреда, настояли на полной реставрации. «Картина не должна стать памятником варварству, – заявил один чиновник, – она должна вернуться в залы музея и свидетельствовать о высочайшем уровне советского искусства реставрации». Персонал музея был настроен не столь оптимистично. Восстановить полотно «в первозданном виде» было не более реально, чем сам Советский Союз. Сотрудники Эрмитажа отдавали себе отчет в том, что от них требуют не просто частично ретушировать холст, а фактически переписать его заново, а тогда он в любом случае перестанет быть «рембрандтом». Вместо того чтобы восстановить полотно «в первозданном виде», притворившись, будто ему нанесены лишь незначительные повреждения, хранители коллекции и реставраторы музея осмелились предложить нечто совершенно революционное: сказать публике правду и подчистить лишь те участки картины, где кислота не проникла до грунта. Поскольку Рембрандт покрывал краски основного слоя лаком, по которому делал лессировки и полулессировки, и лишь потом прописывал цветные детали, этот метод уберег более глубокие красочные слои от самого страшного вреда. Именно эти нижние слои краски, обнажившиеся в результате нападения вандала, и пытались сохранить искусствоведы и реставраторы, исповедовавшие наиболее консервативный подход, даже смирившись с тем, что им придется радикально и необратимо изменить общий тон картины (и в том числе утратить золотистый свет, как мы увидим, составляющий самую суть представленного на полотне мифа). Без сомнения, сотрудники Эрмитажа очень осторожно и тактично постарались донести свои соображения до коммунистического руководства, однако не поступились своими принципами и в конце концов одержали победу. Поэтому, хотя нынешняя «Даная» – прекрасная и трогательная картина, это не тот холст, что висел в стенах музея до 15 июня 1985 года. Навеки были потеряны важные детали: нижний край покрывала, изначально окутывавшего ноги Данаи, большая часть кораллового браслета на ее левом запястье, тяжелая связка ключей, которую сжимала в руке старая служанка, и, самое главное, золотистый свет, изливавшийся на ее тело, сообщавший ему мягкий, приглушенный блеск и словно овладевавший им.
Рембрандт ван Рейн. Даная (фрагмент, после нападения). 1636. Холст, масло. 185 203 см. Эрмитаж, Санкт-Петербург
Но даже теперь, изуродованная вандалом, «Даная» по-прежнему излучает ту глубокую чувственность, которая и подвигла литовца на нападение. Трудно сказать, какими именно мотивами он руководствовался. По слухам, он спросил у смотрителя, где самая знаменитая (и самая дорогая) картина Рембрандта. В интервью голландскому журналисту преступник признавался, что действовал в знак протеста против оккупации Литвы Советским Союзом. Однако Ирина Соколова, хранитель голландской коллекции Эрмитажа, полагает, что он был движим религиозным негодованием и вознамерился во что бы то ни стало уничтожить нечестивую, богохульную картину. Не случайно удары его ножа пришлись на лобок Данаи, перекрестье трех плавных линий, которое Рембрандт совершенно сознательно поместил в самом центре картины.
Рембрандт ван Рейн. Даная (после частичной реставрации)
Но ведь Даная сама его провоцировала, правда? В конце концов, ее тревожный, приземленный, ощутимый эротизм прежде не раз играл с нею злую шутку. Картина была приобретена для Екатерины Великой, славящейся своими амурными похождениями, и, видимо, пришлась ей весьма по вкусу. В царствование ее сына, императора Павла, искренне ненавидевшего все, что было связано с памятью матери, картину перенесли из изящного Малого Эрмитажа в галерею потемнее. В чопорное правление Николая I ее укрыли от любопытных глаз еще дальше, поэтому, когда в середине XIX века французский критик Луи Виардо посетил Петербург, картину, которую он описывал как «непристойную по своему сюжету и столь же непристойную по своей манере», сослали куда-то в глубину дворца, чтобы она не смущала «толпы посетителей»[408]. Неужели, добавлял Виардо, вполне в духе давней традиции преисполняясь отвращения к рембрандтовским обнаженным 1630-х годов, «можно понять страсть повелителя богов [то есть Юпитера] к этому созданию, лишенному всякой прелести?» Эту картину, заключил он, можно описать в двух словах: «Мерзкий сюжет, исполненный с неподражаемым мастерством».
Но почему же тогда на самой честолюбивой своей на тот момент исторической картине Рембрандт изо всех сил тщился представить столь отвратительную обнаженную, нарушающую все нормы хорошего вкуса? И почему сюжет этого полотна многим казался непристойным? История Данаи заимствована главным образом у Горация и являет иллюстрацию к излюбленному римскому трюизму, что-де от воли судеб не уйти. Царь Аргоса Акрисий, стремясь избежать исполнения пророчества, согласно которому он будет убит собственным внуком, заточил единственную дочь Данаю в «медной башне». Разумеется, Юпитер счел это препятствие совершенно смехотворным и ожидаемо проник и в темницу, и в деву в облике золотого дождя. Не вполне убежденный рассказами дочери о том, что она понесла от ливня восемнадцатой пробы, Акрисий решил не рисковать, повелев заключить дочь-ослушницу и дитя любви в большой ларец и отдать его на волю волн. Не стоит и упоминать, что оба они выжили, а мальчик впоследствии стал героем Персеем. В промежутке между двумя более знаменитыми подвигами он однажды упражнялся в метании диска, как роковой порыв ветра вдруг отнес диск с намеченной траектории и обрушил прямо на голову его злосчастного деда Акрисия. Пророчество сбылось. Так ему и надо, поделом.
Со времен Античности этот миф обладал для художников неотразимой притягательностью, поскольку в нем идеально воплощались оба смысла понятия «luxuria»: сладострастие и роскошь. В греческой вазописи Даная часто изоражается совлекающей с себя одеяния, чтобы принять золотой ливень, но на помпейских фресках она ожидаемо предстает обнаженной. Римский комедиограф Теренций упоминает некоего юношу, который, будучи обвинен в изнасиловании, пытался оправдаться, говоря, что невыносимо чувственная «Даная» столь воспламенила его желание, что он уже не в силах был более ему противиться. Поскольку заточенная в темнице дева пробудила страсть самого Юпитера, мог ли он, простой смертный, «не ощутить того же?» (Впрочем, обвинителей едва ли склонили в его пользу дальнейшие слова: «Вот и я поступил так же и испытал истинное наслаждение».)[409] На самом деле эротическая привлекательность нагой Данаи сделалась общим местом в живописи эпохи Возрождения, хотя такие художники, как Корреджо, Тициан, Тинторетто, по-разному изображали золотой дождь, в том числе и потому, что его стали ассоциировать с продажными куртизанками. На некоторых версиях Данаю сопровождают купидоны, подбирающие презренный металл; на других она появляется в компании старой служанки, представляемой в образе сводни. Рембрандт столь демонстративно отказывается от изображения могучего золотого ливня, характерного для большинства итальянских интерпретаций «Данаи», что некоторые искусствоведы даже усомнились, а точно ли он выбрал этот сюжет. Однако и в итальянском искусстве до Рембрандта бывали случаи, когда золотой дождь эвфемистически показывали в облике одного луча света; здесь можно упомянуть хотя бы знаменитую картину Корреджо, написанную для Федерико Гонзага: у Корреджо на присутствие Юпитера намекает только разбухшая, словно мешок, заключающая в себе плодотворную силу золотая туча, из которой лишь капля или две изливаются на покорное девичье лоно. Так или иначе, Рембрандт нисколько не боялся первым отвергать точную репрезентацию того или иного сюжета ради драматической выразительности. Заменив материальную сущность Юпитера потусторонним золотистым сиянием, Рембрандт мог взять за основу одну из версий мифа, предложенную Тицианом, хотя он пошел значительно дальше, чем венецианский мастер, лишь обозначив божественное присутствие золотоносной аурой. Именно об этом небесном сиянии своим жестом возвещает Даная, именно оно (до акта вандализма) изливалось сквозь раздвинутый полог, освещая лицо служанки. Вернувшись к работе над «Данаей» в конце 1640-х или в 1650-е годы и сделав поток золотистого света, падающего на ее тело, более мощным, он одновременно развернул служанку так, чтобы ее лицо было видимо не в профиль, а в три четверти и большей поверхностью: обеими щеками, носом, лбом, кончиком подбородка – улавливало это сияние.
Рембрандт заменил золотой дождь чем-то куда более неуловимым и эфирным, и потому благочестивые интерпретаторы его творчества стали утверждать, что «Даная» – не столько любовная песнь, сколько христианский гимн, намеренное возвращение к средневековой традиции, которая видела в целомудренной царевне, зачинающей от золотистого света, прообраз Девы Марии[410]. Выходит, перед нами очередное произведение Рембрандта-пуританина, только притворяющегося, будто воспевает чувственные наслаждения, а на самом-то деле осуждающего их. А многозначительное присутствие в изголовье постели купидона в оковах, горько плачущего, не в силах предаться земной любви, и золотого попугая, которого Конрад Вюрцбургский считал символом Девы Марии, развеивает в глазах восторженных приверженцев этой религиозной интерпретации любые сомнения.
Жаль, что эрмитажному вандалу, возмущенному порочностью «Данаи» и решившему любой ценой ее уничтожить, не было известно подобное истолкование. Если бы он знал, что картина воплощает не порок, а добродетель, то не потратил бы усилия даром и сохранил бы чудесный шедевр для всех остальных, то есть для нас.
Рембрандт ван Рейн. Даная (фрагмент: туфли)
С другой стороны, если бы он вгляделся в картину попристальнее, то, возможно, счел бы христианскую интерпретацию несколько надуманной. Он мог сказать ученым – специалистам по иконографии: «Хорошо, допустим, Рембрандт знал все о Конраде Вюрцбургском, но будь я проклят, если вижу здесь попугая». Если уж мы об этом заговорили, то вычурное резное украшение в изножье постели не очень-то и напоминает птицу. А слезы плененного купидона, как давным-давно подметил Эрвин Панофский, скорее указывают на вынужденное целомудрие Данаи, нежели на скорбь по поводу его предстоящей утраты![411] Те, кто настаивает, будто пышная героиня Рембрандта, сладострастно возлежащая на уютном ложе, есть олицетворение торжества платонической любви над любовью чувственной, видимо, сделали из своей эрудиции столь плотные шоры, что не в силах заметить наиболее очевидной детали картины: весь облик Данаи – вызывающе земной. Без сомнения, пытаясь создать столь соблазнительную обнаженную, Рембрандт подражал Тициану. Однако венецианская эротика, даже в ее весьма откровенном Тициановом варианте, чем-то напоминает чувственность, которой проникнуты Овидиевы сновидения: сладострастные, мерцающие тела, словно бы доступные прикосновению смертного, но тотчас же ускользающие и заставляющие его терзаться неутоленным вожделением. Эротика Рембрандта, наоборот, словно воспроизводит то сопровождаемое учащенным пульсом возбуждение, что вызывает непосредственная, абсолютная доступность объекта страсти. Его «Даная» – жесткий диск, на котором хранится целый арсенал «крупных планов», запечатлевающих самый тесный физический контакт: вот темная линия, простирающаяся от пупка до паха, вот выпуклый округлый живот, вес которого создает затененный пологий склон между талией и бедром, словно просящий ласкающего прикосновения тыльной стороной ладони. Мы видим телесные подробности, неуместные в царстве богов: короткую шею и массивное тело, маленькие, точно бусинки, соски, неправильной формы зубы, различимые над чуть выдающейся вперед нижней губой, блестящий лоб. А тени, падающие на ее тело, создают не поэтическую вуаль, а карту, на которой проложен эротический маршрут: от складочки под мышкой к маленькой впадинке в основании шеи, потом к «изнанке» пухлых рук, а от нее – к темному треугольному мыску между ног. Нижний край пышной, разбухшей, как почти все на картине, перины, с ее жестким контуром, подчеркнутым сильными мазками, левая рука Данаи, с ладонью, покоящейся на гладкой подушке, возлежащая на этой ладони грудь – все эти детали словно ведут нас за золотой порог от видения к осязанию, от фантазии к обладанию.
Даже неодушевленные подробности картины взывают к чувствам. Искусствоведы неоднократно замечали, с каким наслаждением Рембрандт выписывает вычурные, затейливые золотые и серебряные предметы в «ложчатом» стиле, моду на которые ввел его друг Иоганнес Лутма и его коллеги и которыми пестрят картины Рембрандта на исторические сюжеты 1630-х годов. Однако, если плавные, почти текучие контуры золотых и серебряных кубков и ваз лишь усиливают чувственное впечатление от большинства исторических полотен, где они вторят сладострастным очертаниям обнаженной модели, иногда этот эротический эффект делается нарочито очевидным; не случайно, впадая в непреднамеренный комизм, авторы статьи «Даная» в «Корпусе» вполне серьезно упоминают о «входных отверстиях» в изножье постели[412]. Не надо быть доктором Фрейдом, чтобы заметить, что «входные отверстия» рассыпаны по всей картине: это и домашняя туфелька Данаи, обращенная к нам своим проемом и отсылающая к любопытным отверстиям в изножье постели, а в первую очередь, разумеется, сам занавес, широко раздвинутый в ожидании бога, который вот-вот вторгнется в избранное лоно.
И хотя, впоследствии вернувшись к картине, Рембрандт существенно изменил угол и положение поднятой правой руки Данаи, так чтобы оно как можно более напоминало приветственный, приглашающий жест, трудно даже представить себе, чтобы он задумывал «Данаю» как воплощение духовной, а не плотской любви. Если уж мы об этом упомянули, стоит отметить, что ко времени создания картины современники Рембрандта уже начали интерпретировать традицию девственных Данай, репетирующих Непорочное зачатие, в пародийном ключе. В частности, Карел ван Мандер в жизнеописании Корнелиса Кетеля повествует о крестьянине, который, увидев «Данаю» кисти Кетеля, «лежащую на прекрасном богатом ложе, раздвинув ноги», принял ее за «Благовещение, где ангел Господень приносит весть Богородице»[413]. Далее, в той же книге, в биографии своего друга Гольциуса, ван Мандер упоминает о том, что тот написал знаменитую Данаю, «весьма и весьма дебелую и пышную». Впоследствии голландский поэт Йост ван Вондел опубликовал стихотворение, посвященное «Данае» кисти Дирка Блекера, который в 40-е годы XVII века работал в мастерской Рембрандта: после его прочтения не остается никаких сомнений в том, что картина прославляет не духовную, а физическую любовь, ведь оно начинается словами: «Это нагое тело могло прельстить бога»[414].
Рембрандт ван Рейн. Женщина, сидящая на холмике. Ок. 1631. Офорт. Дом-музей Рембрандта, Амстердам
Далее Вондел описывает «Данаю» Блекера так, словно это аллегория, осуждающая сребролюбие женщин, их пресловутую «snoeplust», тягу к стяжательству. В последней строке стихотворения автор открыто предостерегает женщин: вот сколь страшные последствия ожидают тех, кто осмелится вмешаться в денежные дела! Однако Рембрандт, как обычно, проявляет оригинальность, избегая этих банальных стереотипов. Его Даная – не девственница, и не корыстная искательница наживы, и, если уж на то пошло, не холодная мраморная античная красавица, как у Корреджо, не поэтичная в своей чувственной страстности модель Тициана. Она являет собой нечто куда более поразительное: совершенно неидеализированную современную женщину из плоти и крови. Вероятно, именно об этой картине Рембрандта говорил Ян де Биссхоп, один из самых яростных посмертных критиков его творчества, когда обрушился на художника с гневной отповедью за то, что тот предпочел природу классическому идеалу: «Изобразить Леду или Данаю… в облике голой девицы, с распухшим животом, отвисшими грудями и отпечатками подвязок на ногах!»[415] Спустя десять лет драматург Андрис Пелс еще пламеннее вознегодовал на обыкновение Рембрандта взять «прачку или резчицу торфа из какого-нибудь сарая и, следуя своему капризу, объявить ее подражанием Природе, а все остальное – пустым украшательством»[416].
Рембрандт ван Рейн. Купающаяся Диана. Ок. 1631. Офорт. Дом-музей Рембрандта, Амстердам
Упрекая Рембрандта в том, что он дерзко пренебрег классическим декорумом, его критики явно имели в виду также два удивительных офорта, известные под названиями соответственно «Женщина, сидящая на холмике» и «Купающаяся Диана». Оба они были опубликованы в 1636 году, когда Рембрандт завершал «Данаю» с отвратительными отпечатками подвязок и прочими гнусными деталями. Из поколения в поколения эти образы, свидетельствующие о непостижимой утрате всякого представления о достойных манерах, внушали блюстителям хорошего вкуса истинный ужас. В XVIII веке Франсуа-Эдме Жерсен, автор первого каталога гравюр Рембрандта и потому по определению великий поклонник его таланта, испуганно всплескивал руками, когда речь заходила об этих земных, совершенно неидеализированных, внушающих неловкость телах. «Уж и не ведаю, почему Рембрандт столь стремился изображать обнаженную натуру – как мужчин, так и женщин, – писал Жерсен, – если совершенно очевидно, что в этом жанре он был не силен. Полагаю, я не в силах привести ни одного примера, который был бы приятен для взора»[417]. Спустя два века Кеннет Кларк, объявивший эти гравюры «одними из самых неудачных, если не сказать прямо, отвратительных работ, созданных великим мастером», писал, что извращенное, по его мнению, желание Рембрандта во что бы то ни стало изображать во всех омерзительных деталях складки и припухлости, ямочки и морщины, обвисшие жировые отложения и мешки дряблой женской плоти вызвано либо сознательным намерением разрушить классический идеал красоты, либо неуклюжей попыткой осмеять его[418]. Во всех отношениях его следовало считать полной противоположностью Рубенсу, который не только советовал для создания образа идеальной обнаженной копировать классические статуи, но и выбрал в качестве декора садового фасада своего дома тот эпизод из Плиния, где художник Зевксид велит целой процессии обнаженных девиц продефилировать перед ним, чтобы он мог выбрать пять из них, а уже потом объединить их лучшие черты (грудь номера первого, попку номера второго…) в совершенном облике богини Юноны[419]. С точки зрения наиболее страстных почитателей Рубенса, например позднебарочного французского критика Роже де Пиля, этот процесс отбора воплощал похвальную привередливость великого фламандца, угодить которому было весьма нелегко. Рембрандт же, напротив, при всех своих достоинствах, и не подозревал, что бывают случаи, когда следует отвратить взор от непристойного зрелища. Покажите ему обнаженную, и он превратится в вульгарного пошляка и станет пожирать ее глазами.
Питер Пауль Рубенс. Три грации. Ок. 1635. Дерево, масло. 221 181 см. Прадо, Мадрид
Но скажите на милость, так ли уж рембрандтовские нагие натурщицы отличались от рубенсовских, особенно от тех, что он написал в 1630-е годы, с их роскошными, чрезмерно пышными формами, с их чувственно избыточной плотью, приводящей на память изобильные плоды садов? Как бы ни призывал Рубенс изучать Античность, в образах своих обнаженных моделей он воспевает торжество целлюлита, не имеющее ничего общего с греческими Афродитами и Артемидами V века до н. э. На одной из его поздних картин, «Три грации», где эротическое напряжение достигает предела, над головой нагих красавиц виднеются пышные гроздья распустившихся розовых летних соцветий. Рубенс не только с любовью выписал каждую складку и морщинку на грудях и бедрах своих прелестниц, но и подчеркнул их полноту, заставив каждую из них, словно в хороводе, положить руку на плечо другой и утопить большие пальцы в изобильной плоти подруги, точно оценивая ее пышность; Рубенс явно наслаждался этим жестом и ликовал, запечатлевая его на картине. На этюде для картины «Рождение Млечного Пути», выполненном Рубенсом в 1635 году, предстает приземистая, коренастая Юнона, с очень толстой талией и животом, прочно утвердившая грубые, как у крестьянки, ступни на облаках. Хотя Рубенс и сделал уступку классическому вкусу, в окончательной версии придав богине привычные итальянизированные черты, ее тело остается столь же неуклюжим и грузным, сколь и на эскизе[420]. Неужели Диана Рембрандта, тяжелая грудь и распухший живот которой вызывали такое отвращение у критиков, не походит на рубенсовских моделей? В сущности, «Женщина, сидящая на холмике», заслужившая неприязнь искусствоведов, написана с той же натурщицы, что и «Флора» из Лондонской национальной галереи, только совлекшей с себя роскошные одеяния и украшения; ложно принимаемая за Саскию в богатом наряде, она одержала победу на «конкурсе красоты», который устроили комментаторы, исследовавшие женские образы Рембрандта. Эту гравюру немедленно скопировал столь известный мастер, как Венцеслав Холлар, а значит, в 1630-е годы «Женщина, сидящая на холмике» пользовалась немалой популярностью и уж точно не воспринималась как пародия. На самом деле нельзя и вообразить, что Рембрандт создал этих обнаженных для того лишь, чтобы вволю повеселиться или, как полагает Кеннет Кларк, ниспровергнуть классический канон и всячески подчеркнуть его несостоятельность. Странно, что в своей замечательной работе «Нагота в искусстве» Кларк никак не комментирует сходство женских фигур с их тяжелыми бедрами и лядвеями, приводимых Дюрером в качестве иллюстрации к его «Четырем книгам о пропорции», и многих женских образов Рембрандта в особенности если учесть, что труд Дюрера находился среди пятнадцати книг, перечисленных в описи имущества Рембрандта в 1656 году. Кроме того, в описи упомянут альбом «с рисунками [Рембрандта], изображающими нагих мужчин и женщин»[421] и одновременно свидетельствующими, сколь многим Рембрандт был обязан Дюреру, Тициану и Рубенсу и сколь оригинален и независим он был в своих творческих исканиях.
Питер Пауль Рубенс. Рождение Млечного Пути. Эскиз. 1636. Дерево, масло. 26,7 34,1 см. Королевские музеи изящных искусств, Брюссель
В 1650-е годы, вернувшись к обнаженной натуре в живописи, графике и офорте, Рембрандт, как мы увидим, добавит к стандартному репертуару этого жанра нечто неслыханное. Однако в 1630-е годы у делающего успешную карьеру Рембрандта не было никаких причин во что бы то ни стало сознательно нарушать декорум. В конце концов, он работает и для самого штатгальтера, и для его секретаря Константина Гюйгенса, истинного оплота классицизма. Рембрандт делает все, чтобы получить важные и прибыльные заказы. Зачем же ему стремиться предстать в глазах людских эдаким мятежником, ниспровергателем хорошего вкуса? С другой стороны, никто не мог бы назвать обнаженных, появляющихся на исторических картинах Рембрандта, традиционными. Достаточно взглянуть на сравнительно немногочисленные обнаженные фигуры, написанные в 1630-е годы такими голландскими современниками Рембрандта, как Цезарь ван Эвердинген, в абсолютно подражательном, итальянизированном вкусе, с алебастровыми телами и тщательно очерченными контурами, чтобы убедиться в том, насколько необычны неодетые персонажи у Рембрандта. Впрочем, различие кроется не в большей или меньшей пышности груди и не в количестве обвисших складок. Как всегда, Рембрандт замыслил что-то невероятное. Однако его необычайный план зиждился не на безобразии моделей, как полагали критики, а на чем-то, что очень трудно осознать нам, привыкшим к предельно идеализированным, «отретушированным» стандартам красоты, а именно на их соблазнительности. Ведь только увидев осязаемую, плотскую соблазнительность этих тел, мы увидим их открытость взорам, их уязвимость. Иными словами, мы увидим, что они голы.
Именно так, не «обнажены», не «наги», а «голы». Голландский язык XVII века не имел в своем арсенале слова для обозначения обнаженности, наготы, которая вызывает в памяти фигуру, изображенную без одежд, наподобие классических статуй, и столь же равнодушную к взорам созерцателей. Ближайшим эквивалентом ему являлось в голландском прилагательное «naakt», или «moedernaakt», или, если были совлечены не все покровы, – «schier naakt», и все эти определения заключали в себе коннотации именно того смущения и неловкости, которые непреодолимо влекли к себе единственного из всех барочных живописцев – Рембрандта. Его явно зачаровывала кажущаяся, видимая обнаженность, процесс несовершенной «алхимической возгонки», в результате которого живые модели представали на полотне мифологическими или библейскими персонажами. Разумеется, он отдавал себе отчет в том, что ему полагалось изображать статуи. Однако в какой-то момент созерцание мрамора, по крайней мере для Рембрандта, сменилось созерцанием плоти. Он обнаружил, что взирает на пухлых, в жирных складках, женщин, которые приковывали его взор ровно до тех пор, пока им не удавалось полностью перевоплотиться в Диан или Венер. Эта амбивалентность, эта двусмысленность (она богиня или раздетая девица, классическая обнаженная или попросту голая, она принадлежит вечности или принадлежит мне?) также составляет квинтэссенцию самой знаменитой рубенсовской картины в жанре ню, на которой изображена его жена Елена в одной лишь меховой шубке. Однако Рембрандт был единственным художником, которому хватило творческой смелости сделать своим постоянным сюжетом связь (внезапного) обнажения, смущения и желания.
Вот он и принимается за «драмы наготы» и пишет «Данаю», «Купающуюся Диану», «Купание Дианы с историями Актеона и Каллисто», «Андромеду», «Сусанну и старцев». Нельзя сказать, что хотя бы в одной из этих историй персонаж случайно предстал без одежд. Это сплошь мифологические эпизоды, сюжетом которых является обнажение[422]. Конечно, они входили в стандартный набор маньеристической и барочной исторической живописи, однако выполняли в нем роль слегка завуалированного эротического элемента. В соответствии с двойными стандартами, на которых был основан негласный договор между заказчиком и художником, Дианы и Сусанны, бесстыдно разглядываемые как будто лишь персонажами картины, одновременно во всех подробностях демонстрировались созерцателю. Чтобы это пип-шоу достигло ожидаемого эффекта, выставляемое напоказ тело не должно обнаруживать никаких признаков смущения или стыда. Поэтому, например, прикованная к скале «Андромеда» Гольциуса 1583 года стоит в неудобной позе, обращенная всем телом к зрителю, в то время как дитя любви Данаи и Зевса – Персей, уже выросший и сделавшийся знаменитым героем, на заднем плане уничтожает дракона. Рубенс писал картины на этот сюжет дважды: сначала в 1618 году он создал весьма торжественную и величественную версию, которую затем в виде картины-обманки перенес на стену дома, выходящую в сад. Потом он вернулся к данному сюжету в конце жизни, уменьшив Персея до маленькой детали на заднем плане, чтобы он не отвлекал от завораживающего зрелища – пышной плоти Елены Фоурмент, которую пожирает взглядом изголодавшийся дракон, то есть мы, зрители.
Хендрик Гольциус. Андромеда. 1583. Гравюра резцом. Кабинет гравюр, Рейксмюзеум, Амстердам
Рембрандт ван Рейн. Андромеда. Ок. 1630. Дерево, масло. 34,5 25 см. Маурицхёйс, Гаага
Напротив, маленькая «Андромеда» Рембрандта – не эффектная девица. Ее беспомощная поза, скованные над головой руки, возможно, заимствованы с картины Иоахима Эйтевала[423]. Однако, если Андромеда Эйтевала грациозно сгибает руки в локтях, подчеркивая тем самым плавные линии своего тела, у Рембрандта они заломлены у нее над головой, и ей явно больно. Это настоящий плен, и надежды на спасение у нее нет, ведь Персея поблизости не видно. К тому же наша героиня нехороша собой. Ее лицо лишь намечено грубоватыми мазками, а ничуть не приукрашенное тело сконструировано из частично перекрывающихся кругов и овалов, причем выпирающий, словно яйцо, живот повторяет очертания написанной фронтально левой груди, а пупок визуально перекликается с соском. Хотя нельзя исключать, что Рембрандт заимствовал покрывало, соскользнувшее с ее плеч и повисшее на бедрах, у античных изображений, а также у Эйтевала, он в первый, но явно не в последний раз осознал, что, добавив одеяние и избавившись от других персонажей, можно создать ощущение болезненной уязвимости.
«Купание Дианы с историями Актеона и Каллисто», вероятно написанное в 1634 году, еще более откровенно трактует цену, которую приходится платить за наготу. Без сомнения, Рембрандт видел много гравюр на эти не связанные между собою сюжеты, приводимые в «Метаморфозах» Овидия, однако гармонично сочетать их на одном холсте было необычайно сложно, а значит, Рембрандт, очевидно, поставил себе задачу во что бы то ни стало сосредоточить внимание зрителя на теме трагической наготы. Слева Диана, с полумесяцем в кудрях, застает врасплох охотника Актеона, случайно узревшего ее обнаженной во время купания. Он уже дорого платит за то, что мельком увидел нагую богиню: упавшие на его тело капли воды превращают его в оленя, его вот-вот растерзают собственные собаки. Справа обнаруживается беременность нимфы Каллисто, соблазненной Юпитером и тем самым нарушившей обет целомудрия – условие договора, которое она взяла на себя, сделавшись спутницей и прислужницей девственной Дианы. Ревнивая Юнона обрекла ее на жестокое наказание и вознамерилась превратить в медведицу, а затем и в медвежью шкуру, если бы не вмешательство Юпитера, который, предупреждая гнев своей божественной супруги, обращает Каллисто в созвездие. Авторы большинсва живописных версий этого сюжета до Рембрандта выбирали либо сцену соблазнения, либо сцену метаморфозы. В частности, Рубенс уже написал Каллисто, уступающую домогательствам Юпитера, а в 1637–1638 годах изобразит сцену, в которой Диана обнаруживает ее беременность, для охотничьего домика Филиппа IV Торре-де-ла-Парада. Она являлась частью цикла, и потому Рубенс, воссоздавая в ней поэтическую и пасторальную атмосферу, характерную для остальных картин, придал ей нежность и изящество, полностью скрыв живот Каллисто от зрителя. Рембрандт, напротив, предпочитает отказаться от всякой сентиментальности, и в этом его картина ближе ранней, более откровенной версии Рубенса. Одна из прислужниц Дианы, набросившись на несчастную Каллисто сзади, прижимает ее к земле, а другая в это время срывает ее свободные одеяния, чтобы всем предстал ее округлившийся живот. Беспощадной жестокости этого жеста словно вторит выражение лица другой нимфы, злорадно хихикающей за спиной Каллисто.
Если вас как художника интересовали истории наготы, обнажения, неприкрытого тела, то вы просто обязаны были написать свою версию «Сусанны и старцев». Согласно апокрифу I века, вошедшему в Книгу пророка Даниила, двое «старцев» украдкой подсматривали за добродетельной супругой некоего судии, когда она принимала ванну в садовой купальне. Возбужденные этим чувственным зрелищем, они стали домогаться ее, угрожая ославить прелюбодейкой, если она откажет им. Еще более беззастенчиво, чем в случае с «Андромедой», барочные живописцы вступали в тайный заговор с заказчиками, притворяясь, будто пишут сцену негодующего осуждения порока, однако на деле сознательно превращая наготу героини в повод предаться сладострастному созерцанию. Так, в 1607 году Ян Говартс не только заказал «Сусанну» своему другу Гольциусу, но и бесстыдно потребовал, чтобы тот изобразил его в облике одного из старцев, пожирающих глазами ее тело[424]. Спустя одиннадцать лет, когда Рубенс работал над одной из своих многочисленных «Сусанн», его друг Дадли Карлтон, английский посланник в Гааге, писал ему, предвкушая чувственное зрелище, что эта картина «будет столь прекрасна, что сможет воспламенить угасший пыл стариков». Рубенс в свою очередь обнадежил его, сказав, что и вправду намерен изобразить «galanteria», «волокитство»[425]. Таким образом, картины, якобы задуманные в качестве укора развратным старцам, использовались как некое подобие афродизиака, чтобы оживить их угасшее влечение. «Сусанны», на первый взгляд призванные осудить вуайеризм, превращали созерцателя в соучастника-вуайериста. Неудивительно, что такой воинствующий борец с непристойными изображениями, как Дирк Рафаэлс Кампхёйзен, в своем переводе на голландский латинского стихотворения проповедника Гестерана, где тот гневно обрушивался на искусство живописи, выбрал целью своей яростной атаки «Сусанн», «истинное бедствие для добродетели и пагубу для взора»[426]. Сколь малое воздействие этот праведный гнев возымел на вкусы общества, свидетельствует стихотворение ван Вондела, посвященное «итальянской картине, изображающей Сусанну»: оно начинается и заканчивается, как положено, яростными инвективами, однако в середине детально описывает вполне ощутимый эффект возбуждения, вызванного созерцанием сладострастного полотна: «Блажен тот, кто может напечатлеть поцелуй на такие уста, / узреть эти плечи и шею, эти руки, оживший алебастр…»[427]
Рембрандт ван Рейн. Купание Дианы с историями Актеона и Каллисто. 1634. Холст, масло. 73,5 93,5 см. Музей Вассербург, Анхольт, Иссельбург
Рембрандт снова прибегает к тому же приему, что и Рубенс, однако отказывается выставлять свою Сусанну напоказ жадным взорам. Сусанна у него не просто приседает на корточки (такую позу Рубенс заимствовал у античной Венеры, которую видел в Риме, в такой позе изображал своих героинь Ластман), но сильно наклоняется вперед, охваченная внезапной паникой. Напоминающие сатиров старцы, укрывшиеся в кустах, почти неразличимы и потому не в силах выполнить отводимую им роль и принять на себя нашу вину, вместо нас превратившись в вуайеристов. Они почти невидимы, поэтому мы ощущаем неловкость. У нас появляется неуютное чувство, будто мы – зрители, за которыми наблюдают[428].
Нет никаких оснований полагать, что Рембрандт был более высоконравственным человеком, чем Рубенс, Ластман или многочисленные авторы третьеразрядных «Сусанн». «Красочные» образы женщин, которые мочатся в полях или совокупляются с монахами, едва ли свидетельствуют о телесной стыдливости, столь остро ощущаемой чопорными кальвинистами. Однако Рембрандт неизменно стремился усложнить любую банальную условность. Если он и не был тем «еретиком», каким его впоследствии хотело видеть академическое искусствоведение, то совершенно точно был нарушителем спокойствия, готовым переосмыслить и переиначить любые повторяемые из века в век клише. Вместо привычной игры старательно залучаемых и непрошеных взглядов Рембрандт ставит себе целью изобразить трагическое смущение. Он должен был запечатлеть этот сюжет, он просто не мог противиться искушению.
Поэтому его Сусанна – это не сексуальный объект, замаскированный под героиню драмы. Это тело, попавшее в беду. Подобно тому как Рембрандт писал сияюще-белоснежные простыни Данаи, чтобы передать физическое ощущение возлежащего на них теплого тела, здесь он тщательно воспроизводит фактуру драпировок и одеяний не только для того, чтобы созерцателю было на чем покоить взор, но и для того, чтобы подчеркнуть живописные элементы, играющие наиболее важную роль в визуальном нарративе. Контуры левой руки, которой Сусанна тщетно пытается прикрыть нагую грудь, повторяются в очертаниях пустого рукава ее брошенной рубашки. В апокрифах недвусмысленно говорится, что первоначально старцы возжелали Сусанну, увидев, как она, одетая, бродит по саду, поэтому Рембрандт показывает ее платье на первом плане, одновременно приводя на память образы облаченной в роскошные одеяния и нагой Сусанны. Драпировка обвивается вокруг ее обнаженного тела, описывая некую сложную траекторию: проходит под ее лядвеей, окутывает бедра и поднимается к паху, и мы ощущаем, как она льнет к ее телу. А наш жадный, рассеянный ум, ведомый лукавым художником, с готовностью устремляется к мигу, когда она лишь начала совлекать с себя одежды, когда ее домогался лишь взор созерцателя. Как будто одного этого недостаточно, Рембрандт добавил два браслета и ожерелье, усиливая впечатление от предметов, прильнувших к ее коже; впоследствии он даст такие же украшения Данае. Старцы остаются в тени, и потому взор Сусанны обращен к нам, вторгшимся в ее заповедное пространство, нарушившим ее уединение, словно под ногами у нас хрустнула ветка. Реакцией на этот внезапный шум, предупреждающий об опасности, становится язык сексуальной паники, с его некоординированными, судорожными движениями. И тут, вооружившись сборником эмблем, входит специалист по иконографии и объявляет, что существует несомненная, хорошо известная современникам Рембрандта эротическая аналогия между надеванием туфли и сексуальным актом. Однако Рембрандт – последний, кто стал бы использовать эмблемы механически. От него скорее можно было ожидать, что он напишет перевернутую туфлю и Сусанну, безуспешно пытающуюся ее надеть, и это неловкое движение можно будет истолковать как жест невинности, а нога, тщащаяся попасть в отверстие туфельки, послужит укором сладострастному взору.
Рембрандт ван Рейн. Сусанна и старцы. Ок. 1634. Дерево, масло. 47,2 38,6 см. Маурицхёйс, Гаага
Привлекательность, которой обладала в глазах Рембрандта нагота и порождаемые ею смущение и шантаж, заметна не только в «Сусанне». Столь же оригинальный, тревожный и волнующий офорт «Иосиф и жена Потифара», также созданный в 1634 году, в первый год его брака, – своеобразная противоположность сюжету из апокрифов, ведь на сей раз инструментом сексуального приуждения выступает женское тело, а жертвой предстает вполне одетый мужчина. Супруга хозяина, домогательствам которой, подобно Сусанне, не уступил Иосиф, из мести обвиняет его в том самом преступлении, которому он столь добродетельно воспротивился. В целом композиция основана на гравюре Антонио Темпесты, однако совершенно лишена идеализирующего классицизма, свойственного куда более традиционному оригиналу. На офорте Рембрандта запечатлена отчаянная борьба, происходящая на двух уровнях. Первая схватка разгорается между животной чувственностью жены Потифара, извернувшейся всем своим грузным телом, словно сатанинский эдемский змей, и добродетелью Иосифа, слуги ее мужа. Однако, следуя самому знаменитому в то время пересказу этой ветхозаветной истории, предложенному в поэме Якоба Катса «Борьба с самим собой» («Self-stryt»), Рембрандт усложнил сюжет, изобразив еще одну, внутреннюю, борьбу, происходящую в душе Иосифа[429]. Рот его странно, бессильно приоткрыт, глаза кажутся двумя черными узкими щелками, в них читается одновременно и возбуждение, и отвращение к себе. Поддаться или не поддаться соблазну?
Рембрандт ван Рейн. Иосиф и жена Потифара. 1634. Офорт. Коллекция Харви Д. Паркера, Музей изящных искусств, Бостон. Воспроизводится с разрешения музея
Ни от одного голландца XVII века не мог ускользнуть эротический облик чудовищного фаллического столбика кровати. А учитывая, что бедра женщины конвульсивно изогнулись, а в кулаке она судорожно сжимает край одеяния Иосифа, едва ли им требовались дополнительные детали, вроде ночного горшка под кроватью, чтобы убедиться в ее похотливости. Тело жены Потифара предстает не просто грузным, как у «Дианы» или «Женщины, сидящей на холмике»: оно кажется уродливо искаженным, словно слепленным из одних только хрящей, вместилищем некоего жуткого демона. Воздев руки, отбрасывающие глубокие тени, Иосиф защищается от зрелища ее бритого лобка под пухлым животом, который она бесстыдно ему предлагает. Однако от нас, бедных грешников, не укрывается ничто.