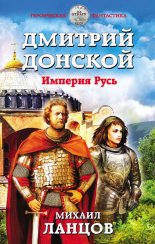Глаза Рембрандта Шама Саймон
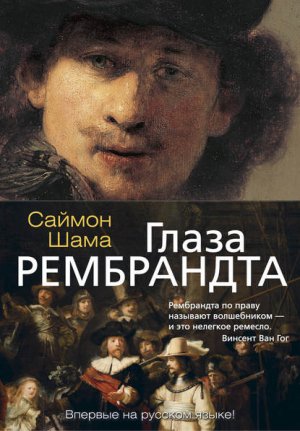
Рембрандт ван Рейн. Купающаяся Хендрикье. 1655. Дерево, масло. 61,8 47 см. Национальная галерея, Лондон
Однако купающаяся Хендрикье не смотрит на Рембрандта. Он восхищается ею явно не потому, что может обладать ею, у него вызывает восторг ее самообладание; наблюдая за ней украдкой, он застает ее полностью погруженной в себя. Интерпретации, основанные на буквальном прочтении картины как конкретного эпизода совместной их жизни, склоняются к тому, что Хендрикье пробует воду или, скорее, дно, боясь оступиться. Возможно, Рембрандт действительно хотел внести нотки осторожности в восхитительно неосторожный по своей природе акт творчества. Впрочем, более вероятно, что Хендрикье с едва заметной улыбкой, чуть тронувшей ее губы, глядит на отражение собственного тела в зеркальной водной глади и что ей дано увидеть его сокровенные глубины, таимые подчеркнутой кромешно-черной тенью за краем ее рубашки. Наиболее хитроумно выстроенный фрагмент картины – тот, где прямо над уровнем воды виднеются икры Хендрикье, окруженные разбегающейся, почти неразличимой рябью, где эта дрожь водной поверхности передана тонкими штрихами однородных свинцовых белил и где отражения ее ног написаны прозрачными мазками охры и красной земли.
Рембрандт ван Рейн. Купающаяся Хендрикье (фрагмент)
Вся картина производит впечатление удивительно непринужденного синтеза твердых, прочных форм и создающей их живописной манеры, быстрой, плавной и прозрачной. Кажется, что этот небольшой шедевр написан стремительно, для его насыщенной имприматуры выбран теплый желтовато-коричневый тон, различимый по нижнему краю рубашки, а вдоль выреза, в глубине правого рукава и в столь важных тенях на локте, на бедре и под подбородком виднеется подмалевок, выполненный углем. Затем Рембрандт наложил верхний слой краски густыми, плотными мазками, часто в технике алла прима; раз за разом он глубоко окунал кисть в свинцовые белила, добавив чуть-чуть черного или охры там, где хотел подчеркнуть ниспадающие складки рубашки, которые повторяют очертания шеи и груди, освещенные и едва намеченные слева, прочерченные широкими темными линиями справа. На картине можно заметить множество точных и трогательных деталей: длинный локон, прильнувший к ее шее, слегка отливающий маслянистым блеском лоб, крошечный блик света на ее правом верхнем веке. Есть и фрагменты, по которым Рембрандт, судя по всему, прошелся как ураган: это белое пятно на ее рукаве и прежде всего ее правая рука, написанная сухой кистью, оставившей на доске густой слой краски, настолько свободными, широкими мазками, что многие поколения ценителей живописи предполагали, будто картина в этих местах повреждена.
Достаточно взглянуть на знаменитые руки персонажа на «Портрете Яна Сикса», написанном Рембрандтом годом ранее, чтобы убедиться в обратном. Ведь в обеих картинах, может быть особенно в «Купающейся Хендрикье», Рембрандт начинает делать что-то поразительное и трогательное в своей оригинальности. Он изобретает «антипозу», сознательно разлагая на элементы целостное, создающее иллюзию единства изображение, не скрывая, а скорее обнаруживая присутствие творящей руки художника. Более того, он прибегает к такой технике именно в тот период, когда его современники, включая вернувшегося в Амстердам и наконец-то добившегося процветания Яна Ливенса, а также его бывших учеников, например Бола и Флинка, используют все более и более утонченные приемы и тяготеют к плавной, гладкой, «лаковой» манере письма, словно растворяя руку художника в изображении, будь то портрет или историческое полотно.
Иными словами, в моду входили пышность, изобилие и фотографически точная «объективность»: отчетливая линия, яркий свет, гладкая отделка. Рембрандт же все более тяготел к эскизной и незавершенной, размытой, прерывистой линии, мерцающему свету и откровенно не оконченной, на взгляд зрителя, отделке. Разумеется, поздний Тициан также вызывал восторг тем равнодушием, которое испытывал к плавному, «лаковому» стилю, предпочитая в конце жизни нарочито неровную манеру. Однако стиль позднего Рембрандта, предвосхищаемый тем расплывчатым «пятном», которым он награждает Хендрикье вместо левой кисти, имеет мало или совсем ничего общего с воздушной, туманной и лирической атмосферой венецианского мастера, хотя Рембрандт и восхищался им, возможно, вплоть до обожания. Рембрандтовы вязкие кляксы и легкие мазки, «тычки» кистью, жертвующие четко очерченной формой ради некоей разновидности барочного акционизма, в энергичной, кспрессивной манере намеренно подчеркивающей взмах руки художника или движение его кисти, решительно ничем не обязаны никаким «правилам искусства» и никакому предшественнику. Не был поздний стиль Рембрандта и извращенно старомодным, как полагают некоторые искусствоведы, что любопытно, никогда не указывающие, какому именно художнику или направлению прошлого Рембрандт якобы подражал. Несомненно, Рембрандт интересовался Античностью, древностями и руинами, но это вовсе не означает, что его собственной манере свойственна сентиментальная ностальгия по прошлому. Предположить, будто Рембрандт все заимствовал у почтенных предшественников, могут только ученые мудрецы, тяготеющие к безумным и замысловатым гипотезам, выдуманным исключительно ради сенсационности. На самом деле истина куда проще. Ее интуитивно ощущали целые поколения восхищенных поклонников, и заключается она в том, что эксперименты Рембрандта с красками были в самом глубоком смысле этого слова бунтарскими, инстинктивными и свободными, то есть творческими.
Рембрандт ван Рейн. Сидящая обнаженная. 1658. Офорт. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк
Рембрандт ван Рейн. Сидящая обнаженная в чепце. 1658. Офорт. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк
Рембрандт ван Рейн. Полуобнаженная женщина, сидящая у печи. 1658. Офорт. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк
Переживая некий внутренний перелом, Рембрандт обратился не только, как считает большинство искусствоведов, к философским и духовным исканиям, а к материальной и понятийной природе сотворения предмета искусства и вступил в область, о которой его современники даже не подозревали и куда тем более не пытались проникнуть. Например, ни одному художнику до Курбе и Дега не приходило в голову сделать сюжетом картины само позирование обнаженной натурщицы. В цикле удивительных офортов, выполненных во второй половине 1650-х годов, Рембрандт изобразил своих моделей не в процессе превращения в нимф или богинь и не обнажившимися, чтобы доставить эротическое наслаждение лицемерному зрителю, а посадив их возле «теплых печек», которые описывает Хогстратен в своих мемуарах о пребывании в мастерской Рембрандта. Рембрандт зарисовал позирующих ему натурщиц именно в той обстановке, в какой они находились в момент сеанса, и вовсе не для того, чтобы запечатлеть бытовую картинку. Он создавал новый жанр, персонажи которого напоминали образы «кружевниц» или «прях». Как это ни парадоксально, показывая своих героинь полуобнаженными, еще не снявшими чепца и не спустившими юбок, и озябшими, Рембрандт совершенно сознательно освобождает их из-под власти искусства, готового превратить их тела в свою собственность, объект репрезентации. Вместо того чтобы сделать их пассивным предметом, преображающимся в процессе великой творческой метаморфозы, как, например, служанка по имени Трейн – в богиню Диану, Рембрандт возвращает своим натурщицам их телесную реальность, дает зрителю понять, что они озябли и покрылись мурашками, несмотря на близость теплой печки, что у них затекли руки от неудобного положения. Почти все натурщицы повторяют позу Вирсавии, словно пришли на репетицию в надежде получить эту роль. Взятые вместе, офорты не просто обнажают неидеализированные тела моделей, но и приоткрывают завесу над творческим видением Рембрандта, усложняющимся и совершенствующимся по мере того, как он ощупью прокладывает путь от гравюры к картине. Однако в конечном счете он одержим не сходством амстердамской плоти и библейской героини, а их очевидным различием.
Рембрандт ван Рейн. Хендрикье в мастерской художника. Ок. 1654. Бумага, перо, кисть светло– и темно-коричневым тоном, белила. Музей Эшмола, Оксфорд
Именно это нежелание Рембрандта видеть в них предметы искусства столь раздражало и смущало многих критиков на протяжении XVII–XX веков. Так, Кеннет Кларк, говоря о плотной, приземистой женщине, которая на офорте 1658 года опустила ноги в пруд или в реку, употребляет выражение «готическая нескладность старого тела», ведь она совершенно не напоминает традиционную ренессансную или античную обнаженную[590]. Гипотеза Кларка, согласно которой Рембрандт запечатлел «упрямую, словно старая лодка, несокрушимую форму»[591], больше говорит о его собственной брезгливости или о хорошем знакомстве с различными образцами плавучих средств, чем с неидеализированным нагим телом, ведь изображенная на офорте совершенно не похожа на престарелую матрону, которую, по мнению Кларка, Рембрандт делает объектом сострадания или нескромного любопытства. Предполагается, что Старый Мастер не имеет права давать образцы для подражания таким, как Фрэнсис Бэкон или Люсьен Фрейд.
Но дело просто в том, что Рембрандт не может и не стремится разделять царство высокого искусства и низменную сферу физической, ощущаемой кончиками пальцев жизни, как того требуют своды художественных правил. Полунагая женщина, разбросавшая вокруг себя снятые одежды, не может считаться обнаженной, а значит, ее изображение в этом временном, переходном состоянии поневоле должно смущать или казаться непристойным. Однако Рембрандт умел не просто непрерывно пересекать границу между искусством и повседневной жизнью, но и сделать из этого «странствия» восхитительно насыщенный смыслами сюжет, как свидетельствует чудесный рисунок, хранящийся в оксфордском Музее Эшмола. На нем запечатлена мастерская художника на первом этаже его дома, а сам он представлен своим непременным атрибутом – высоким мольбертом, помещенным слева. Комната почти полностью погружена в тень, свет струится лишь из верхней части окна, занавес на нем поднят и закручен на карниз. Свет падает почти исключительно на голову и обнаженную спину модели, Хендрикье, хотя его маленький лучик играет на ее коленях и на краю стопок бумаги – рабочего материала Рембрандта, разложенной там и сям в комнате. Но Хендрикье, как она показана на рисунке, – не просто объект созерцания для художника. Многое в комнате напоминает о ее физическом присутствии. Нижняя часть ставен затворена, чтобы создать более направленный источник света, но, возможно, и для того, чтобы скрыть ее от любопытных глаз. Она сидит у камина, чтобы не замерзнуть, и ее поза: склоненная спина, широкие плечи, чепец на голове, спущенная до талии рубашка, неснятая юбка, рука, схватившаяся за край стула, – свидетельствует, что перед нами не столько натурщица, сколько женщина. Не просто женщина, но мать. Ведь Рембрандт, удивительным образом демонстрируя нерасторжимую связь жизни и искусства, одним и тем же тростниковым пером обводит два предмета, помещенные на столе: это слегка приподнятая и выпуклая крышка ящика для рисовальных и гравировальных принадлежностей слева и маленькая колыбелька с откинутым пологом справа, совсем крохотная, подходящая лишь для новорожденного младенца, то есть для дочери Рембрандта и Хендрикье Корнелии, только что появившейся на свет. Значит, Хендрикье спустила рубашку и для того, чтобы стать одновременно матерью и натурщицей, кормить дочь грудью и позировать. В этой маленькой комнатке текут не только чернила, но и молоко.
Можно ли представить себе другого художника XVII века, который бы изобразил самую теплую и сокровенную семейную сцену в интерьере собственной мастерской? Бернини? Веласкеса? Вермеера? Ван Дейка? Гверчино? Гвидо Рени? Пуссена? Впрочем, одно исключение, пожалуй, все-таки есть, если вспомнить голенькую младенческую попку на коленях у матери. И написал его бесконечно привязанный к жене плодовитый отец семейства Рубенс.
Глава одиннадцатая
Цена живописи
В конце 1640-х годов Филипс Конинк, одаренный, слегка чудаковатый пейзажист, стал писать панорамные ландшафты, деля холсты пополам на равные горизонтальные доли земли и неба. Конинк женился на сестре одного из учеников Рембрандта, Абрахама Фюрнериуса, и, хотя сам он никогда не числился в мастерской Рембрандта, его явно поразили такие гравюры Рембрандта, как «Поместье взвешивателя золота», на которой взору созерцателя представало широкое пространство, испещренное полосами света и тени. Впечатлительный и целеустремленный, Филипс Конинк начал писать в такой манере и оставался верен ей на протяжении следующих десяти лет, а почти все его панорамы, созданные в это время, кажутся сшитыми из узких лент тьмы и блеска, размещенных на холсте. Его пейзажи имели успех и, во всяком случае, принесли ему достаточный доход, позволивший приобрести и возглавить судоходную компанию, барки которой курсировали между Амстердамом и Роттердамом, по пути заходя в Лейден; иными словами, его лодки двигались по его пейзажам. Сельская Голландия, запечатленная на полотнах Конинка, с узкими, точно проложенная колея, параллельными рядами польдеров, выглядит одновременно знакомой и фантастической, провинциальной и грандиозной, именно такой, каким хотел видеть свое отечество, «vaderland», голландский патрициат в середине века. В 1657 году Конинк женился снова, на женщине по имени Маргарита ван Рейн.
В конце сороковых – начале пятидесятых годов XVII века в голландской истории столь же неумолимо чередовались мгновения блеска и мрака. В Мюнстере наконец был подписан мирный договор между Испанией и Голландской республикой, положивший конец конфликту, который длился восемьдесят лет, а начался разрушением образов в Антверпенском соборе в 1566 году. Если бы Рубенс дожил до этого заключения мира, представлявшегося ему столь желанным, то был бы одновременно обрадован и огорчен его условиями. Фламандские художники наконец-то смогли свободно пересекать границу, а некоторые из них, например Якоб Йорданс и Арт Квеллин, быстро получили важные заказы в Голландской республике. Однако Мюнстерский договор также похоронил мечты Рубенса о повторном объединении всех прежних семнадцати провинций Нидерландов. Культурная граница между северными и южными территориями, и всегда-то проницаемая, ныне буквально растворилась. Но политическая и военная границы сохранились. Католический юг и протестантский север окончательно обрели облик совершенно разных государств, во многих отношениях непримиримых. А когда в 1815 году была предпринята попытка объединить их в одно Королевство Нидерландов со столицей в Брюсселе и под властью принцев Оранских, этот союз просуществовал всего пятнадцать лет.
Однако в 1648 году жители Амстердама ликовали. Заключение мира праздновали пирами и парадами, фейерверками, показательными стрельбами и барабанной дробью. На площади Дам был заложен фундамент новой ратуши из белого бентхаймского песчаника, поскольку прежнее здание в готическом стиле стало казаться устаревшим и нелепым для города, притязавшего на имя нового Тира. Во влажную землю забили первую партию деревянных свай, упрочив основание будущей ратуши. Впоследствии количество свай вырастет до тринадцати тысяч пятисот. Найдется ли на свете хоть что-то, что было бы не по силам Амстердаму? Есть ли хоть одно место, куда не доплывут его корабли? Существует ли в мире хоть что-нибудь, чего не могут предложить амстердамские рынки? В том же 1648 году Бартоломеус ван дер Хелст, наиболее востребованный амстердамский автор групповых портретов, написал огромную картину, на которой запечатлел не менее двадцати пяти арбалетчиков из роты городской милиции, пирующих в своем зале собраний 18 июня. Они осушают бокалы и наслаждаются, торжествуя мимолетный триумф, их лица раскраснелись от вина и победного самодовольства. Сверкающую серебряную посуду украшают виноградные листья; прапорщик, изображенный в центре, развязно облокотился на стол. Справа от него капитан Корнелис Витсен, в шляпе с пышными перьями, принимает прочувствованные поздравления от своего лейтенанта. Витсен, которому предстоит сыграть немаловажную роль в печальной судьбе Рембрандта, самодовольно сияет, сжимая дюжей рукой ножку внушительного гильдейского серебряного рога для питья, на котором изображен небесный покровитель роты святой Георгий. Впоследствии один писатель в весьма нелестной эпитафии назовет Витсена «джентльменом, излишне приверженным виноградной лозе»[592]. И в самом деле, вид у него такой, словно он боится выплеснуть из рога хоть каплю.
Филипс Конинк. Обширный пейзаж с соколиной охотой. Ок. 1650. Холст, масло. 132,5 160,5 см. Национальная галерея, Лондон
Летом 1648 года многим действительно показалось, будто Амстердам наконец усмирил грозных драконов, чужеземных и местных. Заключения мира добился не какой-нибудь посланник штатгальтера, а полномочные представители Генеральных штатов, где преобладали делегаты провинции Голландия, и потому патриции – правители Амстердама решили отказаться от большой и требующей немалых расходов постоянной армии, на сохранении которой настаивали принцы Оранские. В Амстердаме такое войско казалось тем более ненужным, что теперь оно состояло преимущественно из иностранных наемников. Жители Амстердама полагали, что могут опустить пики и мушкеты. Еще при жизни Фредерика-Хендрика нежелание Голландии давать деньги на содержание армии заставило штатгальтера сократить ее численность и одновременно ослабило его власть. Потому-то принц и умер в негодовании, завещав эту опасную раздражительность сыну Вильгельму II, унаследовавшему титул в возрасте всего двадцати одного года. Сыну недоставало прагматизма отца. Упрямый и вспыльчивый, Вильгельм не забывал, какая судьба постигла его тестя Карла I Английского, и решил, что должен нанести противникам упреждающий удар. Он стал грозить Голландии, и в особенности Амстердаму, всевозможными карами, если они и далее будут преследовать политику демобилизации. Когда те в ответ отказались переслать деньги, из которых выплачивалось довольствие солдатам, Вильгельм перешел от угроз к действиям. В 1650 году он повелел взять под стражу и заключить в темницу некоторых наиболее ярых своих противников. Своему родственнику Вильгельму-Фредерику Нассаускому, штатгальтеру Фрисландии, он приказал тайно двинуть войско на Амстердам. Внезапно небеса, столь ясные в 1648 году, затянулись мрачными тучами. Патрициев охватил трепет. Кальвинистские проповедники, неизменно поддерживавшие принцев Оранских, провозглашали, что это Господь наказывает голландцев за то, что те не довели до конца справедливый Крестовый поход против испанского антихриста.
Рембрандт ван Рейн (?). Вид военного лагеря. Ок. 1655. Бумага, тростниковое перо темно-коричневым тоном, кисть серо-коричневым тоном. Британский музей, Лондон
Однако у Иеговы оказалось язвительное чувство юмора. Ночью накануне нападения, назначенного на раннее утро 30 июля, конница Вильгельма-Фредерика заблудилась в тумане где-то на вересковых пустошах в местности Хой. Целый отряд верховых и мушкетеров в доспехах, бестолково топтавшихся в зарослях папоротника, случайно заметил нарочный, доставлявший почту из Гамбурга в Амстердам: он немедля поскакал предупредить горожан и поднял тревогу. Городские ворота тотчас заперли, на бастионы подняли орудия, а городские власти приготовились к осаде. Однако, прежде чем пролилась кровь, сторонам удалось достичь соглашения. Пришлось пожертвовать Андрисом Бикером, с 1620-х годов десять раз избиравшимся бургомистром, а также его братом Корнелисом (их сместили с высоких постов); кроме того, принцу выдали деньги на содержание милиции. Место изгнанной «Лиги Бикеров» заняли люди, многие из которых в свое время заказывали Рембрандту картины: Николас Тульп, Франс Баннинг Кок, Йохан Хёйдекопер ван Марссевен и не в последнюю очередь братья де Графф. Впрочем, едва ли они впредь станут обращаться к художнику. А памятуя о тех восьми тысячах гульденов, которые ему еще предстояло выплатить за дом, Рембрандт, возможно, начинал жалеть о своей размолвке с Андрисом де Граффом.
Новые правители Амстердама радели о его интересах нисколько не меньше, чем лишенные должностей Бикеры. Их приход к власти был тотчас благословлен несчастьем, которое постигло Оранский дом. В ноябре 1650 года Вильгельм II умер от оспы, оставив свою супругу Марию-Генриетту Стюарт беременной будущим Вильгельмом III, коорому суждено было родиться спустя восемь дней, и обрекая династию на неопределенное положение. В Амстердаме никто особо не горевал. Один местный остроумец положил в церковный ящик для подаяний золотую монету, обернув ее в лист с виршами собственного сочинения:
- Принц отдал душу Богу.
- На сирых и убогих я пожертвовал много, —
- Сколь радостны вести,
- Что пришли вместе.
Чтобы заполнить вакуум власти, было созвано Великое собрание, в котором преобладали представители Голландии и которое возглавлял великий пенсионарий Ян де Витт; его отца среди прочих в свое время заключил в тюрьму Вильгельм II. Собрание подтвердило, что полнота власти находится только в руках семи провинций, а пост штатгальтера во всех провинциях, кроме Фрисландии, остается вакантным на неопределенный срок.
Таким образом, начало «эпохи без штатгальтера» было ознаменовано в республике Соединенных провинций внезапными перипетиями, попытками государственных переворотов и ответными ударами. Хотя целые поколения посетителей музеев рассматривали на голландских картинах служанок, складывающих туго накрахмаленное белье, тучных коров, лениво пасущихся на ярко-зеленых лугах, довольных бюргеров, отдыхающих от трудов на окаймленном дюнами морском берегу или прогуливающихся между колосящимися нивами, и полагали, что Голландия середины XVII века была чем-то вроде совершенной буржуазной идиллии, реальность в 1650-е годы выглядела далеко не безмятежной. Едва удалось замирить старого врага, Испанию, как не замедлили появиться новые. В 1651 году английский парламент принял Навигационный акт, целью которого было лишить Голландию ее первенствующей роли в посреднической морской торговле. Отныне надлежало ввозить в Англию сельдь, макрель и треску только на английских судах. Другие грузы следовало доставлять в английские порты либо на судах, приписанных к порту отправления, либо опять-таки на английских. Чтобы ни у кого не возникло сомнений в серьезности их намерений, английские военные корабли начали нападать на голландские суда. Достаточно было «голландцу» не отсалютовать по всем правилам британским военным кораблям в «британских морях», как его захватывали или топили. В 1651 году английские военные корабли захватили сто сорок голландских торговых судов[593]. Но у парламента были и другие основания для агрессии, скорее политического свойства. В Голландии жили в изгнании вдова и дети Карла I. Обезглавив короля, Кромвель потребовал от Генеральных штатов гарантий, что они не только не предоставят никакой поддержки Стюартам, жаждущим реставрации в Англии, но даже не позволят сделаться штатгальтером ни одному принцу Оранского дома, связанному узами брака со свергнутой английской династией и тем самым являющемуся потенциальным претендентом на британский трон. Кромвель зашел столь далеко, что предложил было голландцам политический союз, некое невероятное подобие Протестантской лиги, охватывающей разделенные морем страны.
Впрочем, Генеральные штаты быстро поняли, что предложение британцев есть подобие вежливого шантажа. Откажитесь от своей политической независимости, и мы оставим в покое ваши корабли. Голландцы осознавали, что на кону принцип «mare liberum» – свободного моря, неограниченных плаваний, неограниченной перевозки грузов, – на котором основано все их национальное благосостояние. Когда у них потребовали поступиться этой свободой, Генеральные штаты выбрали войну. По большей части им пришлось терпеть поражения. Голландские флоты воевали мужественно, однако были слишком рассредоточены, чтобы их орудия могли нанести серьезный урон мощным английским военным кораблям. На протяжении всего 1652 года голландцы беспомощно смотрели (иногда в буквальном смысле слова с берега), как их военно-морской флот сметали огнем, как крупные военные корабли обстреливали, испещряли пробоинами, лишали мачт, топили. В решающей битве при Схевенингене погибли адмирал Мартен Тромп и четыре тысячи моряков, а одиннадцать боевых кораблей были потоплены или захвачены врагами. Жизненно важные коммуникации и пути снабжения, от которых зависело процветание Голландии, оказались перерезаны, точно вены, и страна стала истекать деньгами. Многие инвесторы в торговых синдикатах почувствовали, что их прижали к стенке. В стране воцарился невиданный экономический спад. Власти ввели дополнительные налоги, чтобы собрать деньги на восстановление основательно потрепанного в боях флота. Сильно подорожали масло, хлеб и пиво. По многим голландским городам, от Дордрехта на юге до Энкхёйзена на севере, прокатились бунты. Заслышав зловещий шум, патриции закрывали ставни или отправлялись в пригородные имения.
Какое-то время голландцы получали только неутешительные вести. В 1653 году благодаря согласованному контрнаступлению голландского флота удалось переломить ход войны, отбив у англичан столько же судов, сколько было потеряно прежде. Но, даже подписав Вестминстерский мирный договор и положив конец морской войне с Англией, голландцы продолжали нести потери иного рода. Бразилия, в свое время захваченная голландцами у португальской короны и обещавшая Вест-Индской компании великие богатства, снова отошла Португалии, когда оттуда отозвали Иоганна-Морица Оранского и его войска. В том же 1654 году чудовищный взрыв порохового склада в Дельфте разрушил всю северо-восточную часть города и в том числе унес жизнь самого талантливого из учеников Рембрандта, Карела Фабрициуса. И, словно бич Божий оставил на спине республики недостаточно рубцов, в середине 1650-х годов на голландские города с почти невиданной прежде яростью обрушилась эпидемия чумы. Родина Рембрандта Лейден потерял за какой-то год четверть населения, а умерший в 1652 году старший брат художника Адриан, возможно, стал одной из жертв этого морового поветрия. В Амстердаме на кладбище картезианского монастыря Картхёйзеркеркхоф рыли все новые и новые могилы для бедных, пока совсем не осталось места, и тогда телеги, нагруженные телами, стали с грохотом выезжать за пределы погоста и Чумного госпиталя в деревни вдоль Амстела и береговой линии бухты Эй.
Именно в эти скорбные времена живописная манера Рембрандта стала более созерцательной, изображение на его картинах, будь то портреты или исторические полотна, утрачивает напряженную физическую энергию и обретает философски метафизическую. Разумеется, не стоит думать, будто его выбор сюжета и стиля примитивно отражает мрак, воцарившийся в стране в начале 1650-х годов. Не исключено, что его стали беспокоить бытовые неурядицы, когда в 1651 году прорвало дамбу Святого Антония, расположенную неподалеку от его собственного дома, и вода хлынула в деревни, находившиеся ниже по течению. Саму Брестрат несчастье пощадило, однако уровень воды в шлюзе Святого Антония в конце улицы повысился, и она, возможно, подмыла фундамент некоторых домов, что и без того часто случалось в пропитанной влагой голландской подпочве. Один из пострадавших домов принадлежал соседу Рембрандта, португальскому еврею Даниэлю Пинту, который торговал с Левантом и купил этот дом у Николаса Элиаса Пикеноя в 1645 году. Чтобы устранить ущерб, Пинту пришлось поднять основание, а поскольку у Рембрандта была с ним общая стена, дому художника тоже потребовалась перестройка[594]. Ремонтные работы, которые обошлись в тридцать три гульдена и бочонок пива, как это обычно бывает, продлились значительно дольше, чем предполагали Пинту и Рембрандт. Стуку молотков и грохоту, казалось, конца не будет. Нервы не выдерживали[595]. Рембрандт и Пинту договорились платить за древесину по отдельности, но в конце концов рассорились с поставщиками и друг с другом, а Пинту даже обратился в суд с жалобой на то, что ему-де предъявили счет за Рембрандтовы бревна[596]. Не только стены, но и вещи в комнатах покрывал слой грязи и пыли. За первые девять месяцев 1653 года Рембрандт не написал ни одной картины и всего одну – за три последних.
Однако сидеть на мели в такое время не стоило. Бывший хозяин дома Христоффел Тейс стал требовать выплаты оставшейся части долга, восьми тысяч гульденов. Рембрандт уже давно просрочил очередную передачу денег. В 1651 году он попытался умилостивить Тейса, выполнив для него один из лучших и наиболее изысканных пейзажных офортов в своей карьере – изображение загородного дома Тейса «Саксенбург». А пока его собственный дом не начал разрушаться в переносном и буквальном смысле, он изо всех сил старался выбраться из долгов, создавая новые и новые картины. Он явно обсуждал с Тейсом свое печальное положение. На обороте рисунка пером и сепией, где запечатлены две женщины и маленький ребенок, которому старшая сестра помогает сделать первые неуверенные шаги, он написал себе памятку для следующей встречи с Тейсом: «…узнать, будет ли наше дело рассматривать арбитражный суд, как предполагалось ранее, а у Тейса – не хочет ли он, чтобы я закончил одну из двух картин… или они ему не нужны»[597].
Поэтому, когда смолк стук молотков, Рембрандт вовсе не стал безмятежно почивать по ночам в своей постели, сколь ни утешало его теплое тело Хендрикье. Даже если его и не мучила совесть из-за того, как он обошелся с Гертье Диркс, его все же беспокоил нерешенный исход дела. Слишком много людей было посвящено в обстоятельства его поступка, и отнюдь не от всех можно было откупиться. Если бы он мог быть уверен, что найдет новых состоятельных заказчиков, ему улыбнулась бы удача. Однако в начале 1650-х годов было совершенно не очевидно, что богатые покровители станут осаждать его дом, наперебой заказывая картины. Сколь бы радостно ни восприняли офицеры ополчения картину с изображением роты Франса Баннинга Кока, Рембрандта не оказалось в числе художников, которым было предложено написать огромного формата памятные групповые портреты, призванные увековечить Мюнстерский мир, и ценители искусства не могли не заметить этот факт. Более того, следующий групповой портрет – «Урок анатомии доктора Яна Деймана» – ему закажут лишь в 1656 году. Снедаемый тревогой, Рембрандт, видимо, горько раскаивался в своей размолвке с Андрисом де Граффом, ведь представители самой могущественной фракции в городском совете недвусмысленно давали понять, что предпочитают Рембрандту Флинка. Рембрандт застыл на распутье и не знал, куда двигаться.
Рембрандт ван Рейн. Поместье взвешивателя золота. 1651. Офорт. Кабинет гравюр, Рейксмюзеум, Амстердам. Дом Тейса, «Саксенбург», изображен в центре, на среднем плане
Он выбрал далеко не самый очевидный вариант. По мере того как будущее заволакивали все более мрачные тучи, Рембрандт с новыми силами предавался экспериментам, даже рискуя собственной популярностью. В наиболее изысканных и утонченных слоях патрицианского общества распространилось мнение, что Рембрандт, с его «шероховатой», «неотшлифованной» живописной манерой, а тем более с его бесцеремонным отношением к сексу и деньгам, не лучший выбор. Создатели натюрмортов, пейзажисты, портретисты все более тяготели к разноцветной палитре, яркому освещению и плавным, явственно обозначенным контурам, а в то время как авторы картин на исторические сюжеты все более осознанно воспроизводили античные образцы с четкими очертаниями и словно выточенными резцом формами, Рембрандт склонялся к некоей версии скупого в своих средствах живописного эссенциализма, не обремененного ни нравоучительностью, ни лишними приметами местного колорита. Ясность поверхностного изображения в его глазах была куда менее важной, чем выразительность, достигаемая посредством манипуляций с красками. Со времен «Ночного дозора» Рембрандт решил, что не «плавная и гладкая», а «грубая» манера скорее вовлечет зрителя в активное осознание произведения искусства и что созерцатель будет не просто взирать на подобную картину, а «довершит» ее в своем воображении. Возможно, «conterfeitsel», портрет девочки, который он написал в 1654 году для португальского еврея, купца Диего д’Андраде, и который тот отверг, опять-таки «поскольку он никак не передавал черты его дочери»[598], также был скомпрометирован на первый взгляд «неотшлифованной», «эскизной», отрывистой манерой. И д’Андраде, и его дочь, по-видимому, внезапно прервали сеансы, возможно увидев, что делает Рембрандт, ведь в свидетельских показаниях значится, что девочка «уходила при первой же возможности». Д’Андраде потребовал, чтобы Рембрандт немедля взял в руки кисти и завершил работу, предоставив ему удовлетворительный результат, пока девочка не ушла, или вернул ему семьдесят пять гульденов задатка. Рембрандт, вынужденный выслушивать оскорбительные обвинения в присутствии нотариуса, в ярости отвечал, что «не притронется к картине и не станет ее заканчивать, пока истец не заплатит ему весь причитающийся гонорар или залог в обеспечение гонорара». После этого он был готов предоставить портрет на суд членов гильдии Святого Луки, чтобы они решили, удалось ему передать сходство или нет. Какой вердикт вынесет этот третейский суд по поводу «сходства» и «завершенности», чрезвычайно щекотливым вопросам в Амстердаме 1650-х годов, было далеко не ясно, поскольку мода и вкус в этих стилистических войнах предпочитали все большую плавность и прохладную гладкость, и уж никак не манеру Рембрандта. Это разбирательство он воспринял как серьезный удар по репутации.
Рембрандт ван Рейн. Автопортрет. 1652. Холст, масло. 112 81,5 см. Музей истории искусств, Вена
И все же он противостоял соблазнам пустых поверхностных эффектов. С середины 1640-х годов Рембрандт живописными средствами неустанно исследовал таинственные, поэтические отношения, связывающие видимый глазу облик и сердце материальной сущности. Он неизменно оставался метафизиком. Так, на великом венском автопортрете 1652 года он предстает перед нами вне всяких социальных ролей, отринувшим любые пышные детали: плюмажи, золотые цепи, стальные латные воротники, причудливые тюрбаны; на нем всего лишь рабочая блуза и простой берет художника. (Впрочем, берет, возможно, все-таки отсылает к Кастильоне Рафаэля.) На сей раз глаза Рембрандта ясно различимы; слегка затененный левый глаз даже более приковывает внимание, чем правый на ярко освещенной половине лица. Он вовсе не привлекает зрителя загадочностью. На самом деле эти глаза с покрасневшими веками, разделенные пересекающей лоб глубокой морщиной, вместе с поджатыми губами и упрямым подбородком свидетельствуют о напряженной интеллектуальной сосредоточенности, о тяжком труде, сопровождающем призвание художника. На этом автопортрете Рембрандт вызывающе запустил большие пальцы за пояс, широко развел в стороны локти, и потому его позу ложно истолковывали как агрессивную: таков-де Художник, противостоящий Публике. Разумеется, в его позе нет ничего подобострастного. Однако, сравнив его со столь же безыскусным автопортретом его ученика Карела Фабрициуса, написанным им незадолго до смерти, мы можем убедиться, что на сей раз Рембрандт, скупыми уверенными мазками изображая свою рабочую блузу и крупные мускулистые руки, стремился передать неприкрашенную правду и показать зрителю независимого мастера, облаченного лишь в то одеяние, что пристало его ремеслу.
То же впечатление благожелательного простодушия, той самой «honntet», столь ценимой в XVII веке, парадоксальной расчетливой бесхитростности, производят и некоторые другие его модели этого периода, например написанный в три четверти Николас Брёйнинг: его красивое лицо обращено к сильному источнику света, он эффектно откинулся на спинку массивного стула. О Брёйнинге известно мало, но он или его семья, по-видимому, лелеяли светские амбиции. Не случайно Рембрандт изобразил его в позе, представляющей собой некий эквивалент аристократической позы-контрапоста: с головой, обращенной в сторону, противоположную торсу, – вот только не стоящим, а сидящим. А еще Рембрандт стал значительно затемнять фон своих портретов, так что отдельные сильно освещенные участки лица, словно светясь в мерцании свечей, выступают из мрака. Ощущение, будто лица и фигуры появляются из бесконечности и вновь растворяются в ней, еще усиливается благодаря тому, что Рембрадт, как, например, в портрете Арнаута Толинкса, весьма пожилого зятя доктора Тульпа, ставит себе буквально невыполнимую задачу: сделать черный костюм – шляпу и кафтан – различимым на фоне почти черного задника.
В портретах 1650-х годов Рембрандт приспосабливал живописную технику под свое понимание личности модели. Поэтому портрет Брёйнинга написан относительно свободными, плавными мазками, сообщающими всему его облику живость и веселость, тогда как для портрета Толинкса, в особенности для его воротника и ярко освещенной щеки, Рембрандт выбирает мазки плотные и неровные, подчеркивающие добропорядочность и надежность его публичной маски. Впрочем, нигде сами прикосновения Рембрандтовой кисти не создали образа более сложного и глубокого, более революционного по своему воздействию, чем в трехчетвертном портрете Яна Сикса (с. 733), без сомнения величайшем из всех портретов мастера и, вероятно, самого психологически проницательного из всех портретов XVII века. Почему? Да потому, что на нем запечатлено одновременно то лицо, что мы носим на улице, и то, что обращаем к собственному зеркалу, наш желанный и наш истинный облик.
Рембрандт ван Рейн. Портрет Николаса Брёйнинга. 1652. Холст, масло. 107,5 91,5 см. Картинная галерея старых мастеров, Кассель
Хотя ничто не предвещало появления подобной беспрецедентной картины (да к тому же и «бездетной», по крайней мере до Гойи и Мане), Рембрандт мог создать ее, только близко познакомившись со своей моделью. Несмотря на то что вскоре после того, как Рембрандт завершит работу над портретом, их дружба прервется, судя по глубокому пониманию внешности и внутреннего мира его героя, их явно связывали более теплые и тесные отношения, чем обычно соединяют заказчика и художника. Если созданный в 1641 году портрет невзрачной и благочестивой женщины средних лет, как без особых оснований полагают искусствоведы, действительно изображает мать Сикса Анну Веймер, то Рембрандт познакомился с ее сыном, когда тому исполнилось всего двадцать три года и он только что вернулся из путешествия по Италии, – красивый, состоятельный, следящий за модой, страстно увлеченный итальянской поэзией Тассо и Ариосто, без сомнения без умолку твердящий о Бернини и о фонтанах, о кардиналах и о библиотеках. С тринадцати лет Сикс жил вместе со своей овдовевшей матерью в роскошном доме на Кловенирсбургвал, именуемом «Синий орел», по соседству со «Стеклянным домом», принадлежавшим производителю зеркал Флорису Сопу. Дед Сикса, гугенот, прибыл в Голландию из Франции в 1568 году, а его сыновья Жан и Гийом преуспели в ремесле, типичном для французских протестантов: шелкоткачестве и красильном деле. Жан Сикс умер в 1617 году, когда его сын еще пребывал в утробе матери, поэтому Анна сама занялась воспитанием и образованием мальчика, изо всех сил стараясь, чтобы в следующем поколении грязь коммерции сменилась блеском учености. Как и положено, Яна отправили в Лейденский университет изучать свободные искусства, «vrije kunsten»; не исключено, что потом он обучался также в университете Гронингена[599]. Разумеется, он недурно выучил латынь и греческий, а также овладел испанским, французским и итальянским, а потом его послали в Италию.
Рембрандт ван Рейн. Портрет Арнаута Толинкса. 1656. Холст, масло. 76 63 см. Музей Жакмар-Андре, Париж
Усилия, потраченные, чтобы придать ему аристократический лоск, оправдали себя. Вернувшись в Амстердам, Ян Сикс поразил воображение сограждан: блистательный поэт-патриций, он выбрал своей резиденцией собственную сельскую Аркадию в загородном поместье Эймонд. История о том, как он принимал у себя художника, в том числе и рассказ о пари и горчице, увековеченных на офорте «Мостик Сикса»[600], – почти наверняка позднейшая выдумка, хотя она трогательно и поэтично сводит вместе любезного дилетанта и славящегося своей неуживчивостью и дурным нравом художника. Однако их первая документально засвидетельствованная встреча относится к 1647 году, когда Рембрандт выполнил гравированный портрет Яна Сикса, призванный польстить его самолюбию и представить его в сознательно культивируемом им облике джентльмена – ценителя искусств.
Что же эти двое, столь различные по своему возрасту, воспитанию и устремлениям, увидели друг в друге? У Рембрандта было много учеников, ассистентов и заказчиков, но мало друзей, тем более принадлежавших к утонченным светским кругам, в которых вращался Сикс. Разумеется, Рембрандт помнил о старинном «paragone», вечном соперничестве живописи и поэзии, особенно остро проявлявшемся в Амстердаме. Воспевая родной город, амстердамские поэты в числе прославленных имен постоянно называли имя Рембрандта, а драматурги вроде Яна Зута упоминали его, когда говорили о совершенных произведениях искусства[601]. Однако два величайших поэта своего поколения, Гюйгенс и Вондел, приводили его имя в не столь лестном контексте: Гюйгенс насмехался над ним из-за того, что он якобы не сумел передать на полотне черты Жака де Гейна III, а Вондел усомнился, что Рембрандту по силам изобразить знаменитого Ансло в момент чтения проповеди. Возможно, нежелание Вондела похвалить его особенно раздражало художника, тем более что тот обыкновенно не скупился на высокие оценки живописцев. (Даже одобрив впоследствии портрет Яна Сикса, Вондел не назвал имени автора!) Поэтому Рембрандт, несомненно, был польщен, поняв, что молодой поэт, отличающийся космополитическими пристрастиями и глубоким знанием античной культуры, желает поддерживать с ним дружеские отношения. В свою очередь, Ян Сикс, который был столь же страстным коллекционером западного и восточного искусства, как и Рембрандт, и разделял его вкусы: Тициан, Пальма Веккио, Дюрер, Лука Лейденский, китайские рисунки и классическая скульптура, – вполне мог консультироваться у него по поводу покупок.
Рембрандт ван Рейн. Портрет Яна Сикса. 1647. Бумага, перо коричневым тоном, кисть коричневым тоном и белилами. Коллекция Сикса, Амстердам
Невзирая на их старое как мир соперничество, сходство поэзии и живописи чрезвычайно оживленно обсуждалось в середине XVII века. Общество Аполлона и Апеллеса, призванное воссоединить двух муз, но не подчинявшееся гильдии Святого Луки, в октябре 1653 года устроило пир, во время которого поэты чествовали живописцев, а живописцы прославляли поэтов (однако Рембрандта даже не пригласили на это празднество)[602]. Впрочем, о том, как именно общая культура сближала молодого писателя и стареющего живописца, свидетельствуют усилия, предпринятые Рембрандтом при создании гравированного портрета Сикса. Рембрандт довольно редко выполнял подготовительные рисунки для офортов, но, задумывая портрет Сикса, сделал даже два этюда. Обоим рисункам надлежало подчеркивать непринужденное изящество Сикса, ту самую «sprezzatura», которую Кастильоне полагал неотъемлемым свойством истинного джентльмена и придворного. Все высокоученые соотечественники Яна Сикса были настолько убеждены в том, что именно он – образец утонченности и светскости, о котором писал итальянский автор, что переводчик впоследствии посвятит ему первое голландское издание «Придворного». Однако два рисунка Рембрандта были призваны показать абсолютно разные аспекты личности «совершенного джентльмена». На первом рисунке на Сикса радостно напрыгивает собака. Судя по изображению охотничьего пса, Сикс притязал на принадлежность к тем классам, развлечения которых включают в себя охоту; вместе с тем собака обыкновенно символизировала такие качества, как преданность и дружеское расположение, а ее присутствие могло намекать и на ученость хозяина, ведь все эти добродетели приписывал собакам в своем трактате Липсий[603]. Однако чрезвычайно раскованная поза, в которой его изобразил художник, могла вызвать у Сикса удивление, даже неприятное; не случайно на втором рисунке, наброске с натуры, быстро выполненном на обороте другоо, запечатлевшего нищего, которому подают милостыню, Сикс предстает в той маске, что сознательно создавал и культивировал: мы видим красивого молодого писателя, погруженного в чтение рукописи, в классической позе стоящего у окна, из которого на его точеные черты льется свет.
Рембрандт издавна был одержим книгами. Однако едва ли его можно было назвать книгочеем. Сколь ни занимали его истории, излагаемые в книгах, его завораживал и физический облик книг как материальных предметов: их обложка, бумага, велень; знание, таимое на сшитых страницах под прочным переплетом, скрываемое на тесно уставленных деревянных полках, громоздящееся стопками на столе. Снова и снова взор и рука живописца скользили по переплетам или задерживались на неровных пожелтевших страницах. Часто Рембрандт использовал книги в качестве театральных декораций: вот на них указует святой Павел, вот они скорбно покоятся рядом с Иеремией, оплакивающим разрушение Иерусалима, вот Ансло и Сильвий, благоговейно приникнув к их источнику, изрекают евангельскую истину. Однако, в отличие от Рубенса, Рембрандт редко выполнял книжные иллюстрации. До знакомства с Сиксом единственным его вкладом в этот жанр был фронтиспис к учебнику по судовождению. До конца 1640-х годов (за исключением «Пророчицы Анны», моделью для которой, возможно, послужила его мать) Рембрандт не стремился изображать читающих, то есть не отрывающих сосредоточенного взора от открытых книг, персонажей. Однако в конце 1640-х – 1650-е годы он гравирует на меди и пишет лица, буквально озаренные светом, исходящим от страниц открытой книги. Нарушая традицию изображения «ученого в своем кабинете», согласно которой героя, подобно Эразму кисти Гольбейна, полагалось писать в профиль, параллельно плоскости картины, тем самым несколько отдаляя его от созерцателя, такие персонажи Рембрандта, как старуха, возможно мать Сикса Анна Веймер, или Титус, обращены лицом к зрителю, и потому нас глубоко завораживает их поглощенность чтением, мы созерцаем свет, падающий на их лица от страниц книги.
Рембрандт ван Рейн. Старуха за чтением. 1655. Холст, масло. 80 66 см. Частная коллекция
Рембрандт ван Рейн. Портрет Яна Сикса. 1647. Бумага, итальянский карандаш. Коллекция Сикса, Амстердам
Рембрандт ван Рейн. Портрет Яна Сикса. 1647. Офорт, второе состояние. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк
Именно так: анфас, погруженным в чтение, перегнувшим книгу вдоль корешка – показан Ян Сикс на третьем рисунке; в той же позе он будет запечатлен и на офорте. На его фигуру сзади падает сильный свет, как будто молодой человек расположился у окна в солнечный день. Однако, поскольку он стоит спиной к окну, хотя бы часть его лица должна была остаться в тени. Но Рембрандт изображает черты Сикса ярко освещенными, не столько внешним светом, сколько сиянием книжной мудрости. В целом на офорте удачно сочетаются настроения двух подготовительных рисунков: бодрого и солнечного, что царит на первом, той жизни деятельной, «vita activa», о приверженности которой свидетельствуют изысканная шпага и ножны, кинжал и плащ, и «жизни созерцательной», «vita contemplativa», о которой на втором рисунке возглашает сияющий свет жизни воображения и ума. Всецело поглощенный чтением, Ян Сикс помещен на самой границе между внешним и внутренним миром, между улицей и кабинетом.
Рембрандт ван Рейн. Свадьба Ясона и Креусы. 1648. Офорт, четвертое состояние. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк
В том же году, когда Рембрандт гравировал его портрет, на сцене был поставлен первый драматический опыт Сикса, трагедия «Медея». Без сомнения, Сикс был страстным поклонником античной литературы. В 1649 году, к явной досаде не столь состоятельных ученых, он купит на аукционе бесценный манускрипт «Записок о Галльской войне» Цезаря, написанный каролингским минускулом в IX веке[604]. Поэтому весьма вероятно, что во время своего итальянского путешествия Сиксу довелось видеть знаменитый бюст Псевдо-Сенеки. Нельзя исключать, что, подобно Рубенсу и Рембрандту, он приобрел его копию. (В Риме эпохи барокко, видимо, существовала целая индустрия, специализировавшаяся на производстве таких «копий по авторской модели».) В любом случае он не мог не читать каноническое издание трагедий Сенеки, подготовленное Липсием и завершенное Филиппом Рубенсом. Однако в духе свободного состязания, которое одобряли Аристотель и Гораций, Сикс вполне мог написать собственную версию пьесы, отчасти отдавая дань уважения Сенеке, отчасти предлагая независимую интерпретацию сюжета. Так или иначе, пьеса имела некоторый успех, и потому спустя год, в 1648-м, Сикс опубликовал ее и заказал своему новому другу Рембрандту выгравировать для нее фронтиспис. Как ни странно, Рембрандт выбрал в качестве иллюстрации сцену свадьбы Ясона и Креусы, о которой не упоминается у Сикса. В Голландии подобные сцены зачастую включались в представление в виде театрализованного маскарадного действа, хотя и не входили в текст пьесы. Офорт же Рембрандта, на котором Ясон рядом со своей невестой в брачном венце преклоняет колени перед жрецом в митре, а облака воскуряемых благовоний поднимаются к высоким сводам то ли готического, то ли восточного храма, вроде тех, что Рембрандт прежде любил изображать на таких исторических полотнах, как «Христос и грешница», действительно в чем-то сходен с «живой картиной». Но сколь злые шутки играет с живописцем подсознание! Ведь, вступая в брак, Ясон совершает преступление, за которым последует страшное возмездие, или, по крайней мере, роковую ошибку. Ясон прибыл в Коринф со своей женой Медеей и, пресытившись ею, бросил ради юной царевны. Отвергнутая супруга обрушивает на него ужасную месть. Отправив сопернице заботливо выбранный свадебный дар (отравленный пеплос), Медея затем убивает собственных детей. Разумеется, брошенная сожительница потребует справедливости лишь спустя год, в 1649-м, и бедной оскорбленной Гертье будет куда как далеко до Медеи. Впрочем, интересно, не взглянул ли Рембрандт на надпись под офортом, содержащую грозное предупреждение о последствиях измены: «Неверность, сколь дорого ты обходишься!» – и не вздрогнул ли едва заметно от страха?
Рембрандт ван Рейн. Гомер, читающий стихи. 1652. Бумага, перо коричневым тоном. Коллекция Сикса, Амстердам
Рембрандт ван Рейн. Минерва в своем кабинете. 1652. Бумага, перо коричневым тоном, кисть коричневым тоном и белилами. Коллекция Сикса, Амстердам
А Ян Сикс? Ах, он был выше таких мелких недоразумений. И Рембрандт был ему другом. Во всяком случае, пока. И Сикс в 1652 году попросил его как друга нарисовать что-нибудь в его альбоме, «album amicorum», который он назвал «Пандора». Рембрандт выполнил для «Пандоры» два рисунка, далеко не в первый раз запечатлев на одном из них Гомера, с бесстрастным, ничего не видящим взором, с отверстыми устами, читающего свои стихи перед восхищенными слушателями, которые частью сидят у его ног, частью расположились возле и меж деревьев. Конечно, к Гомеру и писатель, и живописец испытывали равное благоговение, причем для Сикса Гомер был прежде всего лирическим поэтом, а для Рембрандта – незрячим певцом и провидцем. Второй рисунок изображает Минерву в ее кабинете, на стене которого виднеется эгида; Минерва глубоко погружена в чтение, на голове ее – убор, весьма напоминающий тот, что носит «Старуха за чтением» 1655 года. А если в облике Минервы Рембрандт и в самом деле изобразил мать Сикса Анну Веймер, то выходит, что рисунок содержит очередной лестный намек на легендарную мудрость этой почтенной матроны. В том же году Сикс приобрел две важные работы Рембрандта, впрочем написанные еще в конце 1620-х и в 1630-е годы: «Симеона во храме» (возможно, это был «Симеон во храме с Младенцем Христом» («Сретение») 1628 года) и великолепную гризайль 1634–1635 годов «Проповедь Иоанна Крестителя». Спустя год, когда Христоффел Тейс стал требовать у Рембрандта выплаты оставшейся стоимости дома, семи тысяч гульденов, а также тысячи четырехсот семиесяти гульденов процентов и «издержек», Сикс одолжит Рембрандту тысячу гульденов, чтобы тот покрыл просроченный счет[605].
Ссуду он дал Рембрандту беспроцентную. Но через год, в 1654-м, Рембрандт вернул своему молодому другу долг сторицей, создав его портрет, возможно величайший портрет XVII века.
Фигура написана в натуральную величину, но в три четверти и вызывает ощущение живого, непосредственного присутствия. Когда Рембрандт в 1641 году изобразил патриция (либо Андриса де Граффа, либо Корнелиса Витсена), небрежно опирающегося на классическую колонну, формат во весь рост, в манере Ван Дейка, требовал отдалить персонажа от созерцателя и показать фрагмент пола, создав тем самым непременную дистанцию между аристократом и зрителем. Напротив, Ян Сикс находится в пространстве, так близко, что мы можем различить маленькую ямку на его подбородке и изощренно выписанный участок розовой кожи, проглядывающий между усами и верхней губой. Обыкновенно для портрета в три четверти брали холст или доску прямоугольной формы. Но картина Рембрандта почти квадратная. А едва ли не всю левую треть холста занимает пустая, наложенная густыми мазками тьма, из которой Ян Сикс выступает на свет. Рассчитывая оптические цветовые эффекты столь же тщательно, как и в «Ночном дозоре», переходя по диагонали от темного сизо-серого кафтана к охряным замшевым перчаткам, а от них – к ослепительному, насыщенному алому плащу, Рембрандт создает у зрителей ощущение, будто Сикс движется в пространстве по направлению к ним, из безымянного мрака к теплому свету, готовому принять и согреть.
Рембрандт ван Рейн. Портрет Яна Сикса. 1654. Холст, масло. 112 102 см. Коллекция Сикса, Амстердам
Его движения, как и приличествует джентльмену – ценителю искусства, довольно размеренны. Он не сводит с нас пристального взгляда, безотчетно элегантным жестом снимая или надевая перчатку. Но какое именно движение изобразил Рембрандт поразительным, написанным алла прима, размытым пятном охры, коричневого, серого и белого? Искусствоведы всегда предполагали, что Сикс плотнее натягивает на левую руку перчатку, готовясь выйти на улицу и надеть публичную маску. Рембрандт не пожалел усилий, чтобы показать под туго натянутой кожей перчатки большой палец левой руки, вплоть до очертаний верхнего края ногтя, видимого под мягкой замшей. Однако вполне можно предположить, что голой правой рукой Сикс начинает не надевать, а стягивать перчатку. Разумеется, не стоит непременно переосмыслять принятую интерпретацию и думать, что Сикс не уходит из дому, а куда-то пришел, не прощается с кем-то, а здоровается. Скорее, Рембрандт намерен застать своего героя в ситуации некоей двойственности, на границе меж домом и миром. Десять лет тому назад Дэвид Смит проницательно заметил, что в латинской хронограмме, или кратком стихотворении, из начальных букв каждой строки которого можно составить дату и которое Сикс написал к собственному портрету в своем альбоме «Пандора», он называет себя Янусом, «IanUs»[606]. Поэтому, подтверждая далее (и проявляя тактичную заботу о репутации живописца, если вспомнить о недавней жалобе д’Андраде), что «именно так выглядело лицо Януса Сикса, с юности поклонявшегося музам»[607], он остроумно намекает на то, что у него два лица, а не одно: лицо, с которым он предстает миру, и то, что знают его друзья и он сам. Оттого-то Рембрандт и не жалеет усилий, чтобы привлечь наше внимание к рукам персонажа: к правой, без перчатки, которой он может пожать руку друга, близкого приятеля (детально выписанные костяшки пальцев и даже выступившие вены, несмотря на свободные, широкие мазки, создают ощущение некоей «неформальности»), и к левой, скрытой перчаткой руке публичных ритуалов. Кстати, соединение рук, в том числе и рук в перчатках, представляло собой расхожую эмблему дружбы или взаимной склонности, поэтому Рембрандт еще раз отсылал здесь к тому расположению, что питали друг к другу художник и поэт. Впрочем, величайший комплимент Рембрандт сделал своему заказчику, самой манерой письма создавая видимость «sprezzatura» и придавая тщательному расчету облик непринужденной элегантности, как настаивал Кастильоне.
Выходит, что именно в манере письма, привлекающей удивительной плавностью и самообладанием, таится личность изображенного. В портрете Сикса можно наблюдать наиболее поразительную демонстрацию того, что голландские искусствоведы именовали словом «lossigheid», «раскованность», и что создает у зрителя впечатление, впрочем опровергаемое подготовительными рисунками, будто Рембрандт накладывал краску на холст стремительно, алла прима, как и на картине, изображающей купающуюся Хендрикье и созданной в том же году (1654 год, наряду с 1629-м и 1636-м, можно считать наиболее плодотворным во всей его карьере). Но даже если он и написал портрет довольно быстро, чрезвычайно утонченная проработка деталей и удивительное разнообразие стилей письма даже на соседних фрагментах свидетельствуют о том, насколько тщательно Рембрандт обдумывал его замысел, и прежде всего то, что теоретики искусства того времени обозначали термином «houding», «позу» картины, то есть точное и гармоничное соотношение цветов, позволяющее создать убедительную живописную иллюзию в пространстве[608].
Рембрандт ван Рейн. Портрет Яна Сикса (фрагмент)
В любом фрагменте картины обращает на себя внимание интуитивное сочетание точного расчета и раскованной манеры письма. Как отмечал Хогстратен, участки, помещенные ближе всего к зрителю, выполнены в наиболее свободной манере, например на плаще, где широкие полосы, прочерченные черным, обозначают складки ткани, естественным образом ниспадающие с плеча персонажа и подчеркивающие контуры его тела, а совершенно удивительные отдельные мазки желтого воспроизводят отделку и пуговицы. Подобного эффекта Рембрандт добивается также, глубоко обмакнув нижнюю часть кисти в краску, к которой кое-где добавляет немного белого, чтобы передать мягкие отблески света, иногда возникающие на ткани, и более резкие – на отвороте с обильным золотым шитьем. Центральную роль во всей композиции играет этот прямой угол, очерченный отворотом плаща; такой же прямой угол образует и белый воротник, фиксируя позу посреди той живописной динамики, которой проникнута вся композиция. Тени под воротником точно просчитаны так, чтобы придать льну легкость и воздушность, словно он плывет над сизо-серым кафтаном; кроме того, Рембрандт добавляет чудесную маленькую деталь: правый уголок воротника на портрете едва заметно загнулся внутрь. И если в 1630-е годы Рембрандт написал бы волосы своей модели с самым педантичным тщанием, процарапывая отдельные волоски черенком кисти, здесь он сумел передать густую рыжеватую гриву Яна Сикса облачными, почти воздушными мазками, накладывая их сплошным слоем, за исключением прядей, ниспадающих на белый воротник, где кончики кудрей воспроизведены с помощью штриховки, нанесенной крошечными вертикальными линиями и напоминающей паутину.
Таким образом, эту картину можно в буквальном смысле слова назвать энциклопедией живописи, ведь в ней есть все: от самой свободной манеры письма до сухой кисти, на кончик которой Рембрандт берет чуть-чуть желтой краски и которой проводит по поверхности холста несколько линий над краем правой манжеты Сикса, от тщательно выписанных деталей до почти импрессионистических в своей дерзости фрагментов. Однако Рембрандту удается совместить столь разнообразную технику, создав единый, абсолютно гармоничный образ. Поэтому Ян Сикс предстает перед нами, как мы сами желали бы себя вообразить: одновременно тщеславными и скромными, склонными к внешнему позерству и к самоуглубленной задумчивости, энергичными и спокойными, когда все противоречия нашего характера чудесным образом примирены.
Но этого ли хотел Ян Сикс? Два года спустя, женившись на дочери доктора Тульпа Маргарите, он заказал портрет невесты не Рембрандту, а Говерту Флинку. Позднее Ян икс продал долговую расписку Рембрандта третьей стороне, богатому патрицию Гербранду Орнии, занимавшему высокие посты в городском совете Амстердама. Однако картины бывшего друга он оставил у себя. Пожалуй, Янус действительно оказался двуликим, однако не в том смысле, какой виделся поэту.
Между Сциллой и Харибдой, скалами и водоворотом, морская гладь выглядела обманчиво безмятежной, наподобие темного лазурита, испещренного солнечными бликами. Сцилла, чудовище с волчьей головой и телом дельфина, которое вздымалось из морских глубин в облике острых утесов, грозящих разбить корабль в щепки, уже повергала мореплавателей в трепет. Но поистине леденящий ужас у рулевых, осторожно прокладывающих курс на Мессину, вызывала Харибда, логово которой располагалось со стороны Сицилии. Они знали, что на водной глади внезапно может расцвести чудовищная гвоздика, «garofano», и лепестками, окаймленными легкой пеной, начать постепенно увлекать беспомощный корабль в центр своего зловещего соцветия – коварного водоворота. Они видели собственными глазами или слышали от бывалых моряков, как суда сначала замирали, потом, не в силах противиться могуществу чудовищной твари, медленно погружались в водоворот, перевернувшись, подняв нос над волнами, а затем исчезали навеки. На Сицилии нищие, «lazzaroni», слагали печальные песни о том, как целые флотилии становились добычей алчной Харибды. Впрочем, опытный лоцман знал, как избежать зияющей пасти чудовища. А миновав опасный пролив, корабль, ориентируясь по свету маяка, мог спокойно следовать далее, пока вдали не покажется изогнутая песчаная коса, окружающая Мессинскую лагуну с ее ленивыми, мелкими, зелеными водами. На протяжении столетий этот порт именовался Занклой, то есть Серпом, по искривленной форме внешнего побережья: его «лезвие» казалось тонким, но в действительности было достаточно мощным, чтобы противостоять штормам и защищать корабли, стоящие на якоре в гавани.
Двадцатого июля 1654 года в док Мессинской лагуны вошел один из таких кораблей, «Бартоломео», проделавший долгий, изнурительный путь в борьбе с ветрами: он начал плавание из Тексела на северной оконечности Зюйдерзе, двинулся вдоль западного побережья Франции, обогнул Испанию и добрался до Тирренского моря. «Бартоломео» доставил из Амстердама в Неаполь груз шелка-сырца. Однако один из его фрахтователей, состоятельный купец Корнелис Гейсберт ван Гор, написал своему мессинскому деловому партнеру Джакомо ди Баттисте, что, зная, каким маршрутом идет судно, воспользовался случаем и послал вместе с остальным грузом квадратный ящик с картиной, предназначающейся другу Баттисты дону Антонио Руффо Спадафоре ди Карло, одному из «сенаторов» портового города, носившему также титулы герцога Баньярского, а с 1650 года и синьора Никосийского[610]. Возможно, из Неаполя картину перевозили уже на другом каботажном судне, поменьше. Однако не исключено, что в 1654 году «Бартоломео» и сам отправился дальше через пролив, чтобы увеличить прибыль. Дело в том, что заоблачный рост цен на неочищенный тростниковый сахар на Амстердамской бирже, вызванный изгнанием голландцев из Ресифи и Пернамбуку, мог соблазнить владельцев судна принять на борт груз сицилийского сахара, чтобы потом с выгодой продать его на обратном пути.
Поэтому едва ли мы так уж ошибемся, вообразив, как портовые грузчики под раскаленным небом переносят товары с корабля на набережную, в основном на потных спинах. Если капитан, на мгновение отвлекшись от неотложных дел, вытирал влажный лоб и бросал взгляд на город, то за крышами теснящихся вдоль гавани беленых домов ему открывался вид на грозную горную гряду, поднимающуюся к небу за городскими стенами и опаленную неистовым июльским солнцем до бурого и темно-серого цвета. На поросших низкорослым кустарником горных склонах то там, то сям укоренились, бросая вызов злосчастной судьбе, цепкие, упрямые каштаны и оливы – с согнутыми, искривленными, узловатыми стволами, но изо всех сил борющиеся за жизнь, хотя земля время от времени колебалась, и тогда со склонов начинали сползать гранитные валуны. Над горными пиками замирали слабые перистые облачка, не обещая ни прохлады, ни дождя, пока с Тирренского моря не задувал влажный мистраль. Ослики, погоняемые по двое и по трое, с корзинами на спине, спускались по извилистым тропкам с изрезанных узкими долинами холмов в близлежащие деревни и дальше, в большой портовый город, «la nobile Messina», который как раз переживал период относительного процветания, пока не нарушаемого ни землетрясениями, ни эпидемиями чумы, ни бунтами из-за новых налогов[611].
Если груз из Амстердама считался ценным, то встречать его полагалось голландскому торговому консулу в Мессине Абрахаму Каземброту; он лично удостоверялся, что товары доставлены в надлежащем виде, и следил за тем, как их отправляют далее, купцам, которым они предназначались. Судя по всему, так происходило и в нашем случае. Рядом со штуками голландского сукна и железными и стальными болванками из Германии и Испании примостился квадратный деревянный ящик с картиной. Поскольку консул Каземброт и сам был художником, писавшим в том числе небольшие изящные виды Мессинской гавани, а также гравером и архитектором и поставлял произведения искусства местной знати, его наверняка особенно заботила судьба этого груза[612]. Картину он инспектировал не один, а вместе с облаченным в пышные одеяния купцом и ценителем искусства Джакомо ди Баттистой, посредником, купившим ее от лица Руффо. Вот они, под сенью зонтиков от солнца, дают слугам указания осторожно погрузить ящик на повозку и, когда та медленно трогается с места, едут следом в карете. Их маленький караван неторопливой рысью проезжает мимо статуи Нептуна работы Монторсоли. Владыка морей сжимает в одной руке трезубец, а другой повелительным жестом приказывает Сцилле и Харибде унять свой рев и вой, причем Сцилла отверзает в ярости пасть, а Харибда бессильно клацает в воздухе челюстями. Затем их поезд поворачивает к «palazzate», трехэтажным барочным виллам с величественными портиками, ведущими в тенистые дворы, где вода лениво течет тонкими струйками из позеленевших пастей дельфинов и львов. Стены утопают в жасмине, в кадках красуются лимонные деревца.
Повозка свернула в один из этих приветных дворов, и навстречу ей, без сомнения, во множестве кинулись слуги. Хозяин дома дон Антонио Руффо, человек с аккуратно подстриженными усами, поспешил к ним из бельэтажа, украшенного фресками по мотивам Овидиевых «Метаморфоз», мимо бюстов римских императоров, установленных вдоль лестницы[613], поприветствовал своего друга Джакомо ди Баттисту и стал наблюдать, как из ящика вынимают содержимое, большую картину с закругленным верхом, примерно шести с половиной футов длиной и пяти футов шириной (или восьми на шесть ладоней, «palmi», ибо сицилийцы предпочитают измерять в «руках», а не в «ногах»). Наверняка он покрикивал на слуг, веля им поосторожнее обращаться с темным поблескивающим холстом, хотя, если учесть, что коллекция Руффо пополнялась новыми экспонатами каждую неделю, его люди достаточно поднаторели в таких манипуляциях. Когда сняли последние защитные слои мешковины, ватных обкладок и промасленной ткани, перед Руффо наконец предстала картина Рембрандта. Она изображала в три четверти человека лет пятидесяти, с окладистой бородой, с ярко освещенным лицом и торсом, в черном, напоминающем мундир, длинном жилете, надетом поверх очень широкой белой рубахи с очень пышными рукавами, сплошь в складках, ниспадающими с его плеч и предплечий и присборенными только у запястий. На голове у него была плоская широкополая шляпа, которая бросала тень на изборожденный морщинами лоб, но никак не затемняла крупный нос, скулы и довольно печальные глаза, хорошо различимые в золотистом свете. Правая рука изображенного покоится на темени античного бюста, в котором Руффо, ценитель и знаток Античности, по крайней мере поначалу, не сумел узнать Гомера[614]. Его левая рука, с поблескивающим на мизинце простым гладким кольцом, словно играет огромной тяжелой цепью, висящей у него на груди и украшенной медальоном с изображением головы в шлеме; этот медальон виднеется у персонажа на правом боку. Цепь была написана в технике экстравагантно плотного импасто, сгустками, бусинками, пузырьками, наростами, узелками, рубчиками густой смеси двух красок, белой и желтой, взбитых на кончике кисти и кое-где выступающих над поверхностью холста на четверть дюйма.
Позади бюста виднелась стопка книг. Поэтому дон Антонио Руффо предположил, что Рембрандт прислал ему некоего философа, и, соответственно, 1 сентября 1654 году приказал внести картину в каталог как «поясное изображение философа (по-видимому, либо Аристотеля, либо Альберта Великого), выполненное в Амстердаме художником Рембрандтом»[615]. Полотно Рембрандта оказалось не единственным, сюжет которого Руффо затруднился определить. Еще один холст был описан в каталоге как запечатлевший «Святого Иеронима или философа, устремляющего указательный палец левой руки на череп, покоящийся на книге»[616]. Однако, судя по двум этим записям в каталоге, Руффо собирал галерею ученых и философов, древних, средневековых и современных, подобную той, что Рубенс создал для своего друга, издателя Бальтазара Морета. Когда Руффо упомянул об этом холсте в следующий раз, в 1661 году, заказывая в пандан к нему картину Гверчино, он уже окончательно решил для себя, что на нем изображен Аристотель.
Изначально заказ был передан тем же маршрутом, что и впоследствии доставлена готовая картина, только в обратном направлении. Руффо попросил своего друга Баттисту, у которого были деловые партнеры в Амстердаме, узнать у Рембрандта, не напишет ли он для него поясную фигуру. Тот факт, что он предпочел обратиться к живописцу, убедительно свидетельствует о том, насколько далеко распространилась слава Рембрандта в 1650-е годы. Для упрочения его репутации во всем мире немало сделали в том числе его ученики. Так, Самуэль ван Хогстратен снискал себе славу как придворный художник в Вене, избрав своей сферой удивительные оптические иллюзии, именуемые в Голландии «обманками». Однако весьма вероятно, что он, как и его собратья, прошедшие обучение в мастерской Рембрандта, часто превозносил своего учителя. Например, Филиппо Бальдинуччи, автор первой итальянской биографии Рембрандта, получил сведения от датского художника Эберхарда Кейля. На столь же дальних окраинах империи Рембрандта существовали и другие форпосты, которые могли поведать о нем и его таланте.
Сколь бы пренебрежительно ни отзывался Микеланджело о художниках Северной Европы, нет никаких сомнений, что к середине XVII века их картины пользовались в Италии большой популярностью. В 1624 году в Неаполе работал Ван Дейк, написавший, помимо прочего, «Святую Розалию с одиннадцатью ангелами», которая ныне хранится нью-йоркском музее Метрополитен. Шедевры Рубенса обрели славу в Италии и за ее пределами благодаря гравированным репродукциям. Антонио Руффо, переехавший в свое роскошное палаццо в 1636 году и к 1649-му собравший обширную, выдающуюся коллекцию, в которой насчитывалось сто шестьдесят шесть картин, владел также гравюрами Луки Лейденского, за произведения которого Рембрандт готов был выложить немалые суммы на аукционах и распродажах. Впрочем, работы Рембрандта могли знать лишь избранные итальянские меценаты. В собраниях великих римских коллекционеров: Барберини, Джустиниани, Орсини, как и флорентийских Медичи, – находились образцы его творчества, включая автопортреты. Однако слава Рембрандта как в Италии, так и в остальной Европе зиждилась на его офортах: ими восторгались, их стремились приобрести, их копировали. Так, генуэзский художник Джованни Бенедетто Кастильоне, некоторое время работавший в Неаполе, столь пленился мастерством гравированных автопортретов голландца, выполненных в 1630-е годы, что изобразил самого себя в облике итальянского Рембрандта, в эффектном берете с перьями, с пиратскими усами и вызывающе дерзким взором.
Рембрандт ван Рейн. Аристотель, созерцающий бюст Гомера. 1653. Холст, масло. 143,5 136,5 см. Музей Метрополитен, Нью-Йорк
В основе совершенно рембрандтовского по духу автопортрета Кастильоне – уже утвердившийся в сознании публики образ голландского художника, который выполняет желания заказчиков, но не стремится польстить им. Подобную маску избрал и печально известный своим неуживчивым нравом Сальватор Роза, еще один художник, которым восхищался и которого впоследствии нанял Руффо. Трудно сказать, учитывал ли Руффо все эти обстоятельства в 1652 году, заказывая «Философа» Рембрандту. На самом деле нельзя даже утверждать, что он просил Рембрандта написать именно философа, а не просто поясное изображение персонажа. (А получил он, скорее, картину с фигурой в три четверти, которая была одновременно и длиннее и шире того «укороченного» холста, что ныне находится в музее Метрополитен.) На протяжении веков высказывалось и множество других догадок по поводу личности изображенного: в нем видели и итальянского поэта XVII века Торквато Тассо, и голландского поэта Питера Корнелиса Хофта[617]. (Впрочем, трудно вообразить, что сицилийскому заказчику Рембрандта мог понадобиться портрет голландского поэта.) В статье, снискавшей заслуженную славу, Юлиус Хельд утверждал, что герой в шлеме, голова которого выгравирована на медальоне, висящем у персонажа на золотой цепи, – это стилизованный образ Александра Великого. Тем самым он воплощает третьего персонажа картины, и, более того, весьма важного, поскольку он служит своего рода связующим звеном между философом и поэтом[618]. Ведь Александр, в детстве бывший самым знаменитым учеником Аристотеля, по легенде, столь благоговейно почитал слепого поэта, что хранил экземпляры его поэм в изголовье своей постели. Кроме того, бытовало мнение, высказанное Плутархом в его жизнеописании Александра, будто бы Аристотель подготовил новый, исправленный список «Илиады» специально для своего царственного воспитанника, чтобы юный правитель мог научиться у поэта военному искусству. В таком случае отношения между бюстом и философом, ушедшим из жизни бессмертным и живым ученым, которые символизирует прикосновение персонажа к скульптуре, сходны с теми, что связывают бюст Сенеки и столь же мрачного Юста Липсия на картине Рубенса «Четыре философа»[619]. А золотая цепь, с точки зрения Хельда представляющая собой аллюзию на «золотую цепь бытия» в «Илиаде», по-видимому, объединяет троих этих героев.
Джованни Бенедетто Кастильоне. Автопортрет. Ок. 1650. Офорт. Частная коллекция
По преданию, ни Гомер, ни Аристотель не окончили свои дни в мире и благоденствии. Принято считать, что на Гомера, самое имя которого означает «слепой» и которого Рембрандт изобразил в альбоме Яна Сикса «Пандора» в тот же год, когда получил заказ Руффо, обрушивались всяческие бедствия и несчастья. Самым печальным из них было унижение, которому он подвергся в Кумах, когда предложил воспеть этот город в стихах, если тот обеспечит ему свое покровительство. Местные жители отказали, опасаясь, что в таком случае город наводнят нищие и недужные поэты, молящие о милостыни. На долю Аристотеля также выпали тяжкие страдания: его друг и, согласно некоторым источникам, племянник Каллисфен был казнен Александром по обвинению в государственной измене. Хотя сам Аристотель пережил гонения, его стали преследовать после смерти Александра за близость к македонской династии, а ареопаг приговорил его к смерти. Он скончался в изгнании на острове Эвбея.
Таким образом, скорбное выражение лица Аристотеля можно объяснить тем, что, созерцая бюст Гомера, он размышляет о мимолетности славы и превратностях судьбы. Он медленно перебирает перстами звенья тяжелой золотой цепи, словно повествуя о своей участи ипереходя от истории возвышения и почестей, которых удостоил его Александр, к рассказу о позоре и отвержении. А если вспомнить о постепенно растущих сомнениях Рембрандта в том, что публика способна по достоинству оценить художника, выразившихся в том числе и в его малопристойной сатире на «ослов от искусства», интерпретация Хельда по-прежнему представляется весьма и весьма убедительной. Не исключено, что Рембрандт использует здесь и свой излюбленный вариант трагической визуальной метафоры, намекая одновременно на слепоту Гомера и слепоту общественного мнения.
Но точно ли на картине изображен Аристотель, как в конце концов предположил Руффо? Пол Креншоу заметил, что существовала и другая историческая личность, с которой, судя по «копрологическому» рисунку, отождествлял себя Рембрандт и которая также страдала от капризов властителей, и это, конечно, Апеллес. Апеллес слыл любимым художником Александра и в XVII веке значительно чаще, нежели Аристотель, ассоциировался с Гомером, причем их нередко прославляли как совершенное воплощение соответственно гения живописи и гения поэзии; в частности, об этом пишет ван Мандер. Хотя на картине нет никаких атрибутов, указывающих на занятие персонажа, то же справедливо и по отношению к другим «живописцам сильных мира сего» – Тициану и Рубенсу, которых, в отличие от Рембрандта, принцы удостоили почетного дара – золотой цепи. И если уж мы об этом заговорили, Рембрандт столь же часто изображал себя без кистей, сколь и с орудиями своего ремесла. Красивые черно-белые, отливающие шелковистым блеском одеяния, в которые Рембрандт облачил своего героя, столь же пристали окруженному почетом фавориту правителя, сколь и философу. С книгами было принято запечатлевать на холсте не только ученого, но и образованного живописца, «pictor doctus»; здесь можно вспомнить о гравированном портрете художника Яна Асселейна, выполненном Рембрандтом. Более того, нельзя забывать, что в 1653 году, когда был написан «Аристотель», Общество Аполлона и Апеллеса, призванное всячески упрочивать союз поэзии и живописи, устроило пир, и это обстоятельство тоже могло вдохновить Рембрандта на создание небывалого шедевра, в основе которого – размышления о близости двух искусств.
Рембрандта не пригласили на празднества по случаю основания Общества Аполлона и Апеллеса, возможно, потому, что почетный гость Йохан Хёйдекопер принадлежал к политической фракции, находившейся в оппозиции к большинству покровителей художника. Однако воспользоваться случаем, чтобы показать, что это именно он, а не всякие ничтожества, вроде Говерта Флинка, Николаса ван Хелта Стокаде и тому подобных, провозгласивших себя воплощением «классического вкуса», – истинный преемник Апеллеса, было вполне в духе Рембрандта. Ведь пока в Амстердаме завоевывала популярность живописная манера, предполагающая яркое освещение и четко очерченные контуры, Рембрандт, вероятно, совершенно сознательно решил продемонстрировать, что именно его стиль, а не их напоминает тот, что разрабатывал греческий мастер. Для этого он написал портрет Апеллеса, воплотив те характеристики, которые Плиний полагал приметами его неповторимого гения и которые стали постепенно навлекать на себя критику тех, кто упрекал Рембрандта в потворстве собственному небезупречному вкусу, «грубости» манеры, нечеткости очертаний и невразумительности. Год спустя он повторит то же сочетание сюжета и живописной техники и в написанной плавными, текучими, непринужденными мазками «Купающейся Хендрикье», и в портрете Яна Сикса с его раскованной, но в действительности точно рассчитанной манерой.
Излагая различные эпизоды из жизни Апеллеса, Плиний обсуждает те черты его живописной техники, что снискали ему славу первого художника греческой Античности. Все они явно наличествуют на картине из музея Метрополитен. Во-первых, Плиний упоминает, как Апеллес за двадцать талантов золотом написал портрет Александра, сжимающего в руке молнию, столь искусно, что персты царя словно «выдавались из поверхности картины». У Рембрандта выделяется написанное импасто золото, а именно золотая цепь и медальон с изображением Александра. Во-вторых, Плиний утверждал, будто Апеллес добивался удивительных эффектов, ограничивая свою палитру всего четырьмя красками: черной, белой, охрой и красной землей, – а именно к такой цветовой гамме сам Рембрандт тяготел в 1650-е годы. В-третьих, Апеллес якобы использовал тончайший, почти невидимый слой черного лака, чтобы приглушить чрезмерную яркость красок настолько, что издали они даже казались мрачными. Рембрандт не прибегал к «черному лаку», но тщательно размывал грунтовку, стараясь передать контрасты между темными и светлыми тонами, сколь бы яркими они ни представлялись на холсте, посредством плавной градации оттенков. И наконец, согласно Плинию, Апеллес, восхищаясь произведениями своего соперника Протогена (то есть Рембрандт – Говертом Флинком, который уже начал именовать себя «Апеллесом Флинком»), «выполненными с приложением огромного труда и чрезмерно мучительной старательности», говорил, что в одном он превосходит Протогена – «в том, что умеет убрать руку от картины»[620].
Ничто не могло передать эту «незавершенную», «эскизную», «грубую» манеру Рембрандта лучше, чем удивительная фактура просторных рукавов, написанных широкими стремительными мазками, которые столь раздражали приверженцев фотографически гладкого классицизма. Одна из первых и наиболее яростных атак на поздний стиль Рембрандта была предпринята в 1670 году, спустя год после его смерти, правнуком Питера Брейгеля-старшего Абрахамом Брейгелем, жившим в Риме; он противопоставлял «великих художников… старающихся показать прекрасное нагое тело так, чтобы дать зрителю представление о своем графическом искусстве», «неумелым, что тщатся закрыть тела своих героев бесформенными темными одеяниями… таким, что не в силах отчетливо написать даже контуры своих моделей»[621]. Нет никаких сомнений, о ком именно говорил Абрахам Брейгель, ведь за пять лето до этого, в мае 1665 года, он в беседе с Руффо заметил, что, «хотя в Риме ценят голландские оплечные и погрудные портреты, картины кисти Рембрандта не слишком жалуют»[622].
Подобные упреки Рембрандту приходилось слышать неоднократно, в частности из уст Андриса де Граффа и Диего д’Андраде, а еще раньше – от Гюйгенса, и все они утверждали, что он в том или ином случае не передал портретное сходство. Есть ли лучший способ защитить свою репутацию, ни в малой мере не поступившись своими творческими способностями, чем изобразить в качестве своего второго «я» также известного грубоватой экспрессивностью своего стиля Апеллеса, который возложил длань на главу Гомера и предается печальным размышлениям о быстротечности славы и капризах моды. А если предположить, что на картине действительно запечатлен не Аристотель, а Апеллес, то медальон с изображением Александра обретает иной символический смысл. Дело в том, что Апеллес пережил своего великого покровителя и странствовал по таким связанным с именем Александра городам его прежней империи, как Эфес и Александрия, но вынужден был рассчитывать на благоволение иных заказчиков, например Птолемеев, которые были всего лишь бледной тенью Александра. Поэтому картину Рембрандта можно в том числе воспринимать и как аллегорию непрочной власти.
Разумеется, как только Руффо дал понять, что доволен своим философом, и заплатил Рембрандту обещанные пятьсот гульденов, у амстердамского художника не осталось никаких причин уверять заказчика, что ему прислан вовсе не Аристотель. (По мнению Пола Креншоу, нельзя даже исключать, что, поскольку письма Руффо, где обсуждались последующие заказы и непосредственно упоминался «Аристотель», направлялись не напрямую Рембрандту, а голландскому посланнику в Мессине, Рембрандт так и не узнал, что сицилиец неверно идентифицировал героя картины.) К тому же два сюжета, которые Руффо заказал Рембрандту после «Философа», Александра Великого и Гомера, так сказать, «отпочковались» от исходного холста, а кроме того, для новых работ Рембрандт выбрал поясной формат, и потому мысленно их можно было столь же легко примирить с Аристотелем, сколь и с Апеллесом. Поскольку к тому времени, как Рембрандт морем отправил Руффо своего «Александра», а также этюд «Гомера, наставляющего учеников», которого предложил написать маслом, он разорился, потерял дом и большую часть своей коллекции, то едва ли стал бы рисковать таким заказчиком, как Руффо, и вступать с ним в пререкания по поводу личности изображенного. Впрочем, Рембрандт совершенно не боялся других рисков, ведь, осмотрев своего «Александра» (возможно, хотя и не наверняка, находящегося ныне в Глазго)[623], Руффо заметил, что холст сшит из четырех отдельных лоскутов. На самом деле Рембрандт, как и Рубенс, неоднократно дополнял холсты и раньше, в соответствии с тем, как менялось его видение той или иной композиции, и при этом нисколько не ухудшал качества работ. Так, он увеличил размеры «Ночного дозора» и великой «Проповеди святого Иоанна Крестителя», приобретенной Яном Сиксом. Не исключено, что Рембрандт, опять-таки подражая Рубенсу, гордился тем, что может сделать единство всей композиции столь неотразимым, что швы останутся буквально незаметными.
Некоторое время Руффо, по-видимому, действительно их не замечал, так как письмо, в котором он горько сетовал на сшитый из лоскутов холст, он отправил Рембрандту лишь спустя пятнадцать месяцев после получения «Александра». Впрочем, наконец обратив внимание на дефект полотна, владелец, вероятно, вспомнил и о записке, которую Рембрандт приложил к счету и в которой небрежно обмолвился, что, поскольку картина имеет большие размеры, шесть на восемь ладоней, «господин заказчик едва ли сочтет цену [пятьсот гульденов плюс еще сто двадцать три за упаковку, доставку, таможенный сбор и страховку] чрезмерной»[624].
Возможно, обнаружив на холсте то, что он счел следствием небрежности или обмана со стороны Рембрандта, Руффо вознегодовал тем пламеннее, что уже заказал Гверчино картину в пандан к «Аристотелю». Когда Гверчино показали графический набросок с рембрандтовской картины, он решил, что поскольку изображенный на ней рекламирует свое ремесло, ощупывая череп, значит это «физиономист»; посему в пандан картине Рембрандта он написал для Руффо «Географа», ведь измерение земли, согласно взглядам того времени, идеально соответствовало измерению человеческой головы! В противоположность кропотливости и тщательности, ощутимой в картине Рембрандта, Гверчино, несомненно высоко ценивший Рембрандта и, возможно, даже владевший его офортами, завершил работу всего за несколько месяцев и угодил Руффо, намеренно вернувшись в ней к своей прежней манере с ярко выраженной светотенью кьяроскуро, чтобы она лучше соответствовала стилю амстердамского мастера. Поскольку Руффо польстил Рембрандту, сделав его «Аристотеля» жемчужиной своей небольшой галереи героев и мыслителей, вроде той, что князь Лихтенштейнский заказал Хусепе Рибере, его, возможно, особенно раздосадовало, что Рембрандт на сей раз столь бесцеремонно с ним обошелся.
В письме, отправленном доном Антонио Рембрандту 1 ноября 1662 года, недовольство было выражено в весьма резкой форме. Послание согласился передать с оказией голландский консул в Мессине Ян ван ден Брук, имя которого итальянцы для удобства превратили в «Валлемброт» и который направлялся в Амстердам. Прибыв на место назначения, ему надлежало сообщить некоему Исааку Юсту, возможно посреднику между Рембрандтом и мессинским патрицием, что тот совершенно не удовлетворен качеством доставленной ему работы. Он посетовал, что «Александр» сшит из четырех фрагментов, а это абсолютно недопустимо; ужасные же швы на холсте «не описать словами». В его коллекции, состоящей из двухсот лучших картин Европы, нет ни одной, составленной из лоскутов! Очевидно, что изначальный вариант картины представлял собой оплечный, а не поясной портрет, заказанный и оплаченный живописцу. А к этой голове, возможно даже написанной ранее, Рембрандт просто приделал внизу еще один кусок холста. Затем, чтобы картина не показалась зрителю слишком узкой и слишком вытянутой, Рембрандт еще раз увеличил ее размеры, добавив по лоскуту по бокам. Чтобы как-то возместить Руффо моральный ущерб от всех этих несовершенств, Рембрандт счел возможным присовокупить к «лоскутному» «Александру» «Гомера», написанного, по крайней мере, на добротном, целом холсте. Вот только он был не дописан. Явно закончен наполовину, «mezzo finito»[625].
Рембрандт ван Рейн. Человек в доспехах (Александр?). 1655. Холст, масло. 137,5 104,4 см. Художественная галерея и музей Глазго, Глазго
И что же прикажете делать с таким некачественным товаром? «Гомера» немедленно отправят обратно в Амстердам, пусть закончит. А если Рембрандт и в самом деле ожидает, что дон Антонио примет «Александра» в его нынешнем состоянии, то пусть снизит цену по крайней мере вдвое, ведь сумма, которую он запросил, «более чем вчетверо превосходит ту, что обыкновенно назначают лучшие итальянские художники». Но поскольку Рембрандт не может рассчитывать, что «столь дорогое полотно со столь многими изъянами» останется в доме Руффо и будет соседствовать в его галерее с чудесными шедеврами, пусть либо напишет обещанную картину заново, либо оставит первый вариант себе и вернет деньги.
Рембрандт ван Рейн. Гомер, наставляющий учеников. 1663. Холст, масло. 108 82,4 см. Маурицхёйс, Гаага
Ответ Рембрандта, отправленный после того, как «Гомер» был возвращен в Амстердам, сохранился только в итальянской версии, составленной для Руффо, но и в переводе нисколько не утрачивает своей убедительности. Он ничем не напоминает униженное извинение:
«Я был несказанно удивлен тем, что Вы написали мне об „Александре“, выполненном необычайно искусно, и потому мне остается лишь предположить, что в Мессине не много найдется любителей искусства [amatori]. Я не менее поражен тем, что Ваша Светлость изволили сетовать и на цену, и на качество холста, но, если Ваша Светлость желает вернуть „Александра“, подобно тому как Вы возвратили этюд [schizzo] к „Гомеру“, я напишу другого „Александра“. Что же до холста, то у меня не нашлось полотна нужного размера, пока я писал, и потому мне пришлось удлинить его, но, если как следует разместить его при дневном освещении, никто ничего не заметит.
Если Вашей Светлости по вкусу „Александр“, как он есть, – что ж, хорошо. Если Вы не хотите оставить его себе, то должны заплатить мне шестьсот флоринов. А за „Гомера“ Вы должны мне пятьсот флоринов, да еще за холст, ведь мы договорились, что все издержки берет на себя Ваша Светлость. Если Вы согласны, прошу Вас, сообщите мне, каких размеров картину Вы желали бы получить. Жду Вашего ответа с надеждой, что все разрешится к лучшему»[626].
Можно представить себе, что если Руффо почувствовал себя оскорбленным, получив, как ему казалось, скверно выполненную работу от художника, который считался лучшим среди живописцев своего поколения, то по прочтении ответа с ним едва не случился удар. Однако, как ни странно, художник и заказчик не поссорились. Может быть, Рембрандт подробнее объяснил Руффо суть своего творческого метода; в любом случае «Александр» не вернулся в Амстердам. Руффо как будто был вполне удовлетворен новой, завершенной версией «Гомера». В письме Рембрандт говорит об «этюде», и потому можно предположить, что Руффо, раздосадованный «Александром», принял пробный набросок за готовую картину, что, в общем-то, простительно.
Рембрандт ван Рейн. Гомер, наставляющий учеников. Ок. 1661–1663. Рисунок. Бумага, перо коричневым тоном. Национальный музей, Стокгольм
Однако, когда Руффо получил «Гомера, наставляющего учеников», тот настолько ему понравился, что он стал заказывать картины на подобный сюжет другим художникам: «Диогена – школьного учителя» – Маттиа Прети, «Философа Архита с механическим голубем» – Сальватору Розе и картину, описанную в каталоге как «вятой Иероним или философ, устремляющий указательный перст на череп, покоящийся на книге», – Джачинто Бранди. Ни одна из них, включая «Географа» Гверчино, не дошла до нас, а от «Гомера» остался лишь фрагмент, сильно поврежденный огнем и обрезанный со всех четырех сторон.
Изначальный облик картины можно реконструировать по подготовительному этюду, который Рембрандт прислал Руффо для одобрения. На рисунке, что необычно для Рембрандта, выполненном коричневой тушью, оттеняемой белым тоном, запечатлен слепой поэт; одной рукой он сжимает посох, другой делает какие-то резкие движения, возможно подчеркивая ритм произносимого стиха. Яркий свет падает на правое плечо и на лицо Гомера. Однако луч света скользит по плоскости рисунка и далее, к сидящему за столом ученику, который не сводит со старика завороженного взора: так Рембрандт на уровне чудесных зрительных образов воплощает свою идею «просветления».
Несчастный, искалеченный холст, находящийся в Маурицхёйсе, многое утратил, но сохранил нечто важное, не в последнюю очередь вдохновенный образ эпического поэта, перед которым Рембрандт явно благоговел. Он вновь пытается передать посредством живописной манеры сущность персонажа: грубоватую простоту, большие выразительные руки, фигуру патриарха, бесформенный, без всяких украшений плащ, словно излучающий какое-то поэтическое сияние. Как и в случае с бюстом Гомера в «Аристотеле/Апеллесе», Рембрандт намеренно оставляет его глаза в тени. Однако на картине царит достаточно яркое освещение, чтобы мы могли заметить, насколько различаются обозначенные широкими, отрывистыми мазками руки и глаза, выписанные с великим тщанием. Ввалившиеся глазницы напоминают глубокие ямы, края век воспалены; верхние веки скрывает тень, в самом уголке нижнего века заметен крошечный отблеск света. Сами глазные яблоки черные и безжизненные, неспособные узреть мир. Но над ними, под сияющим челом поэта, возникают чудесные творческие видения.
Невзгоды пришли к Рембрандту незаметно, словно первые тяжелые капли дождя, ударившиеся о сухое оконное стекло и на миг отвлекшие от работы.
А потом небольшой дождь превратился в бурю. 1 февраля 1653 года к нему внезапно явился нотариус и вручил официальное уведомление о взыскании долга за недвижимость. Долги Рембрандта были суммированы по просьбе Христоффела Тейса, которого явно не умиротворили ни выполненный Рембрандтом офорт с изображением его загородного поместья, ни предложенные живописцем картины. Конечно, он проявлял снисходительность, но всему есть предел. Рембрандт обязался выплатить остаток стоимости за пять-шесть лет, хотя в купчей содержалась и оговорка «или как ему будет удобно». Четырнадцать лет превосходили всякое представление об «удобстве», и наконец Христоффел Тейс потерял терпение. Еще раньше, в январе того же года, он отказывался вручить Рембрандту купчую на дом, пока тот не уплатит налог на передачу прав собственности на недвижимое имущество. Счет составлял в общей сложности восемь тысяч четыреста семьдесят гульденов и шестнадцать стюверов, включая проценты и налоги. «В случае же дальнейшей задержки выплат, – следовало зловещее предупреждение, – предъявитель сего, ежели испытает нужду в средствах, оставляет за собой право подать судебный иск о взыскании долга, а также предпринять любые разумные шаги, дабы истребовать у Вашей Милости возмещения всех денежных сумм, процентов и издержек»[627].
Чтобы хотя бы отчасти выполнить эти требования, Рембрандту пришлось занять две крупные суммы денег. Первую ему ссудил Корнелис Витсен, патриций и капитан роты арбалетчиков, столь эффектно изображенный ван дер Хелстом на групповом портрете среди своих подчиненных, пирующих по случаю заключения Мюнстерского мира. Он одолжил Рембрандту четыре тысячи сто восемьдесят гульденов, и художник под присягой поклялся перед членами городского совета вернуть эти деньги в течение года. Деньги он взял под залог всего своего имущества. Хотя Витсен пребывал вне магического круга правителей, творивших амстердамскую политику после 1650 года, – де Граффов и Хёйдекоперов, – его звезда начала вновь восходить; спустя лишь несколько недель после того, как он одолжил Рембрандту деньги, его избрали одним из четырех бургомистров. А поскольку другие упомянутые магнаты демонстративно лишили Рембрандта своего покровительства и даже не пригласили его в числе прочих украшать новое здание ратуши, вполне возможно, что Витсен, как предположил Гэри Шварц, стал сознательно оказывать Рембрандту поддержку, чтобы подчеркнуть собственный аристократический вкус и заявить о своих политических амбициях[628]. Чтобы прослыть патрицием в Амстердаме середины XVII века, надлежало предстать в глазах окружающих Меценатом. Однако Рембрандт напрасно столь доверился Корнелису Витсену. Тот же автор язвительной эпитафии, что обвинял Витсена в пьянстве, обличал его как вымогателя и лицемера, «на посту магистрата снискавшего неприязнь граждан, ибо он едва ли не разорил их непосильными поборами, хотя и оправдывался, что он-де не корыстолюбив и должность эта была ему навязана»[629].
Однако весной 1653 года Рембрандту не приходилось выбирать кредиторов. Тысячу гульденов, предоставленную без процентов Яном Сиксом, можно было счесть жестом дружбы, но Рембрандту все равно отчаянно не хватало денег. Он занял еще четыре тысячи двести гульденов у некоего Исаака ван Хертсбека, пообещав, как и Витсену, возвратить их в течение года[630]. Неудивительно, что весь 1654 год он без устали писал картины!
Возможно, все кончилось бы хорошо, если бы его корабль благополучно вернулся из плавания. Однако, как он утверждал в своем прошении о «cessio bonorum», или добровольной передаче имущества кредиторам, он «понес убытки на море» и «убытки в делах»[631]. Что же произошло? Может быть, он опрометчиво вложил деньги в торговое судно, которое во время войны захватили англичане? Или оно затонуло с грузом пряностей где-то в Зондском проливе, или неподалеку от мыса Доброй Надежды его потопили ревущие штормовые ветры? И если уж мы об этом заговорили, как Рембрандт умудрился истратить без остатка двадцать тысяч гульденов, долю наследства, завещанную Саскией Титусу? Сколько же стоили фарфоровые казуары на самом деле? В конце концов, даже уступив неофициальный титул первого живописца Амстердама другим художникам, Рембрандт отнюдь не был забыт. Его картины продавал антиквар Иоганнес де Рениалме, оценивший одну из них, «Христос и грешница», в сказочную сумму – тысячу шестьсот гульденов. Однако это полотно было написано в «ювелирной» манере начала 1640-х годов, со множеством сюжетных деталей и причудливыми, подробно проработанными костюмами и архитектурой. Теперь же Рембрандта интересовали не столь затейливые и фантастические вещи. В начале 1654 года при посредстве Рениалме и другого антиквара, Лодевейка ван Людика, он попытался продать одну из своих картин некоему дельфтскому нотариусу[632]. Сделка не состоялась, когда выяснилось, что покупатель сам не имеет наличных денег и рассчитывает на прибыль от какого-то банкротства, а значит, у продавцов появились сомнения, сумеет ли он вообще заплатить за картину. Однако к договору купли-продажи они добавили весьма странное условие, а именно что все они обязуются держать сделку в строжайшем секрете от кого бы то ни было, «в особенности от Яна Сикса». И это несмотря на то или именно потому, что торговец предметами искусства ван Людик выступал поручителем, когда Сикс щедро дал беспроцентную ссуду Рембрандту!
Подозрительный характер несостоявшейся сделки свидетельствует, что Рембрандта охватила паника. Получив три займа, Рембрандт мог заплатить налог на передачу прав собственности и внести остаток денег за дом, но в таком случае оказывался в долговой кабале у новой компании кредиторов, причем некоторые из них, как, например, Витсен, отнюдь не отличались великодушием. Приближалась финансовая катастрофа, несчастье все туже опутывало его своими цепкими щупальцами. Когда он начал биться в кольцах чудовища, отчаянно тщась освободиться, оно лишь усилило хватку. В конце 1655 года он стал предпринимать осторожные шаги, пытаясь защитить своих близких, видимо, от уже неизбежного разорения. Титусу, которому исполнилось четырнадцать, было велено написать завещание, где особо оговаривалось, что если ему суждено скончаться прежде отца, то остатки наследства, завещанного ему Саскией, перейдут Рембрандту. «Завещатель не желает, – гласил документ, – чтобы какое-либо оставленное им имущество перешло к родственникам его с материнской стороны, если на то не будет особого распоряжения его отца»[633].
В декабре Рембрандт снял зал на Калверстрат, в трактире «Императорская корона», элегантном трехэтажном здании с гербом и скульптурами на фасаде, и выставил там на продажу какие-то свои вещи, предположительно предметы искусства. Однако выручить ему удалось сущие гроши, и это разочарование стало лишь первым в цепи несчастий, которые обрушатся на него в ближайшие годы. Неумолимо надвигалось разорение. Ни Гюйгенс, ни штатгальтер, ни Ян Сикс и, уж конечно, ни Корнелис Витсен не могли спасти его от долговой тюрьмы.
В мае 1656 года Рембрандт переписал дом на имя Титуса, пытаясь защитить эту собственность от посягательств своих заимодавцев. Данный маневр, хотя предпринятый в рамках закона, был сочтен несколько предосудительным и спровоцировал его кредиторов, которые немедля принялись угрожать Рембрандту судом из боязни потерять имущество, которое художник обещал им в обеспечение залога. В июле Рембрандт решил бесстрашно встретить катастрофу, словно святой Стефан – готовые обрушиться на него камни. Дабы упредить любые юридические шаги своих заимодавцев, он обратился в Верховный суд Голландии в Гааге с просьбой разрешить ему «cessio bonorum». Под этим латинским термином понималась форма банкротства, предоставляемая лицам, которые в глазах закона слыли достопочтенными гражданами и понесли финансовые потери по независящим от них обстоятельствам. Вероятно, Верховный суд внял уверениям Рембрандта, что он-де утратил свое достояние на море при гибели корабля, поскольку даровал ему «cessio bonorum», и отныне он был избавлен от личных притязаний заимодавцев. Впрочем, это был весьма холодный акт милосердия. Теперь художнику предстояло передать все свое имущество, движимое и недвижимое, в руки членов комиссии по делам о банкротстве, «Kamer van de desolate boedels», «Камер ван де десолате буделс», а те должны были точно оценить его стоимость, чтобы потом из вырученных денег расплатиться с кредиторами. Отныне он становился, в сущности, недееспособным и переходил под их опеку, и они могли как угодно распорядиться его свободой и его репутацией. Спустя двенадцать дней после того, как Рембрандту была дарована «cessio bonorum», пять членов комиссии: купцы, юристы, магистраты, сплошь безупречно честные граждане, – назначили распорядителя, в руки которого разорившийся художник передавал все, что имел. Само его имя, Хенрик Торквиний, являло упрек моту и расточителю, а в конце июля 1656 года он лично явился на Брестрат в сопровождении судебных приставов описывать все находящееся в доме имущество, начиная с «маленькой картины кисти Адриана Броувера, изображающей кондитера», висевшей в передней, и заканчивая несколькими воротничками и манжетами в прачечной.
Оторвался ли Рембрандт хоть на миг от работы, пока они расхаживали по комнатам, отворяя кладовки, шкафчики и сундуки, открывая альбомы рисунков и гравюр, усердно скрипя перьями по бумаге, посыпая песком свежие чернильные записи? Или он укрылся у себя в мастерской и продолжал писать, словно все это – ниже его достоинства? Или он встретил судебных приставов подбоченившись, в рабочем балахоне и высокой шляпе, с тем же решительным и несколько презрительным выражением лица, с которым запечатлел себя на рисунке, выполненном примерно в это время (с. 722)? Ведь сколь это ни удивительно, несчастья и горести, беспощадно обрушившиеся на живописца, отнюдь не умерили его творческой активности. Именно в 1655–1656 годах, когда в дверь его стучались кредиторы, а члены комиссии по делам о банкротстве описывали роскошный дом и богатые коллекции, обрекая его на нищету в недалеком будущем, Рембрандт создал несколько картин, чрезвычайно оригинальных по своему замыслу и необычайно запоминающихся.
Рембрандт ван Рейн. Воловья туша. 1655. Дерево, масло. 94 69 см. Лувр, Париж
Пожалуй, те из них, что навсегда остаются в памяти, словно пребывают в некоей сумеречной стране меж надеждой и гибелью. Вот на деревянной крестовине висит растянутая и выпотрошенная воловья туша, а из-за нее выглядывает посудомойка или кухарка, подчеркивая то противопоставление жизни и смерти, на котором Рембрандт уже строил «Девочку с мертвыми павлинами», однако на сей раз картина отчетливее говорит о жертвоприношении. Прежде, в конце 1630-х годов, кто-то в окружении Рембрандта уже писал похожую воловью тушу. Однако если на более раннем полотне ребра, потроха, жир, мышцы и пленки изображены с безупречным тщанием, достойным судебно-медицинского эксперта, а сама туша жутковато поблескивает, то Рембрандт набрасывается на своего вола с кистью, словно с разделочным ножом мясника. Его короткие плотные мазки взрезают, свежуют, режут, рубят, зачищают. Посредством этой яростно энергичной манеры Рембрандт добивается поистине зловещего результата, он одновременно и воскрешает эту тварь, и подробно изображает ее смерть, словно запечатлевая искалеченного мученика со снятой кожей в предсмертной агонии. В конце концов, эта картина датирована 1655 годом, а в это время дела у Рембрандта за пределами мастерской шли неважно. Может быть, ему вспомнилась гравюра Мартена ван Хемскерка, которая могла находиться в его коллекции и на которой было показано возвращение блудного сына к милосердному отцу, а символом всепрощения служило «заклание откормленного тельца»?[634] Или он просто предавался жалости к себе, как это было в «Охотнике с подстреленной выпью», отождествляя себя с мучеником, готовым вот-вот принять страдание и замершим между жизнью и смертью? На осенней распродаже всей его мебели, утвари и коллекций удалось выручить жалкие тысячу триста двадцать два гульдена и пятнадцать стюверов. Он остался должен тринадцать тысяч, а впереди открывалась нерадостная перспектива выплаты долга из остатков наследства Титуса. Неудивительно, что Рембрандт ощущал, как в крылья ему впиваются ножи для свежевания, а в кости – крючья.
На картине «Польский всадник» появляется столь же странное, призрачное существо, как будто живое, но вместе с тем умирающее. На сей раз это тощий серый одр, медленно бредущий в лучах мерцающего, болезненно-желтого света, на спине которого, в узком седле, красуется на удивление пригожий юноша, высоко поднявший колени, чтобы удержаться в коротких стременах. Вместо чепрака на спину клячи наброшена какая-то шкура, один ее угол загнулся, приняв очертания звериной лапы. Безбородый мальчик-муж глядит куда-то вдаль, его правый локоть обращен в направлении его взора, выражение его лица, особенно правой половины, неуловимо меняется, словно он увидел что-то страшное. Неужели и он – невинная жертва?
В любом случае можно сказать наверняка, что он поляк (или литовец) и что он написан Рембрандтом[635]. Кроме того, неизвестный заказчик едва ли рассчитывал, что она будет проникнута столь трагическим ощущением скорби и обреченности, а изображенный на ней юноша в расцвете лет будет неумолимо влеком к столь мрачной судьбе, что целые поколения станут раз за разом завороженно взирать на это таинственное полотно из коллекции Фрика. Ведь хотя «Польского всадника» интерпретировали совершенно по-разному: в нем видели и образ блудного сына в его скитаниях, и костюмированный портрет актера, исполнявшего главную роль в пьесе о Тамерлане (в случайно подвернувшихся польских одеждах), и воплощение «miles christianus», совершенного рыцаря без страха упрека, выступающего в поход против врагов Христовых, – судя по всему, какое-то литовское аристократическое семейство просто заказало Рембрандту портрет сына, учившегося в каком-то университете Голландской республики[636]. Только польский или литовский дворянин мог знать, как ездить на лошади по-польски, держась не прямо, а немного подавшись вперед, отведя назад правую руку, чтобы, если понадобится, быстрее схватить за навершие булаву-буздыган, а левой рукой сжимая удила[637].
В 1650-е годы знатные и богатые голландские патриции уже сами желали, чтобы их запечатлевали верхом, и такие художники, как Альберт Кёйп из Дордрехта, постепенно стали им угождать. Однако ни костюм, ни оружие, ни конь ни на одном из подобных портретов, в том числе на написанном Рембрандтом в соавторстве с кем-то из учеников конном портрете Фредерика Рихеля (1663), ничем не напоминают «Польского всадника». Вероятно, это был редкостный и весьма своеобразный заказ, а нашел его Рембрандту, вероятно, Хендрик ван Эйленбург, родившийся и выросший в Польше и до сих пор поддерживавший отношения с оставшимися там деловыми партнерами и родственниками. Ван Эйленбург, которому в то время было около семидесяти, и сам не мог считаться образцом финансового благоразумия. Выехав с Брестрат, он вел скитальческое существование и в конце концов стал арендовать дом на площади Дам, пока строительство нового здания ратуши не вынудило его перебраться в новое съемное жилище на углу Вестермаркт и Принсенграхт. К тому моменту, как Рембрандта постигло банкротство, ван Эйленбург сам задолжал городу за аренду жилья тысячу четыреста гульденов. Найдя Рембрандту выгодный заказ, он, возможно, получил комиссию, подобно тому как делал это двадцать лет тому назад, когда сотрудничал с художником.
Ван Эйленбург владел польским языком и потому наверняка мог оказывать какую-то помощь многим купцам из Восточной Прибалтики, жившим в Амстердаме и в том числе заключавшим сделки на бирже[638]. Возможно, он также был знаком с обитателем дома на Схапенстег, носившего название «Польский рыцарь» и украшенного декоративным рельефом с изображением горделиво подбоченившегося всадника в долгополом стеганом жупане на пуговицах[639]. Впрочем, любитель искусств, заказавший «Польского всадника», скорее всего, относился к совершенно иному типу поляков и жил с целым штатом слуг и домочадцами, далеко не бедно, в Голландской республике, иными словами, принадлежал к классу поместного дворянства. Представитель одного из подобных кланов Михаил Огинский, великий гетман Литовский, в 1791 году действительно преподнес эту картину Станиславу Августу, королю Польскому, вместе с шутливым посланием: «Сир! Посылаю Вашему Величеству казака, которого посадил на коня Рембрандт. Конь этот во время своего пребывания в моем стойле съел сена и овса на четыреста двадцать немецких гульденов. Справедливость и щедрость Вашего Величества позволяет мне надеяться, что апельсинные деревца расцветут в той же пропорции»[640].
Рембрандт ван Рейн. Польский всадник. Ок. 1657. Холст, масло. 116,8 134,9 см. Коллекция Фрика, Нью-Йорк
Хендрик ван Эйленбург хорошо знал этих людей. Его отец Герард и брат Ромбаут непосредственно вели дела со шляхтой в Кракове и Гданьске, поставляя ей утонченные предметы роскоши. Эти поляки повелевали крепостными, владели древними прибалтийскими лесами и тысячами акров золотистой пшеницы и серебристой ржи; вельможи в долгополых кафтанах, они до сих пор полагали себя сарматскими воинами, охотниками на рысей и зубров, даже если возводили изящные палладианские виллы с пилястрами и заказывали для их украшения фламандские шпалеры, турецкие ковры, голландскую кожу с золотым тиснением и голландские же изразцы. Чтобы возвести на трон избранного короля Польского и великого князя Литовского, необходимо было заручиться их поддержкой, и они гордились тем, что могут послать сыновей и холостых братьев на легких, быстроногих восточных скакунах в ряды кавалерии, противостоящей туркам. Значительное число этих вельмож сохранило верность протестантизму (некоторые исповедовали даже социнианство), и именно эти протестантские семейства, не в последнюю очередь литовская ветвь Огинских, отправляли своих сыновей в сопровождении лакеев и домашних учителей в голландские университеты, особенно Лейдена и фрисландского Франекера, где одним из светил богословского факультета считался свояк Рембрандта, исправившийся пьяница и развратник Иоганнес Макковий[641].
Едва ли Огинские относились к числу образцовых студентов, по крайней мере с точки зрения ректора и университетских профессоров. В 1643 году двоих представителей этого рода, Яна и Шимона Кароля, обвинили в участии в жестоком побоище, вспыхнувшем на улицах города между польскими и немецкими студентами, с одной стороны, и фрисландцами – с другой. Местные пострадали больше: один из студентов-богословов умер от проникающего ранения, нанесенного кинжалом, а другой получил удар ножом в плечо, пытаясь защитить своего друга. Шимон Кароль предстал перед судом, но был оправдан, поскольку ему удалось обратить показания немца, свидетеля обвинения, против самого этого немецкого студента[642]. Однако, выполнив перевод на латынь «Придворного» Кастильоне, Шимон Кароль, видимо, окончательно восстановил свою репутацию, так как был сочтен достойным руки дочери бургомистра Леувардена спустя всего два года после кровавой драки. В 1655 году, когда Рембрандт написал «Польского всадника», братья Огинские, с их двусмысленной славой, были уже значительно старше изображенного на картине, однако Рембрандт мог избрать в качестве модели их кузена Марциана Огинского, студента Лейденского университета, которому как раз исполнилось двадцать пять.
Приятно было бы предположить, что «Польского всадника» заказало то же семейство, в руках которого он пребывал в XVIII веке. Однако, даже если это не так и на тощем сером одре изображен не кто-то из молодых Огинских, почти фанатическое тщание, с которым Рембрандт выписывал причудливые детали костюма и вооружения своего современника, польско-литовского кавалериста, начиная от шерстяной, отороченной мехом шапки-кучмы до отрезанного конского хвоста-бунчука, украшающего сбрую, позволяют говорить о том, что он старался выполнить требования реального заказчика, а не показывал некий образ, целиком созданный его воображением[643]. Разумеется, Рембрандт, с его страстью к экзотическим костюмам и оружию, выполнил эту работу едва ли не благоговейно, озарив слабым сумеречным светом рукоять ятагана и навершие булавы. А вспышки ярко-красного цвета на шапке и узких штанах всадника не только оттеняют серебристый шелк жупана, но и создают эффект поступательного движения, словно неся всадника вперед по неширокой, обрамленной низким барьером дороге. Хотя средний и задний план лишь бегло намечены (настолько бегло, по контрасту с написанными широкими мазками, но совершенно четкими отпечатками конских копыт, что эти части картины, пожалуй, действительно выполнил ученик), можно различить, что дорога проходит вдоль реки, на противоположном берегу которой вздымается холм. На вершине его виднеется мрачная цитадель с плоским куполом, вроде тех угрюмых твердынь, что Рембрандт предпочитал использовать в качестве фона на своих лейденских исторических полотнах за тридцать лет до «Польского всадника». На заднем плане, кажется, дымит какой-то костер.
Нельзя отрицать, что весь облик героя напоминает о каком-то театральном действе. Но именно так, в желтых остроносых сапогах для верховой езды и с вышедшим из употребления колчаном для стрел, любило покрасоваться литовское дворянство и у себя на родине, и, что вполне простительно, за ее пределами. Некоторые представители польских и литовских аристократических семейств до сих пор сражались бок о бок с вегерскими гусарами в рядах кавалерии против турок, а идеалом польского конного воина служил Ян Собеский, которому предстояло спасти Вену от османской осады в 1683 году и обрести бессмертную славу. Поэтому картина Рембрандта вполне могла восприниматься как напоминание о немеркнущей славе рыцарства и найти почетное место на стене либо в голландском доме Огинских, либо в родовом замке посреди литовских лесов. Впрочем, на протяжении всей своей карьеры Рембрандт писал портреты, не нарушая указаний заказчиков, но одновременно неуловимо и незаметно выходя за их границы. А атмосфера трогательной и героической меланхолии, окружающая безбородого юношу, который куда-то скачет на коне под дымными, бледными небесами, отнюдь не мнится зрителю. Писал ли Рембрандт Яна Сикса, застигнутого меж публичной маской и тайным, истинным «я», или своего соседа, пожилого прапорщика Флориса Сопа, не лихого и щегольски одетого, а довольно плотного и приземистого холостяка-знаменосца, Рембрандту неизменно удавалось извлечь универсальное начало из личного, непосредственного присутствия своих персонажей, запечатлеть не только индивидуальность, но и этос. Этого он добивался, сосредоточивая внимание на ярких, значимых деталях: разводах и узорах на древке знамени в руках Флориса Сопа, наверняка выточенном из полированной березы, нечетких, размытых очертаниях перчатки, которую то ли снимает, то ли натягивает Ян Сикс. А в «Польском всаднике» атмосферу обреченности, без сомнения, создает странная гармония в облике верхового и лошади. Польские исследователи вполне справедливо замечали, что боевые кони восточноевропейских кавалеристов были значительно мельче и тоньше скакунов испанских пород, верхом на которых охотились и сражались в Западной Европе. А голова и шея изображенной на полотне лошади даже красивы. Однако, пусть Юлиус Хельд не прав и Рембрандт не использовал в качестве модели для «польского коня» лошадиные скелеты, выставлявшиеся в анатомических театрах, он действительно написал конские ноги так, словно от них остались кожа да кости. Кажется, будто лошадь, закусив удила и оскалив зубы, неумолимо влечет к какой-то роковой цели, к конечной и абсолютной гибели ничего не подозревающего всадника.
Рембрандт ван Рейн. Подготовительный рисунок к «Уроку анатомии доктора Яна Деймана». 1656. Бумага, перо коричневым тоном. Кабинет гравюр, Рейксмюзеум
Как ни странно, то же тревожное чувство, внушаемое соседством живых и мертвых, ощутимо и в «Уроке анатомии доктора Яна Деймана», завершенном спустя год после «Польского всадника», в 1656-м. В 1723 году эту картину уничтожил огонь, сохранился лишь небольшой центральный фрагмент, однако и дошедшая до нас малая часть вместе с подготовительным этюдом позволяют предположить, что это, вероятно, была одна из наиболее впечатляющих и вместе с тем наиболее жутких работ Рембрандта. Властная, притягательная странность этой картины представляется тем более смелой, если вспомнить, что это первый групповой портрет, выполненный Рембрандтом со времен «Ночного дозора», означавший признание со стороны целого общественного класса законодателей вкуса и меценатов, в котором он столь отчаянно нуждался.
Если мы посмотрим на подготовительный этюд, у нас может сложиться впечатление, что разорившийся Рембрандт изо всех сил старался угодить заказчикам и выполнить все их требования. По сравнению с бурной драмой, разыгрывающейся в «Уроке анатомии доктора Тульпа», картина 1656 года кажется морализаторской и мрачной, почти помпезной в своей монументальности, а ее персонажи симметрично группируются слева и справа от доктора анатомии. Труп, бывший при жизни неким Йорисом Фонтейном, арестованным за попытку ограбить склад сукон и напавший с ножом на тех, кто рискнул его задержать, показан в процессе вскрытия более реалистично: из его брюшной полости уже удалены пищеварительные и выделительные органы, а теменная часть черепной коробки уже снята, чтобы обнажить для исследования полушария мозга[644]. Все это представляется куда менее новаторским и вызывающим, чем ранняя картина, и, возможно, вполне потрафило вкусу хирургов.
Однако на самом деле этот более поздний «урок анатомии» был столь же оригинальным и нарушающим конвенции, сколь и первый. На сей раз Рембрандт перенес все свое внимание с движения и жестов на самоуглубленное созерцание. В «Докторе Тульпе» все говорило о Божественной природе движения, а предостережением о смерти служил лишь перст доктора ван Лунена, указующий на препарируемое тело. В «Уроке анатомии доктора Яна Деймана» абсолютно все властно напоминает о смерти и Божественном суде, символом которого выступает торжественное собрание хирургов. Обнажившийся мозг анатомируемого трупа убеждает зрителя в том, что мысль и разум, уникальный дар человечества, в еще большей степени, нежели двигательная способность, есть и вязкая масса кровавых сгустков, и высшее чудо творения, ведь Рембрандт превратил этот анатомический театр, располагавшийся на верхнем этаже Мясного рынка, в церковь, а картину – в ее алтарный образ. Низкая точка зрения, выбранная на картине, которая украшала зал гильдии хирургов, открывала зрителю ступни препарируемого тела, показанные в чрезвычайно резком перспективном сокращении, и темную призрачную полость на месте удаленного желудка, которую, словно жерди – шатер, еще поддерживали сохранившиеся ребра. Большие кисти рук и торс, опять-таки изображенные в ракурсе, и странно безмятежное лицо, написанное так, точно его окутывает покров благодати, несомненно, напоминают образы мертвого Христа, в особенности созданные Борджианни и Мантеньей. А само тело, показанное под прямым углом к плоскости картины, образует одну линию с доктором Дейманом, который, подобно Богу Отцу, возвышается над головой злодея, с любовью отводя назад твердые мозговые оболочки и разделяя полушария мозга, словно творит благословение. Трогательное, но тревожное ощущение религиозного таинства усиливает и образ хирурга, ассистирующего Дейману: это Гейсберт Калкун, сын того самого Маттейса Калкуна, который на первом групповом портрете хирургов низко склоняется над правой рукой доктора Тульпа. На более поздней картине Гейсберт Калкун нежно держит в руке отделенную черепную коробку, словно потир для Святого причастия.
На краю деревянного секционного стола, в его торце, заметна подпись Рембрандта, и у зрителя вновь складывается впечатление, что руки анатома и живописца вступили в поучительный тайный сговор. Большое число шедевров, написанных в середине 1650-х годов, имеют сходную композицию, а предмет мебели – будь то конторка Титуса, ложе Иакова, секционный стол доктора Деймана, – казалось бы, образующий на этих картинах барьер между визуальным вымышленным миром и реальным миром зрителя, изображен параллельно плоскости картины, но продолжается прямо до нижнего края, то есть «передней» части полотна. Можно подумать, что такой стол или постель будет отторгать нас от показанной на картине сцены. На самом деле этот композиционный прием создает совершенно противоположное ощущение, вовлекая нас непосредственно в пространство изображенных фигур. Как же Рембрандт этого добивается? Целиком заполнив передний план конторкой, постелью или столом, он упраздняет «раму», отделяющую нас от персонажей. Вместо этого у нас появляется иллюзия, будто нас, подобно безмолвным свидетелям, допустили внутрь изображаемой сцены.
Рембрандт ван Рейн. Урок анатомии доктора Яна Деймана. 1656. Холст, масло. Обрезан до размеров 100 134 см. Исторический музей Амстердама, Амстердам
Впечатление, что нам в виде великой милости позволено узреть едва ли не чудо на трогательной и прекрасной картине Рембрандта «Иаков, благословляющий сыновей Иосифа», усиливает отдернутый занавес – возможно, полог постели, на которой возлежит патриарх. Однако кровать действительно выходит за пределы пространства, отмеченные занавесом, и потому у нас возникает ощущение, что мы сами находимся в изножье этой богато украшенной постели и взираем на разворачивающееся перед нами действо, описанное в 48-й главе Книги Бытия. В ней повествуется, как патриарх Иаков, по-пежнему живя в Египте со своим сыном Иосифом и чувствуя, что дни его сочтены, предложил благословить своих внуков, Манассию и Ефрема. Иосиф левой рукой подвел Манассию к правой руке Иакова, дабы тот получил благословение первым, но, к его немалому удивлению и тревоге, Иаков возложил правую руку на голову его младшего сына, Ефрема, как сказано в Писании, «с намерением». Иосиф попытался было вмешаться: «Не так, отец мой, ибо это – первенец; положи на его голову правую руку твою». Но отец отказался, промолвив: «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньший его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ».
В апокрифическом Евангелии от Варнавы, написанном в начале христианской эры, но лишь недавно, в 1646 году напечатанном в голландском переводе, «обратный порядок» благословения рассматривался как пророчество исключительной важности. Согласно этому апокрифическому Евангелию, Ефрем, младший сын, был праотцем новой Церкви Христовой, которая действительно охватит «многочисленный народ», тогда как от семени старшего, Манассии, произойдут иудеи[645]. Художники, запечатлевшие этот ветхозаветный сюжет, изображали Иакова, который обманывает ожидания Иосифа, со скрещенными руками, словно пророчески предвосхищающего своим жестом тот крест, на котором примет мученичество Спаситель. Кроме того, многие изображали Иосифа глубоко пораженным или негодующим на ошибку отца.
Нетрудно вообразить, что Рембрандт, виртуозно показывавший внезапные вторжения, переполох, изумленные жесты, в 1630-е годы написал бы эту сцену, как того требовали конвенции: вот из соседней комнаты выбегает оскорбленный Иосиф, вот он хватает отца за скрещенные руки и пытается исправить его оплошность. Но это уже другой Рембрандт, и картину он пишет двадцать лет спустя. В первую очередь он думает не о споре, а о примирении. Кроме того, он начинает сочувственно изображать сцены семейного единения и душевного тепла. Поэтому на лице Иосифа не заметно ни следа негодования, вместо этого он глядит на отца с нежной сыновней заботой и лишь пытается осторожным движением, снизу, передвинуть его руку. Возможно, Иосифу даже удается рассмотреть важную деталь, почти скрытую от зрителя, – три пальца левой руки Иакова, покоящиеся не на голове Манассии, а на кудрях, ниспадающих по его щеке: так Иаков не дает формального благословения внуку, но, как пристало деду, вселяет в него уверенность, и потому на лице ребенка читается выражение невинного довольства.
В том же духе примирения и всепрощения Рембрандт добавляет на картине еще одного персонажа. Это жена Иосифа, которую иудейское предание считало дочерью египетского жреца, принявшего иудаизм и отвергнувшего идолов своих праотцев. Она одобрительно глядит на сцену, которая происходит у постели ее престарелого свекра. То же иудейское предание, которое могло быть известно Рембрандту от Менаше бен Исраэля, отводит Асенефе важнейшую роль в этой семейной драме, ведь Иаков, поняв, что не может благословить мальчиков в порядке, предусмотренном обычаем, вначале якобы вообще отказался благословить их и смягчился, лишь когда Иосиф стал умолять его смилостивиться над детьми «ради этой праведницы». Однако для Рембрандта, с его инстинктивной склонностью объединять отстоящие друг от друга, но затрагивающие сходные темы евангельские тексты, вставлять, вплетать один в другой, образ Асенефы содержит аллюзию на более ранний ветхозаветный эпизод из главы 27 Книги Бытия. Там говорится, как Ревекка обманывает слепого Исаака, заставляя его поверить, будто он благословляет старшего сына Исава, тогда как на самом деле он благословляет младшего Иакова[646]. На картине Асенефа, с ее ярко освещенным пригожим лицом, предстает невинной, бесхитростной, простодушной матерью – полной противоположностью коварной Ревекке, обманом лишающей Исава его законного благословения. Ведь свой замысел она осуществляет, обложив руки и шею своего «гладкого» сына Иакова «кожею козлят», и потому Исаак, прикоснувшись к нему, предположил, что дотрагивается до «косматого» Исава. Оттого на всякий случай Рембрандт набрасывает на плечи умирающего Иакова звериную шкуру, завязанную у него на шее и ниспадающую со спины; она призвана отсылать к более раннему эпизоду Книги Бытия.
А потом, нельзя забывать и о глазах Иакова, несомненно ослабевших, ведь в Писании говорится, что глаза его «притупились от старости; не мог он видеть ясно». Все эти печальные библейские персонажи, отцы и сыновья, пережившие роковые недоразумения, искупившие и не искупившие вину друг перед другом, словно ощупью пробираются во тьме, держась за ленту памяти. Слепой Иаков излучает яркий внутренний свет – свет благодати, падающий на его изголовье, на сей раз пуховую подушку, а не камень, тот же свет, в котором он некогда узрел ангелов, восходящих и нисходящих по лестнице, ведущей на Небо. Поэтому он повторяет поступок своего отца Исаака и, насколько возможно, стремится загладить вину перед слепым отцом и перед старшим братом, благословляя в свою очередь обоих внуков. Возможно, здесь Рембрандт отдает дань памяти и своему собственному ослепшему отцу, а также, перед лицом невзгод, гадает, чем сможет он благословить своего сына Титуса, что сможет оставить ему в наследство.
Рембрандт ван Рейн. Иаков, благословляющий сыновей Иосифа. Ок. 1656. Холст, масло. 175,5 210,5 см. Картинная галерея старых мастеров, Кассель
Парадоксальный образ Иакова не оставлял Рембрандта в 1656 году, ведь тогда же он выполнил офорт на сюжет «Сна Иакова»: действие происходит в Вефиле, глава персонажа покоится на каменном изголовье, а по небесной лестнице над ним восходят и нисходят ангелы. Этот маленький офорт задумывался как одна из четырех иллюстраций к каббалистическому трактату Менаше бен Исраэля «Piedra gloriosa, o Estatua Nabuchadnosor» («Славный камень, или Статуя Навуходоносора»)[647]. Возможно, Рембрандт не был филосемитом, каковым любит изображать его сентиментальная легенда, отверженным, прильнувшим к отверженным и причастившимся их глубокой скорби. Конечно, он неплохо ладил с некоторыми представителями еврейской общины Амстердама, например с Эфраимом Буэно (которого изображал не только он, но и Ливенс!), однако близкое знакомство вовсе не становилось гарантией приятельских отношений, и Рембрандт не раз ссорился со своими заказчиками и соседями – и евреями и неевреями. Мы можем сделать вывод, что человек он был неуживчивый и сварливый. Но с Менаше он, по-видимому, действительно подружился и глубоко его уважал. Разве мог он остаться равнодушным к рассказу о том, как отец Менаше трижды попадал в руки инквизиции и трижды пережил пытки и сын, дабы увековечить память отца, сделался светочем еврейской учености? Интеллектуальный космополитизм Менаше, его стремление видеть евреев даже, казалось бы, в полных им антиподах, живущих в самых отдаленных уголках земли, а значит, и его уверенность в том, что евреи, только рассеявшись по миру, смогут выполнить свое предназначение и ожидать явления Мессии, своим страстным экуменизмом не могли не привлекать Рембрандта, странствователя по вымышленным мирам.
Рембрандт ван Рейн. Четыре иллюстрации к «Piedra gloriosa» («Славному камню») Менаше бен Исраэля. 1655. Офорты. Кабинет гравюр, Рейксмюзеум
Если их взаимная симпатия и любопытство в конце концов и не нашли отражения в каком-либо глубоком сочинении или шедевре живописи, то, по крайней мере, вошли в историю как первый факт сотрудничества ученого раввина и протестантского художника, засвидетельствованный в печати. Судя по тому, что Рембрандт изобразил на прекрасном полотне «Иаков, благословляющий сыновей Иосифа» Асенефу, а также на протяжении всей жизни испытывал интерес к исламской, индийской, персидской культуре, ему, видимо, было близко экуменическое восприятие монотеистической религии. По той же самой причине, взалкав какого-то нового духовного утешения, он оновременно обратился к удивительно радикальному учению Адама Борела, которое отрицало существование единственной истинной веры и придерживалось еретического взгляда, что любая религия, включая иудаизм, в какой-то степени причастна Откровению. Борел дружил с Менаше бен Исраэлем и, подобно ему, живо интересовался религиозно-философскими памятниками иудаизма.
«Славный камень» объединяет четыре ветхозаветных эпизода, в трех из них мистическим образом появляется мессианский, ниспосланный Провидением камень, который меняет ход истории, как черный монолит в фильме Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года». На гравированных иллюстрациях Рембрандт изобразил камень, служивший изголовьем Иакову, когда тот узрел Божественную лестницу в Вефиле, камень, разбивший ноги «истукану Навуходоносора», а потом сделавшийся «великою горою», камешек, который Давид выпустил из пращи, поразив прямо в лоб великана Голиафа, а также причудливое видение Даниила, которому представилось, будто «четыре большие зверя вышли из моря, непохожие один на другого» (Даниил истолковал их как символы империй: Персии, Македонии и Рима, – грядущих на смену Вавилону). Все эти эпизоды так или иначе говорили о том, кому принадлежит истинная власть. Сколь бы темен ни был их смысл, Рембрандту, с его страстью к видениям, они явно показались неотразимыми, а изменения, внесенные им в разные состоянии офортов, явно свидетельствуют, что они с раввином подробно их обсуждали. «Нет-нет, – возможно, запротестовал Менаше, глядя на Иакова, спросонья потягивающегося, естественно, у подножия лестницы. – Его нужно поместить посередине». – «Между небом и землей, на средних ступенях лестницы? – возможно, переспросил Рембрандт. – Не может быть!» – «Нет, может, – упорствовал Менаше. – Ведь когда он спит, он мысленно пребывает в Иерусалиме, а Иерусалим есть средоточие мира».
Менаше бен Исраэля, как и Рембрандта, ожидало печальное будущее. В конце 1655 года, стремясь вернуть евреев в те страны, откуда они некогда были изгнаны, он пересек Северное море и отправился в Англию, чтобы отстаивать их интересы перед Оливером Кромвелем и протекторатом. Спустя два года он вернулся в Голландию, убежденный, что его миссия потерпела неудачу; с собой он привез тело своего сына, умершего в Англии. Сам Менаше разорился и умер от горя. Впоследствии его книга стала печататься не с офортами Рембрандта, а с довольно невыразительными и лишенными фантазии иллюстрациями еврейского художника Шалома Италии. Однако, поскольку Менаше послал «рембрандтовское» издание «Камня» лейденскому богослову Герарду Воссию, которому посвятил книгу, вряд ли ему могли чем-то не угодить причудливые и оригинальные картины, созданные гением художника.
Рембрандт ван Рейн. Титус за письменным столом. 1655. Холст, масло. 77 63 см. Музей Бойманса ван Бёнингена, Роттердам
Вероятно, Рембрандт был глубоко опечален судьбой Менаше и его сына. Во второй половине 1650-х годов образы отцов и сыновей часто возникают в его творчестве. В 1655 году Рембрандт написал Титуса, на мгновение отвлекшегося от школьной тетради: он оперся подбородком на руку, прижал большой палец к щеке, его мечтательный взор устремлен куда-то вдаль, кудри в изящном беспорядке ниспадают на плечи. Однако в этой картине явно есть что-то странное, ведь на ней запечатлено лицо не четырнадцатилетнего Титуса, каким оно было в 1655 году, а десяти-одиннадцатилетнего ребенка, словно отец вспоминает самые счастливые минуты его детства, ни дать ни взять перелистывает старый семейный фотоальбом. Еще более ярко интерес Рембрандта к тем чувствам, что испытывали друг к другу отцы и сыновья, проявился в созданном примерно в те же годы и выполненном пером и кистью рисунке, который Рембрандт в числе прочих скопировал с миниатюры эпохи Великих Моголов. Он точно передал черты Шаха Джахана в профиль, так, как они были запечатлены в оригинале, вариант которого Рембрандт, страстный коллекционер восточного искусства, либо когда-то видел, либо даже имел в своем собрании. Однако он добавил на рисунке еще одного персонажа, маленького толстощекого мальчика, подобно Титусу, сидящего за письменным столом. Лицо мальчика – удивительная деталь, которой не было на оригинальной миниатюре, в остальном воспроизведенной совершенно точно, и которая явно была добавлена не сразу, ведь черты ребенка намечены легкими штрихами тростникового пера, а не выписаны подробно, в отличие от черт его отца. Рембрандт даже закрасил нижнюю часть рисунка размывкой бистром, чтобы скрыть левую руку Шаха Джахана, в первом варианте опущенную вниз. Несколькими штрихами он изменил ее положение, «согнув в локте», и теперь, глядя прямо перед собой, Повелитель мира указательным перстом щекочет маленького сына под пухленьким подбородком.
Рембрандт ван Рейн. Шах Джахан с сыном. Ок. 1656. Японская бумага васи, перо коричневым тоном. Кабинет гравюр, Рейксмюзеум
Титус беспомощно наблюдал за тем, как разоряют и опустошают отцовский дом, и, хотя ему уже исполнилось пятнадцать, вполне мог нуждаться в подобном утешении. Дети банкротов страдают не меньше, чем дети – жертвы скандальных бракоразводных процессов. Сколько бы они ни убеждали себя в том, что это не их вина и что они не в силах отвратить катастрофу, они все равно почему-то ощущают свою ответственность за происходящее. Чувство стыда, которое он наверняка испытывал, лишь усилилось, когда, по большей части с добрыми намерениями, власти предприняли ряд мер, чтобы формально разделить имущество Титуса и имущество его отца. Ведь теперь, когда Титус остался на попечении разорившегося отца и мачехи, его гражданской жены, закон считал его сиротой, и вскоре после «cessio bonorum» власти объявили, что ему необходимо назначить опекуна, который защищал бы его интересы. Поскольку ни один близкий родственник не смог или не захотел взять на себя эти обязанности (более того, Хиския ван Эйленбург сама возбудила против Рембрандта судебный процесс), палата по делам сирот дала Титусу в опекуны некоего Яна Верваута. Возможно, Верваут недостаточно радел об интересах своего подопечного, потому что спустя два года, в 1658-м, его сменил Луи Крайерс, совершенно точно принявший оные близко к сердцу. Иными словами, он объявил Титуса еще одним неудовлетворенным кредитором Рембрандта, ведь по закону Рембрандт действительно остался должен своему сыну двадцать тысяч гульденов, унаследованных Титусом от покойной матери, но куда-то исчезнувших. Поэтому, если семья, как любят выражаться моралисты, – маленькое государство, то в государстве ван Рейнов воцарился хаос.
Однако, если закон и считал отныне Титуса заимодавцем Рембрандта, он становился и сообщником своего отца, так как Рембрандт все чаще вовлекал его в свои все более отчаянные попытки спасти от разорения хоть часть имущества. В 1655–1657 годах он заставил Титуса написать как минимум три варианта завещания, каждый из которых, еще более однозначно, чем предыдущий, был призван гарантировать, что Рембрандт, несмотря на банкротство, получит в свое полное распоряжение всю собственность, формально и по закону принадлежащую сыну, даже если тот, что, увы, впоследствии и случилось, умрет прежде него. Наследницей Титуса, согласно завещанию, назначалась его единокровная сестра, маленькая Корнелия, а Хендрикье выделялось содержание из «прибыли, полученной от использования этой собственности». А поскольку Рембрандт явно изо всех сил пытался передать во владение сыну как можно больше имущества, чтобы защитить его от ликвидаторов, он включил в последний вариант завещания условие, в соответствии с которым «отец завещателя имеет право не предоставлять никому на свете доступ к имуществу, оставленному завещателем, а также никому не давать отчет в том, как он распоряжается оным, а равно и не предоставлять опись указанного имущества, и не отдавать оное кому-либо в качестве залога или поручительства»[648].
Поэтому Титус не мог не осознавать, что обе стороны так или иначе пытаются его использовать, а катастрофу тем временем не удается предотвратить. Ему уже исполнилось пятнадцать. Пора было идти в уеники. Его отец сохранил рисунки сына, по большей части изображающие собак. Вероятно, Рембрандт, как и многие другие художники, имеющие сыновей, полагал, что Титус присоединится к нему в мастерской, станет учиться у него секретам ремесла, постигнет тайны изображения мимики и жестов, пространственной глубины и тончайших оттенков света и тени. Но сейчас Титус беспомощно глядел, как чужие люди бесцеремонно приходят в дом его отца и увозят предметы из великолепной коллекции, словно трофеи, обретенные на поле брани, пакуют в ящики алебарды и шлемы, без всякого почтения тащат в аукционные залы римские бюсты, распродают множество чудесных вещей, которые на протяжении всего его детства переполняли сказочную сокровищницу на верхнем этаже: кораллы и раковины наутилуса, львиные шкуры и пышные птичьи перья, тюрбаны и носовые флейты, а вместе с ними и жемчужины рембрандтовской «академии»: картины фламандцев и итальянцев, Броувера и Пальмы Веккио, рисунки Дюрера и Гольбейна. Все они, к немалому унижению художника, были проданы за бесценок. Вместе с ними ушли и его собственные картины: «Головы негров», «Снятие с креста», «Иероним», «Воловья туша», «Выпь», «Даная» и «Согласие в государстве». За примерно пятьдесят картин удалось выручить меньше тысячи гульденов. Как такое было возможно, если десять «рембрандтов» из собрания антиквара Иоганнеса де Рениалме были проданы за две тысячи? Может быть, покупатели тайно решились на обман и, мечтая приобрести за гроши бесценные полотна, заранее договорились поделить добычу, не повышая аукционной цены? Что ж, иногда почтенные люди так поступали, тут нечему удивляться. Кажется, с Апеллесом было покончено. Жаль. С другой стороны, чего же он хотел, мот и расточитель. Теперь они несли ответственность не перед ним, а лишь перед его картинами.
Его испытания все длились и длились, не прекращаясь ни в 1657-м, ни в 1658 году, кредиторы все торговались и ссорились между собой, настаивая, что именно их иск должно удовлетворить первым, а члены комиссии по делам о банкротстве выносили по их просьбам все новые и новые судебные решения, сидя в зале новой ратуши, над входом в который красовалось каменное панно с резными изображениями голодных крыс, снующих меж запертых сундуков и неоплаченных векселей. Гербранд Орния, сам богатый до неприличия, вдруг решил, что ему не обойтись без той тысячи гульденов, что некогда ссудил Рембрандту Сикс, и потребовал ее не у Рембрандта, которого защищало признание банкротства, а у его поручителя Лодевейка ван Людика. На возврате долга стал настаивать и Витсен, ссуду которого зарегистрировали члены городского совета, тем самым дав ему предпочтительное право получить свой долг по сравнению с другими заимодавцами. Время от времени Рембрандту надлежало являться перед членами комиссии по делам о банкротстве или ее кассиром и передавать деньги, полученные от продажи своего имущества, которые тотчас же вручались самому настойчивому и самому могущественному из кредиторов. Оттого, что он знал людей, от которых ныне зависело, как бы унизить его побольнее, ему не делалось лучше. Пивовар Корнелис Абба, за семь лет до этого выслушивавший Гертье Диркс, которая обвиняла Рембрандта в прелюбодеянии и нарушении обещания жениться, теперь наслаждался деталями его финансового краха. Рембрандт даже был знаком с директором аукциона, на котором распродавалось имущество банкротов, Томасом Харингом: в 1655 году он выполнил гравированный портрет его сына, где молодой юрист, с большим, кроличьим носом и выпуклыми, широко расставленными глазами, предстает довольно симпатичным.
Но теперь аукционный молоток Харинга возвещал утрату целых эпох его собственной жизни, запечатленных в красках, на холсте и на деревянных панелях и оберегаемых Рембрандтом столь тщательно и любовно: вот ушел «Товит», написанный его бывшим учителем Ластманом, уже четверть века как покинувшим этот мир, вот проданы «Две головы» и «Юнона» кисти ученика Ластмана Яна Пейнаса, вот он навсегда простился с девятью картинами старого приятеля Ливенса, который вернулся в Амстердам, не снискав особой славы и богатства за годы, проведенные в Англии и во Фландрии, и лишь теперь превзошел своего несчастного соученика. Что ж, все-таки они чего-то добились, каждый по-своему. Но, пожалуй, совсем не того, что предрекал им когда-то Константин Гюйгенс. Да и узнал ли Гюйгенс, живший теперь на покое в Гааге или в пригородном имении и уже лишившийся права обещать кому бы то ни было покровительство штатгальтера, о том, какие беды постигли его бывшего протеже? Вот снова опустился молоток, и кто-то приобрел пробные оттиски с гравюр, поправленные рукой Рубенса. Что ж, он так и не стал Рубенсом Голландской республики. Впрочем, кем-то он все-таки сделался, но уж точно не Рубенсом. Навеки уходили один за другим все источники его вдохновения: раскрашенные пейзажные гравюры Геркулеса Сегерса, головка херувима работы Микеланджело, которую он использовал для «Данаи» и «Ганимеда», весело распутничающие нимфы и сатиры Агостино Карраччи, альбом гравюр Луки Лейденского, за который он так дорого заплатил, и «драгоценная книга» рисунков Мантеньи, включающая наброски к «Триумфу Цезаря» и «Клевете Апеллеса». Теперь ему придется обходиться без музея или перенести этот музей в пределы собственного «gheest», каковым словом иногда обозначали «воображение», иногда «дух».
В начале 1658 года Рембрандт с горечью осознал, что никакие деньги, вырученные за личное имущество и художественную коллекцию, не позволят ему даже отдаленно удовлетворить требования кредиторов. В конце января в последней отчаянной попытке спасти дом он подтвердил передачу прав собственности на него Титусу. Его поддержал суд по делам о сиротстве, представители которого выступали в качестве опекунов Титуса и опасались, что ему не достанется материнское наследство. Однако Витсен, подобно бешеному быку, раз за разом бросался на противника и теперь, окончательно войдя в ряды власть имущих, получил все возможности отстаивать собственные интересы. 2 февраля 1658 года Витсен был избран на второй бургомистерский срок и спустя всего несколько часов явился в суд по делам о банкротстве, требуя, чтобы тот отменил передачу прав собственности на дом на Брестрат Титусу. Суд согласился.
Дом был продан с аукциона. Первый покупатель оказался «овцой», «schaep». Овцами называли подставных покупателей, мечтавших лишь получить вознаграждение, которое полагалось назначавшим высокую цену. Аукционисты должны были бы знать, с кем имеют дело. В конце концов, этот Питер Вейбрантс был каменщиком, а откуда каменщику взять тринадцать тысяч гульденов, которые он предложил? Однако «овцы» стекались на аукцион целыми стадами. Следующую цену, двенадцать тысяч, назначил гвоздильщик, но и он, подобно своему предшественнику, не сумел представить сведения о залоге, который обеспечил бы заключение сделки. С третьего раза два свояка, сапожник Ливе Сеймонс Келле и торговец шелком Самуэль Геринкс, предложили одиннадцать тысяч двести восемнадцать гульденов, на две тысячи меньше, чем та цена, которую заплатил Рембрандт, – и дом на Брестрат был продан им с молотка.
Участникам предстояло разыграть еще один фарс по правилам банкротства. 22 февраля Рембрандт наконец получил небольшую сумму денег, четыре тысячи сто восемьдесят гульденов, от продажи дома. Он взял эти деньги у судейского кассира и без лишних слов передал их человеку, который стоял рядом с ним, решительному и безжалостному Корнелису Витсену. Келле и Геринкс немедля разделили дом на Брестрат пополам, а предварительно снесли галерею, которую в свое время пристроил Рембрандт. В одну половину въехал сапожник со своей семьей; торговец шелком ненадолго вселился в другую, но вскоре перебрался в куда более роскошное жилище на Херенграхт. Что ж, Брестрат была уже не та. Люди, подобные Ластману, ван Эйленбургу или Пикеною, здесь уже не жили. Да и склочные соседи Рембрандта, Пинту, Бельмонте и Родригеш, а также большинство других португальских евреев, занимавших высокое положение в обществе, постепенно переезжали на набережные каналов.
Однако окрестности Брестрат были единственным домом, который до сих пор довелось знать Титусу: с соседями-евреями в высоких шляпах, толкующими о брильянтах, с овощным рынком на Хаутграхт, с мостом через Амстел, откуда он мог лениво разглядывать барки и прогулочные лодки, проплывающие на юг, в зеленую сельскую идиллию. Теперь им придется переехать; вместе с отцом, Хендрикье и маленькой сестрой им предстояло перебраться на Розенграхт, в маленькое съемное жилище, где у Рембрандта будет своя комната-мастерская. Титус знал, что Розенграхт не оправдывал своего названия, розы там не росли. Зато в изобилии водились соседские свиньи и бездомные собаки, забредавшие на задние дворы и снующие по «stegen en sloppen», узким неприглядным улочкам между рядами маленьких домишек. Зато они будут избавлены от сплетен и сочувственных взглядов. С помощью тех, кого они еще могли назвать друзьями, братьев Франкен и доброго Крайерса, они наконец спасутся от притязаний судов. Так почему бы им не переехать? А потом, в доме на Брестрат почти ничего не осталось. Он опустел, знакомые с детства вещи унесли, комнаты словно сделались больше и выше, а сами они усохли, точно старые улитки в раковине.
Но и он, и Хендрикье могли теперь помочь отцу, ведь они были свободны от тех цепей, что сковывали Рембрандта. Хендрикье удалось спасти кое-какие вещи, несмотря на протесты Торквиния, уверив судебных приставов, будто большой старый дубовый комод принадлежит ей одной и его нельзя продать с молотка, и до отказа набив его бельем, серебром и многим другим, что могло пригодиться им на новом месте. Да и он мог чем-то помочь. Отец велел ему сходить в городской ломбард и выкупить кое-какие вещи на деньги, оставшиеся от наследства матери.
Отец особенно хотел вернуть большое зеркало в раме черного дерева, посеребренное и плоское, вроде тех прекрасных зеркал, что изготовляются на фабрике Флориса Сопа. Поэтому 18 апреля 1658 года Титус отправился к ростовщику и выкупил зеркало, к радости всех заинтересованных сторон. У дверей ломбарда он нашел носильщика, который согласился донести тяжелое зеркало на Брестрат, и осторожно положил зеркало носильщику на голову. Но нести его было неудобно, и, как Титус, наверное, заметил, носильщик нетвердо держался на ногах. Когда ему пришлось пробираться сквозь густую толпу, его, наверное, прошиб пот, руки у него взмокли и задрожали. Возле моста Рюсланд, где разыгрывались ежевечерние лотереи, носильщик воскликнул: «Друзья мои, пожалуйста, осторожнее, не толкайте меня, я несу весьма дорогую вещь!»[649]
И тут, по словам двоих свидетелей, стоило ему сойти с моста, как раздался громкий звон и хруст, «eene groote knack». Свидетели подтвердили невиновность носильщика, который клялся, что не уронил зеркало. Он не упал, он ни на что не наткнулся. Выходит, зеркало разбилось само собою. Но прямо на глазах у Титуса оно разлетелось на тысячи мелких осколков, на булыжную мостовую обрушился зеркальный звездопад, и мальчику осталось принести отцу одну лишь раму – картину, на которой воцарилась пустота.
Глава двенадцатая
Полнота благодати
Опозоренный опускает глаза, внезапно умолкает посреди разговора. Разорившийся старательно избегает чужих взглядов, чтобы не заметить в них высокомерного снисхождения. Неся на себе постыдную печать, банкрот ускользает во тьму, подальше от испытующих взоров.
Поэтому совершенно естественно, что в 1658 году, переживая крушение всех своих надежд, Рембрандт изображает себя подобным богу, торжественно восседающим на троне, в золотистой сияющей мантии, гордо взирающим с олимпийских высот на дерзких смертных, строго поджавшим губы, но с лукавой, не лишенной надменности усмешкой в глазах. Облик его на этом великом автопортрете из коллекции Фрика совершенно лишен и готовности защищаться, и жалости к себе. Отнюдь не умаленный обрушившимися на него несчастьями, Рембрандт, напротив, словно возвеличен ими, он заметно расширяется и раздается на наших глазах, подобно джинну; он занимает своим телом все пространство картины и грозит выйти за пределы рамы, которой не под силу удержать его мощный и властный напор. Рембрандт где-то, возможно на гравюре, выполненной для «Иконографии», видел портрет однорукого фламандского художника-пейзажиста Мартина Рейкарта работы Ван Дейка: на нем Рейкарт предстает в сходной позе, сжимающим правой, и единственной рукой угол подлокотника, в ниспадающем до земли, отороченном мехом кафтане и в расшитом поясе[650]. Ван Дейк разместил Рейкарта в просторной комнате, на портрете он откинулся на спинку кресла, так что его тело располагается под углом к плоскости гравюры, он кажется одновременно величественным и расслабленным, во всем его облике читается покровительственность, он излучает леность и праздность. Но Рембрандт нисколько не расслаблен. Он выпрямился в кресле, так что свет падает не столько на его живот, сколько на мощную, выпуклую, воинственно выпяченную грудную клетку, напоминающую боевой панцирь. Золотистое одеяние плотно облегает его внушительное, грузное тело, он царственно восседает, широко расставив ноги.
Рембрандт ван Рейн. Автопортрет. 1658. Холст, масло. 133,7 103,8 см. Коллекция Фрика, Нью-Йорк
Рембрандт ван Рейн. Юнона. Ок. 1661–1663. Холст, масло. 127 107,5 см. Коллекция Арманда Хаммера, Лос-Анджелес
А потом зритель обращает внимание на его руки, крупные и мясистые, написанные с такой грубой выразительностью, что зритель не может отвести от них (оробевшего) взгляда. Ван Дейк, любивший изображать изящные, бессильно-томные руки, с тонкими, удлиненными перстами и лилейно-белой кожей, намеренно подчеркивает единственную руку Рейкарта, создавшую ему славу, и направляет на нее столь же сильный свет, сколь и на его лицо. Однако его рука покоится на подлокотнике кресла, образующем подобие пьедестала для всей остальной фигуры, и кажется непропорционально маленькой по сравнению с торсом. Рука Рембрандта, напротив, театрально является из пены белой краски, создающей рукав и манжету, костяшки его пальцев ослепительно-ярко освещены, суставы, особенно на большом пальце, подчеркнуты так, чтобы созерцатель непременно заметил связь между мощью и силой изображенной части тела и инструментом, которым она была написана. Левая рука выполнена еще более грубо, чтобы рельефнее выделить серебряный поблескивающий жезл с круглым навершием. Шарообразное окончание жезла, напоминающее головку муштабеля, – единственное, что указывает на ремесло изображенного на холсте. Но ни одному муштабелю никогда не придавали столь причудливой формы. Возникает впечатление, что орудие ремесла сменил атрибут царской власти, жезл полководца, посох мага, скипетр правителя.
Возможно, перед нами действительно царь богов, ведь, хотя автопортрет из коллекции Фрика всегда рассматривался отдельно, он, как предположил Леонард Слаткес, мог иметь пару. Это столь же необычайная «Юнона», для которой позировала Хендрикье Стоффельс; ее нельзя назвать в строгом смысле парной к автопортрету, так как она была создана по крайней мере три года спустя после картины из коллекции Фрика. Соблазнительно, однако, вообразить, что «Юнона» – дань памяти Хендрикье, столь же неземной и идеализированной, сколь и Саския на посмертном портрете (с. 647). Рембрандт пообещал «Юнону» в залог одному из кредиторов, никак не желавших оставить его в покое, Хармену Бекеру, и потому у него могло возникнуть желание эпатировать заимодавца, изобразив свою вторую жену в столь же царственном облике, что и самого себя незадолго до этого. Смертная Хендрикье, которой суждено было уйти из жизни в 1663 году, предстает на полотне небесной Юноной, хранительницей очага Юпитера. Поэтому, подобно Рембрандту, она восседает на троне и держит в руке массивный жезл. На лице ее застыло уверенное, упрямое, властное выражение, на ней роскошное, сплошь затканное драгоценными камнями одеяние и царская горностаевая мантия, на ее пышной груди возлежит тяжелая самоцветная гирлянда, а самое главное, в ней легче, чем в ее супруге, узнать повелительницу богов, ведь главу ее украшает олимпийский внец, а в спутники ей дан павлин, традиционный атрибут Юноны[651]. Выходит, Рембрандт становится для Хендрикье тем же, кем Юпитер был для Юноны. Банкрот и падшая женщина провозглашают себя царем и царицей бессмертных, неуязвимыми для злобы и клеветы обычных людей.
Якоб Нефс по оригиналу Антониса Ван Дейка. Портрет Мартина Рейкарта. 1630-е. Гравюра резцом из «Иконографии». Кабинет гравюр, Рейксмюзеум, Амстердам
Едва ли эти картины можно интерпретировать как признание своей вины. Каждый стремительный мазок, оставляющий на холсте густую полосу краски, каждый змеящийся узор из красочных узелков на расшитом воротнике Рембрандта или на темном, наложенным толстым слоем импасто лифе и корсаже Юноны словно заявляет о дерзости живописца, сравнивающего себя с Юпитером[652]. Даже если бы к этому времени он и не пережил банкротства, этот автопортрет все равно совпал бы с поворотным пунктом в его карьере, ведь именно в тот момент он навсегда распрощался с лихорадочной, взволнованной театральностью Рубенса, оставив мечты добиться такого же признания и богатства, что выпали на долю фламандцу. В подобный период своей карьеры Рубенс уже был помещиком и владел девятью участками земли в Антверпене и его окрестностях. Трое монархов посвятили его в рыцари, во всем мире его превозносили как величайшего автора исторических полотен своей эпохи. А Рембрандт был банкротом; со своей гражданской женой-служанкой, отлученной от Церкви, он жил в скромном доме в Иордане, квартале колокололитейных мастерских, матросских пивных и заводов по производству селитры. Но даже когда художники, взявшие за образец исторической живописи Рубенса или Пуссена, стали постепенно списывать его со счетов или снисходительно, нехотя принимать как «безнадежно устаревшего фантазера», Рембрандт переосмыслял правила живописи или, как впоследствии проницательно заметит Уильям Хэзлитт, становился «законодателем искусства»[653].
Рембрандт ван Рейн. Борьба Иакова с ангелом. 1658. Холст, масло. 137 116 см. Картинная галерея, Государственные музеи, Берлин
Невольно избавленный от тяжкого бремени мира, Рембрандт перенес самое его вещество на холст и стал накладывать слои краски так, чтобы сотворить маленькую вселенную невиданной прежде яркости, сложности и многообразия. Вместо того чтобы скрыть процесс создания картины или повторить его в сюжете, в наиболее радикальных по своему творческому замыслу работах последнего десятилетия он превращает создание полотна, манеру наложения краски в сюжет картины[654]. Освобожденная от необходимости изображать форму буквально, на чем настаивали все его современники, его манера обращения с краской зажила собственной, скитальческой жизнью: кисть Рембрандта оставляла на холсте влажные, неряшливые пятна, медленно влеклась по шероховатой поверхности, протягивая длинные линии, кружилась на избранном фрагменте, покрывала целые участки легкими мазками, испещряла полотно мелкими капельками, закрашивала большие части холста, мокрая, шлепала по мокрым лужам алла прима, месила краску, словно тесто или глину, царапала полотно, проводя на влажной краске бороздки, вылепливала из пигмента почти осязаемые, едва ли не объемные формы, по своей плотности приближающиеся к скульптурам, но сияющие внутренним светом духовного озарения. Великим шедеврам Рембрандта 1660-х годов свойственна одновременно и физическая тяжесть, и призрачная легкость; они осязаемые и земные, но одухотворяемые искупительным светом благодати.
Именно так он пишет «Борьбу Иакова с ангелом», и у него получается не столько схватка, сколько объятие. В 1630-х годах их бой предстал бы яростным водоворотом, образуемым мускулистыми телами двоих атлетов, но на сей раз он кажется тихим, дремотным, неповоротливым, странно замедленным, как бывает в сновидениях. Хотя Библия упоминает лишь о том, что Иаков боролся с Незнакомцем «до появления зари», у Рембрандта праотец тщится одолеть таинственного противника, как сомнамбула, сражающийся с нематериальным, но явственно ощущаемым врагом. Ангел, которого Рембрандт наделил самым прекрасным лицом во всей своей живописи (возможно, идеализированной версией черт Титуса), обрамленным густыми, упругими локонами, один из которых, виясь спиралью, ниспадает ему на шею, нежно взирает из-под сияющих век на закрытые глаза Иакова и обхватывает его шею и талию со страстностью возлюбленного. Впрочем, избежать увечий все равно не удается. Правой ногой ангел упирается в утес, а Иаков, судя по напряженным мышцам верхней части спины и плеч, буграми вздувшимся под темно-красным хитоном, изо всех сил пытается опрокинуть Незнакомца. Левой рукой ангел решительно взялся за бедро, а точнее, за «состав бедра» Иакова и вот-вот «повредит» его. Праотец уже искалечен, но упрямо, не видя противника, ощупью продолжает борьбу, тесно прижимаясь к сияющей белоснежной груди ангела; Иаков беспомощен, но вознамерился во что бы то ни стало удержать противника в своих объятиях: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И он получает благословение, и отныне навсегда остается хромым, и несет свою хромоту как знак благодати, знак, что отныне имя ему – Израиль, а не Иаков, что он «видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа [его]».
Рембрандт ван Рейн. Моисей со скрижалями Завета. 1659. Холст, масло. 168,5 136,5 см. Картинная галерея, Государственные музеи, Берлин
Сочетанием глубокой серьезности и небесного озарения отмечен и «Моисей со скрижалями Завета», написанный Рембрандтом примерно в то же время, что и «Иаков», и, возможно, даже предназначавшийся автором для залов нового здания ратуши на площади Дам. Судя по всему, оба этих холста когда-то были обрезаны, а в изначальном размере, видимо, производили еще более сильное впечатление своими фигурами в человеческий рост, помещенными в плоское, отвесное пространство картины, для которой выбран низкий угол зрения, чтобы исполненный трепета созерцатель благоговейно воспринимал изображенное как ниспосланное свыше видение. И в «Иакове», и в «Моисее» Рембрандт ограничивается палитрой Апеллеса. Но цветовая гамма «Моисея» даже более скудна, чем колорит «Иакова», она почти монохромна, в ней преобладает желто-коричневый, дымящиеся утесы Синая переданы грязноватыми пятнами и кляксами и имеют размытые, нечеткие очертания, а пророк облачен в простой хитон, и весь облик его столь груб и приземлен, словно сам он высечен из камня. Самый мрак, царящий на картине, лишь усиливает тот свет, что проникает в визуальное пространство полотна, и это соответствует тексту Библии, ведь Книга Исхода (34: 29) подчеркивает, что, спускаясь с горы, Моисей «не знал, что лице его стало сиять лучами». Христианские толкователи Пятикнижия предположили, что древнееврейское слово «keren» означает «рога», хотя у него есть также значение «луч света». Отсюда зародилась традиция изображать Моисея с рогами на лбу, в частности воплощенная Микеланджело в надгробии папы Юлия II. Рембрандт одновременно и продолжает, и несколько смягчает эту традицию, показывая Моисея не с роговыми выростами на голове, как было принято на гравюрах XVII века, изображающих Моисея и десять заповедей, а с пучками, круто выгнутыми прядями волос на макушке. Моисей, руки и лик которого сияют чистым неземным светом, возвышается на выступе утеса, преображенный Откровением, на самой границе между бренным и потусторонним миром. Подобно Иакову, «боровшемуся с Богом» и получившему чудесную способность «одолевать человеков», Моисей также назначен Господом посредником между Его Божественной волей и жестоковыйным избранным народом, и на него также возложено тяжкое бремя и неблагодарная задача вести грешных смертных к спасению, на что он немало сетовал.
Рембрандт изображает Моисея во время его второго нисхождения с горы Синай, несущим скрижали с начертанными на них десятью заповедями (на картине они выписаны золотом по черному мрамору, как это было принято в кальвинистских церквях Голландии). Некоторые искусствведы высказывали мнение, что Рембрандт изобразил более ранний момент (Исход 32: 19), когда, узрев золотого тельца, Моисей разбивает скрижали[655]. Однако в Библии отчетливо говорится, что Моисей разбил скрижали не на горе, а уже спустившись вниз, когда «приблизился к стану» и «увидел тельца и пляски». Подобно тому как делал это в «Иакове, благословляющем сыновей Иосифа» и в многочисленных других картинах на исторические сюжеты, Рембрандт, изображая более позднюю библейскую сцену, одновременно отсылает и к более ранней. Поэтому уголки рта у Моисея обращены вниз, лоб гневно нахмурен; пророк исполнен сурового и властного осуждения. Он словно вспоминает идолопоклонство и разврат, чинимый его соплеменниками, когда он в первый раз нисходил с горы. Однако Рембрандт также хотел бы, чтобы мы вообразили множество кающихся грешников, собравшихся у подножия горы Синай; несмотря на все их буйство и распутство, Господь все же дал им Завет, снисходя и благоволя к праведнику Моисею. Тем самым сюжет картины можно интерпретировать как ниспослание Божественного милосердия в особенности недостойным оного, которое чрезвычайно точно соответствует духу кальвинистской доктрины спасения единственно через благодать. По понятным причинам в последние годы жизни оно весьма занимало Рембрандта.
Фердинанд Бол. Моисей со скрижалями Завета. 1662. Холст, масло. 423 284 см. Королевский дворец, Амстердам
В 1662 году картину «Моисей со скрижалями Завета» повесили на стене Зала городского совета («Schepenkamer», «Схепенкамер») в ратуше[656]. Но это была не картина Рембрандта. Она принадлежала кисти ученика Рембрандта Фердинанда Бола, и ее кричаще-яркие киноварные тона и глубокая лазурь, четкие очертания фигур и театральные позы отчетливо демонстрировали, сколь разошлись пути ученика и учителя. Нельзя сказать, что Бол отверг уроки мастера, полученные в 1630-е годы; скорее наоборот, это Рембрандт несказанно изменился с тех пор, как изо всех сил тщился превзойти Рубенса, играя по его правилам в создание визуального театра. Зато в «Моисее» Бол прямо заимствует композицию рубенсовского «Успения Богоматери», заменяя возносящуюся на небеса Деву Марию пророком Моисеем и с упрямым живописным буквализмом перенося с картины Рубенса группу кающихся грешников, благоговейно замерших внизу. Изображая своих героев, Бол доводит до абсурда язык жестов, к которому, разумеется, иногда прибегал и Рембрандт, однако у его ученика руки персонажей умоляют, творят молитву, заклинают, удостоверяют, восклицают, приветствуют, словно на иллюстрациях из словаря жестов Джона Бульвера «Хирономия», опубликованного в 1650 году. Возникает впечатление, будто Бол выбирал в словаре тот или иной жест, а потом просто приделывал к рукам подходящее тело. Вряд ли Рембрандт и Бол каким-то образом соперничали, стремясь получить заказ для Зала городского совета, но старший мастер, возможно, написал «Моисея» в надежде, что он придется по вкусу какому-то богатому ценителю живописи. Если он питал подобные надежды, то ему суждено было пережить разочарование. Образованное общество требовало картин в манере скорее Бола, нежели Рембрандта.
Николас ван Хелт Стокаде. Иосиф, раздающий хлеб в Египте. 1656. Холст, масло. 175 175 см. Королевский дворец, Амстердам
Фердинанд Бол вошел в группу амстердамских художников – авторов картин на исторические сюжеты, которых отцы города мобилизовали украшать великолепно отделанные просторные залы новой ратуши напыщенными морализаторскими полотнами. Каждый холст на тот или иной сюжет из Библии или из классической литературы был призван воспевать добродетели чиновников, занимающих соответствующие должности[657]. Поэтому в кабинете штатного городского казначея, ответственного за выплату государственных денежных пособий, красовалась картина Николаса ван Хелт Стокаде «Иосиф, раздающий хлеб в Египте». На ней надменный патриций снисходительно приказывает свите «мелких чиновников» оказать помощь изможденным матронам и испуганным кормящим матерям, пока обычный атлетический кордебалет с трудом перетаскивает переполненные мешки с зерном. А в святая святых, Зале совета («Raadzaal», «Радзал»), тридцать шесть магистратов, ядро амстердамского правительства, вершили судьбы города под картиной Флинка «Соломон, молящий о ниспослании мудрости».
Флинк и Бол яростно соперничали за важные заказы, и это неудивительно, ведь первому за картину для зала бургомистров заплатили сказочную сумму, полторы тысячи гульденов, – примерно столько Рембрандт получил за одно-единственное полотно лишь однажды, когда написал «Ночной дозор». В конце концов обоим фаворитам властей предержащих были выделены пространства над камином на противоположных стенах, и они послушно украсили отведенные им участки образцовыми воплощениями соответственно неподкупности и твердости. Спустя четыре с лишним столетия обе эти крупноформатные картины производят своей напыщенностью непроизвольно комическое впечатление, поскольку на одной из них действие разворачивается вокруг репы, а на другой – вокруг слона. Репа Флинка, экземпляр, достойный приза на любой сельскохозяйственной выставке, выращена непритязательным, предпочитающим сельскую жизнь на лоне природы консулом Манием Курием Дентатом. Дентат прижимает овощ к груди, словно защищая от посягательств изнеженных самнитов (подозрительно напоминающих венецианцев), которые лелеяли тщетную надежду, что заставят его изменить долгу, преподнеся золотую посуду. На противоположной, северной стене, уже на картине Бола, царь Пирр, в тюрбане, «спускает с поводка» неистово трубящего слона в отчаянной попытке сломить дух неустрашимого (и, надо ли говорить, неподкупного) Гая Фабриция и принудить его сдаться. Глядя на суровое выражение лица консула, можно тотчас понять, что Пирровы усилия бесплодны и честь Римской республики останется незапятнанной. Будьте уверены, словно объявляли эти картины амстердамским бюргерам, на страже ваших интересов стоят городские власти, столь же непогрешимые в своей гражданской добродетели. В конце концов, в XVII веке было принято переводить латинское слово «консул» голландским «бургомистр». А чтобы наверняка донести послание до умов граждан, под указанными картинами часто помещали беспощадно нравоучительные стихи, сочиненные, в частности, Вонделом, Гюйгенсом и неумолимо плодовитым Яном Восом.
Почти все эти крупноформатные картины, столь высоко ценимые и хорошо оплачиваемые в свое время, сегодня кажутся откровенно неудачными и вызывают одну лишь неловкость: скучные и тяжеловесные в своем творческом замысле, с громоздкими фигурами, замершими в неуклюжих позах, хотя и заимствованными из классических образцов, они катастрофически перенаселены и странным образом сочетают слащавый мелодраматизм с бескровной невыразительностью. Иногда, как, например, в случае с кишащим херувимами «Соломоном» Флинка, они напоминают алтарные образы, почему-то не попавшие в церковь. Иногда они более походят на благочестивые картины-эпитафии, которым место скорее в мавзолее. В современной искусствоведческой литературе почему-то установилась традиция давать этим вымученным и надуманным полотнам более высокую оценку, чем они того заслуживают, причем исследователи опираются на мнения критиков XVII века, провозглашавших «современность» и новаторство подобных картин по сравнению с «реакционностью» той драмой светотени, к которой по-прежнему тяготел «ретроград» Рембрандт. Точку зрения безыскусного созерцателя, что картины в ратуше – на самом деле третьеразрядные упражнения, лишенные хоть сколько-то живой убедительности, что им недостает ни трагического величия, чтобы сравниться с Пуссеном, ни подчеркнутой театральности, чтобы сравниться с Рубенсом, теперь принято отвергать как невежественную и антиисторичную, наивную и цепляющуюся за устаревшие штампы. Злосчастная и вульгарная одержимость Рембрандтом, Рембрандтом и еще раз Рембрандтом якобы не дает нам увидеть неоспоримые достоинства творчества ван Хелт Стокаде и Фердинанда Бола.
Нужно обладать извращеным представлением об оригинальности, свойственным академическим кругам, и совершенно распрощаться со здравым смыслом, чтобы заклеймить Рембрандта как мрачного реакционера и приверженца устаревших вкусов и одновременно превозносить «классицистов» как авангард тогдашней живописи. На самом деле это означает путать уникальность и моду. Флинк, Бол, ван Хелт Стокаде и другие члены «ратушной бригады», безусловно, полагали себя наиболее талантливыми авторами исторических картин своего поколения. Многие из них покинули гильдию Святого Луки и основали свое собственное братство художников, члены которого могли на равных общаться с поэтами, не запятнанными низменным ремеслом. Образовав собственное общество, они совершенно искренне стали эксплуатировать естественное желание голландских олигархов 1660-х годов восприниматься как придворные аристократы сопредельных стран, где портретисты и авторы картин на исторические сюжеты славились ученостью и изяществом. В результате их возвышенные творения были обречены угождать патрицианскому вкусу куда более последовательно, нежели работы Рембрандта, который обнаруживал все более глубокое безразличие к потребностям высокопоставленных заказчиков и, нисколько не желая скрывать традиций своего ремесла, напротив, всячески обнаруживал их и демонстрировал приемы своего искусства. Художники-классицисты, возможно, чувствовали, что прошлые успехи Рембрандта сводят на нет все усилия их братства, жаждавшего предстать в глазах публики новой академией. Поэтому они решили перевести часы назад и вернуться к предписаниям и правилам благопристойности, на которых соответственно сорок и пятьдесят лет тому назад настаивали ван Мандер и Питер Ластман и которые Рембрандт решительно отверг в 1629 году. Они снова стали населять свои картины величественными, превосходящими простых смертных персонажами, облаченными в роскошные одежды, помещать их на возвышение: трибуну или лестницу – на фоне грандиозных архитектурных сооружений, смутно напоминающих Древний Рим (и непременно включающих колонны, плоские купола, арки, крытые галереи и статуи), окружать их толпами статистов в академических позах, зачастую заимствованных с классических образцов, каковых статистов они затем продуманно расставляли в пространстве ниже главного героя, и, наконец, неизменно добавляли какое-нибудь животное: собаку, лошадь, козу или овцу, – дабы гарантированно позабавить публику.
Говерт Флинк. Неподкупность Мания Курия Дентата. 1656. Холст, масло. 485 377 см. Королевский дворец, Амстердам
Именно этого и жаждали патрицианские правящие круги Амстердама, наконец-то добившиеся признания своего отечества наравне с величайшими империями прошлого: Афинами, Тиром, Римом и Карфагеном. Их нисколько не интересовала смутно мерцающая глубина, окутанные мраком или озаренные ослепительным светом фигуры и уж тем более не могло привлечь загадочное противостояние внешнего мира и духа. Они сами представляли внешний мир, были неоспоримыми властителями его гигантских территорий, от Формозы до Суринама, и не спешили пополнять свои коллекции холстами, более всего напоминающими метафизические размышления, каковым лучше предаваться наедине с собой. А вот обществу надлежит предъявлять совсем другие полотна: исторические, однозначно понятные зрителю, с отчетливым сюжетом, со множеством деталей и ясным моральным посланием; скорее величественные, чем поражающие глубиной, они должны быть основаны на предостерегающих или назидательных историях из сочинений классических авторов, которыми их мучили в латинской школе и о которых они редко вспоминали впоследствии, но любили видеть на сцене. Свои потолки они тоже предпочитали украшать типовыми аллегорическими фресками, воспевающими добродетельное правление, как и полагается, под покровительством богов: Меркурия, Минервы и Аполлона. И они прекрасно знали, кто потрафит их вкусу: авторы прозрачных, безусловно понятных, хотя и уснащенных учеными аллюзиями картин, персонажи которых показаны в сильном, ярком освещении (ведь новое здание ратуши было спроектировано так, чтобы пропускать как можно больше света), художники, которые сполна оправдают недурную оплату, населив холсты стаффажем в пышных одеяниях, воздвигнув в визуальном пространстве величественные архитектурные сооружения и разыграв в нем подобие сценического действа. «Верительными грамотами» мог служить опыт учебы у Рубенса, поэтому пользовались популярностью его бывшие ученики Якоб Йорданс и братья Эразм и Арт Квеллины, или у Ван Дейка, поэтому находили спрос картины Яна Ливенса, который, со времен своего возвращения в Амстердам в 1643 году, изо всех сил тщился подражать фламандскому мастеру, а не своему старому приятелю по лейденской мастерской. Ливенс внес свой вклад в оформление ратуши, написав «бургомистра» Фабия Максима, приказывающего своему отцу спешиться из уважения к высокой сыновней должности.
Добиться успеха в блистательном и жестоком амстердамском мире середины века для художника означало не только уметь воспроизводить готовые живописные формулы, но и всячески культивировать полезные социальные и политические связи. Несмотря на успех «Ночного дозора», лучший заказ достался Флинку, надежному художнику, от которого никто не ожидал сюрпризов: именно он написал групповой портрет стрелковой роты, празднующей заключение Мюнстерского мира в 1648 году. В 1652 году он сделал еще один важный шаг в карьере и стал писать уже не патрициев, а принцев, в частности курфюрста Бранденбургского. Два года спустя Флинк изобразил Амалию Сольмскую, оплакивающую Фредерика-Хендрика. Ступенькой ниже в иерархии популярных живописцев располагались художники вроде Бола и ван Хелт Стокаде, регулярно получавшие заказы от олигархов – представителей крупных торговых династий, которых вполне удовлетворяло достигаемое портретное сходство, и даже умевшие проникнуть в круг своих богатых и могущественных патронов на правах друзей и родственников. В частности, Бол запечатлел себя на портрете в облике патриция, явно мечтая войти в число сильных мира сего, и считал свою работу для ратуши шансом возвыситься. Он не был разочарован. 8 октября 1669 года, в день, когда Рембрандт был похоронен, его бывший ученик Бол, сын дордрехтского хирурга, обсуждал условия брачного контракта, собираясь жениться на сказочно богатой Анне ван Аркел, а после свадьбы оставил живопись и стал одним из правителей города. И наконец, нижнюю ступень иерархической лестницы занимали художники скорее ремесленного толка, вроде Виллема Стрейкера, известного также как Брассемарей, или Гуляка, Корнелиса ван Холстейна и Яна ван Бронкхорста: поручив им расписать потолок или украсить картинами залы новой ратуши, можно было не сомневаться, что они ничем не нарушат торжественного и чопорного облика здания.
На протяжении 1650-х годов Рембрандт наблюдал, как из болотистой почвы на свайном фундаменте чудесным образом медленно поднимается ратуша, «восьмое чудо света», зная, что самые важные заказы достаются другим. В Иванов день 1652 года готическая громада старой ратуши, которую собирались снести еще с 1639 года, сгорела дотла, и Рембрандт, которого всегда куда более привлекало не новенькое, с иголочки, сияющее, а изборожденное временем, помятое и побитое жизнью (включая собственное лицо), зарисовал испепеленные руины. В сущности, невозможно вообразить, чтобы Рембрандт, с его страстью к темным, глубоким, точно пещеры, пространствам, в которых тускло мерцали сокрытые предметы, стал оформлять сверкающие, геометрически просчитанные, отделанные белым камнем интерьеры новой ратуши, с сияющими мраморными полами, с холодными, безукоризненно правильных очертаний скульптурами и с целыми рядами высоких окон, сквозь которые лился яркий свет. Впрочем, едва ли он безразлично отнесся к тому, что не слишком одаренные художники, в том числе его бывшие ученики, получают вознаграждение за самые выгодные заказы, какие только мог предложить город, и зарабатывают до нескольких сот, а то и тысяч гульденов. Но если он и был удручен, то едва ли его удивил подобный поворот событий. Его первый ученик Герард Доу, пришедший к нему в мастерскую еще в Лейдене двенадцатилетним подмастерьем, «leerling», добилс невероятного международного признания и под стать громкой репутации сделал целое состояние своими бесконечными жанровыми картинами, не лишенными изящества, гладкими и тщательно выписанными. Он изображал алхимиков в потайных кабинетах, сильно декольтированных молоденьких служанок, выглядывающих из окон, на которых многозначительно красуются горшки с розмарином; его картины так и хочется повертеть в руке, держа на свету, словно ограненный драгоценный камень. Теперь, в 1659-м, учеников у Рембрандта не было. А Говерта Флинка, фрисландского меннонита, некогда присланного к нему Ламбертом Якобсом, виршеплеты на каждом углу воспевали как «Апеллеса Флинка». Именно его теперь нанимали писать портреты тех, кого впервые запечатлел Рембрандт: доктора Тульпа и Андриса де Граффа.
Геррит Беркхейде. Ратуша на площади Дам в Амстердаме. 1672. Холст, масло. 33,5 41,5 см. Рейксмюзеум, Амстердам
Флинку достался самый впечатляющий из всех заказов для новой ратуши – восемь огромных картин, изображающих сцены восстания батавов против римлян, известные по «Германии» Тацита. Им предстояло украсить галерею вокруг главного парадного, так называемого Бюргерзала (Burgerzaal), который воспринимался не только как центральное помещение ратуши, но и как своеобразный центр Вселенной: не случайно на полу его были выложены карта мира и карта звездного неба. Это был проект рубенсовского масштаба, сравнимый с циклом из Люксембургского дворца, увековечивающим жизнь Марии Медичи, или с серией аллегорических картин из Уайтхолла, воспевающих царствование Якова I. Однако, в отличие от этих картин, полотнам из ратуши надлежало запечатлеть истинную историю республики и воспеть подлинную свободу, «ware vrijheid», не нуждавшуюся в принцах, даже из дома Оранских, ту свободу, что стала плотью и кровью голландцев, от древних батавов до нынешних поборников независимости. Хотя в здании Генеральных штатов висел цикл из двенадцати небольших картин на дереве, написанных Отто ван Веном на тот же сюжет, полотна из ратуши затмят их, подобно тому как великое, свободное амстердамское народовластие затмило Гаагу и ее захудалый двор. Это будут картины поистине эпического размаха, шедевры под стать установленной на фронтоне заднего фасада гигантской фигуре Атласа, держащего на плечах земной шар, как Амстердам – всемирную торговлю. И если будущие поколения захотят узреть, как Амстердам почтил память предков, завоевавших ему свободу, то им достаточно будет прийти в ратушу и замереть в восторге перед этими полотнами.
А Рембрандта не пригласили. Теперь с ним обходились как с эксцентричным дядюшкой, который, безнадежно погубив собственную репутацию и слегка рехнувшись, перестал соблюдать правила приличия, и потому его отселили на чердак с глаз долой, чтобы не смущал приличное общество. Однако 2 февраля 1660 года скоропостижно умер Флинк, и весь Амстердам погрузился в скорбь. Вос и Вондел оплакали его кончину, сочинив поэтические эпитафии, а перед городским советом стала проблема, требующая неотложного решения: что же теперь, после смерти художника, делать с огромным проектом? Покойный мастер успел выполнить лишь подготовительные рисунки, которые могли послужить основой для дальнейших работ. Однако городской совет пришел к выводу, что ни один амстердамский живописец не может завершить этот цикл в одиночестве – во всяком случае, в обозримое время. Поэтому серию картин ограничили украшениями четырех больших арочных люнет возле лестниц, ведущих из Бюргерзала, и разделили ее между тремя художниками. Двое из них, Якоб Йорданс и Ян Ливенс, в свое время расписывали Ораньезал, Зал славы принцев Оранских, во дворце Хёйс-тен-Бос в Гааге, а значит, на них можно положиться: они точно напишут благопристойные исторические полотна. Йордансу заказали две картины, Ливенсу – изображение вождя каннинефатов Бриннона, которого соплеменники поднимают на большом щите над головами. Третьим художником, которому не без трепета и опасений поручили написать необычайно важный сюжет – предводителя батавов Клавдия Цивилиса, связывающего своих сторонников обрядами и заклятиями «в священной роще», был Рембрандт ван Рейн.
Рембрандт ван Рейн. Руины старой ратуши, датированные 9 июля 1652. Бумага, перо коричневым тоном. Дом-музей Рембрандта, Амстердам
Вернуться к Тациту означало для него возвратиться к началу карьеры. За тридцать пять лет до этого, когда перед ним открывался целый мир, «безбородый сын мельника», по выражению Гюйгенса, стремился произвести впечатление на Скриверия и Лейден своей первой картиной на исторический сюжет, запечатлевшей Цивилиса, который милосердно сохраняет жизнь пленным римским и галльским воинам. Он приступил к этой картине, памятуя о предписаниях ван Мандера и взяв за образец «Кориолана» Питера Ластмана. В работе над ней он изо всех сил старался угодить вкусу публики, выполнить все правила, учесть все живописные условности и потому предпочел яркую цветовую гамму и величественную архитектуру в качестве фона, поставил главного героя на высокий помост, щедро распределил благородную мимику и сдержанные жесты и, нимало не стесняясь, вместо подписи изобразил на картине себя самого за скипетром Клавдия Цивилиса.
Чтобы потрафить заказчикам, ему и теперь оставалось лишь вернуться к прежней, «благовоспитанной и чинной» манере, тем более что многие полотна, уже украсившие стены ратуши, выглядели так, словно только что покинули мастерскую Ластмана! А рисунок Флинка, выполненный в духе той торжественной сцены, что написал ван Вен и гравировал Антонио Темпеста, мог послужить ему основой и ориентиром. Ритуальным рукопожатием герои Флинка обменивались за аккуратно накрытым белой скатертью столом, словно приготовленным для лесного пикника знатного лорда. На почетном месте расположился Цивилис с обнаженным торсом, показанный в профиль, чтобы скрыть отсутствие глаза, подобно тому как Апеллес утаил от зрителей пустую глазницу царя Антигона[658], в некоем подобии тюрбана, украшенного пышным плюмажем. Он пожимает руку персонажу, как римский легионер, облаченному в тунику и сагум, словно воодушевляя перебежчика, решившегося присоединиться к бунту, или принимая клятву у одного из рекрутов, призванных в римскую армию, что и послужило причиной мятежа. Вокруг них пирующие на глазах у зрителя превращаются в заговорщиков, сообщников и, доверительно перешептываясь, склоняются друг к другу. Настроение на рисунке царило возвышенное и торжественное, как пристало ратуше и как было принято со времен первых версий подобной сцены, особенно офортов Темпесты с оригиналов Отто ван Вена, выполненных им для собственной книги «Война батавов и римлян» («Batavorum cum Romanis Bellum») и изображающих благовоспитанных джентльменов, в большинстве своем пожилых, церемонно обменивающихся рукопожатиями[659].
Говерт Флинк. Клятва Клавдия Цивилиса. 1659. Бумага, перо коричневым тоном по наброску графитовым карандашом. Кунстхалле, Гамбург
Но Рембрандт, чьи три сборника гравюр Темпесты, перечисленные в описи имущества 1656 года, вероятно, включали также ван Венову версию батавской войны, предпочел другое решение сюжета. Он заметил, что Тацит особо упоминает о том, как страсти заговорщиков «разгорелись» «под влиянием веселого ночного пира»[660], и вообразил нечто совершенно отличное от стоической решимости, а именно опьянение свободой, ликующее наслаждение волей. Затем он прочитал, что Клавдий Цивилис пригласил на тайный пир отнюдь не только знатных и занимающих высокое положение батавов, но и «самых решительных из простонародья»[661], а значит, их собрание никак не напоминало загородный клуб для избранных, где достойные джентльмены при встрече обмениваются сдержанными рукопожатиями. Разумеется, Рембрандту было известно, что со времен Голландского восстания рукопожатие слыло символом «confoederatio», союза свободных людей и суверенных провинций, который уникальным образом выделял Голландскую республику на фон абсолютистских монархий Европы. Кроме того, он прочитал у Тацита о «варварских обрядах», «barbaro ritu», и опять-таки придумал что-то, весьма далекое от рукопожатия: скрещиваемые со звоном мечи, сдвигаемые со стуком чаши, наполненные до краев то ли вином, то ли кровью, то ли и тем и другим. А еще он наверняка осознавал, что, поскольку бургомистры не терпят никакого восхваления аристократических героев, ему не следует слишком подчеркивать фигуру варварского вождя, в особенности памятуя, что Клавдия Цивилиса издавна отождествляли с неким прототипом принца Оранского. Но как же в таком случае воздать должное Цивилису, льву среди древних героев? Разве Тацит не писал, что он был царского происхождения? Разве Цивилис не переносил с величайшим мужеством мучения, когда его в цепях привели пред очи Нерона и заставили взирать на страдания собрата по оружию Юлия Павла, ложно обвиненного в попытке мятежа, а затем казненного? И самое главное, разве не гордился он своим увечьем, нисколько не скрывая и не стыдясь его, как пишет Тацит, считая себя «достойным равняться с Серторием и Ганнибалом»?[662]
Поэтому Рембрандт еще раз решил пойти на риск и обмануть привычные ожидания заказчиков, но при этом столь поразить их несомненной гениальностью замысла, что они простят ему оригинальность и осознают, что в конце концов именно этого они и ожидали. Заказчики станут благодарить его за то, что он угадал их истинные желания. Итак, Рембрандт пренебрег этюдом Флинка и начисто отверг все иконографические детали, традиционно ассоциирующиеся с этим сюжетом: шляпы с пышными перьями и рукопожатия, изысканные пиры на лесных полянах, слуг, аккуратно наливающих вино в кубки. Вместо этого ему представилась сцена варварского, необузданного веселья посреди пира, на котором дюжие плебеи соседствуют с лордами, сцена опьянения свободой, как ее изображает Тацит, сцена, которую художники вроде Гуляки Стрейкера не могли вообразить в самых безумных фантазиях. Собрание батавов Рембрандт увидел не между деревьев, а в некоем огромном зале. С другой стороны, Рембрандт не полностью отказался от связи леса и первобытной, исконной свободы, поскольку за арками и колоннами этого зала различимо огромное дерево, а стены изнутри и извне обрамляет другая растительность, так что заговорщики словно отгорожены экраном или находятся в шатре или скинии[663]. На множество собравшихся, сидящих и стоящих вокруг стола, явно навеянных «Афинской школой» Рафаэля, надлежало взирать с низкой точки зрения, постепенно взбираясь взглядом по крутым ступеням, которые, точно дорога процессий, вели к вершине пирамиды, образованной телами заговорщиков на среднем плане, в глубине картины: здесь взор созерцателя упирался в ее пик – гигантскую, внушающую трепет фигуру Клавдия Цивилиса, рост которого еще более увеличивала величественная трехъярусная тиара, заимствованная Рембрандтом с медали Пизанелло, единственное темное око было устремлено в пространство, а вместо другого виднелся глубокий шрам, повествуя о страданиях и искуплении, пережить которые едва ли под силу и Циклопу[664]. Лицо Цивилиса задумывалось так, чтобы, подобно лику Моисея, излучать неземное сияние и дух свободы. Ведь Рембрандт изобразил предводителя батавов в тот миг, когда он завершил свою знаменитую речь, увековеченную Тацитом и обличающую жестокость римского набора, который похищает, «подобно смерти, сына у родителей и брата у брата»[665], выслушал шквал аплодисментов и призвал соотечественников принести торжественную клятву на мече, обязуясь бороться до конца.
Антонио Темпеста по оригиналу Отто ван Вена. Встреча в священной роще. Офорт из книги «Война батавов и римлян» («Batavorum cum Romanis Bellum»). 1612. Британский музей, Лондон
Поразительное, шекспировское величие этого рембрандтовского видения известно лишь по наброску всей композиции, хранящемуся в Мюнхене и в общих чертах передающему замысел на обороте печатного приглашения на похороны, которое датировано 25 октября 1661 года. Картина в первозданном виде, возможно, пробыла на отведенном ей месте на одной из люнет галереи, окружающей Бюргерзал, всего несколько месяцев, летом 1662 года. Однако в конце августа картину вернули Рембрандту, прося внести изменения, а потому нельзя исключать, что, как предположила Светлана Альперс, мюнхенский рисунок был не подготовительной стадией работы, а этюдом, из тех, что Рембрандт набрасывал, обдумывая решение той или иной творческой проблемы[666].
В какой-то момент Рембрандту, вероятно, сделалось не по себе: он стал постепенно осознавать, что на сей раз потерпел поражение, что оригинальность его замысла скорее оттолкнула заказчиков, нежели очаровала. Возможно, мифические сцены, изобретенные режиссерами байопиков, в которых негодующие бюргеры гневно отшатываются от «Ночного дозора», действительно разыгрались в случае с отвергнутым «Клавдием Цивилисом». Может быть, зал ратуши не огласили сдержанные смешки или крики отвращения. Может быть, члены городского совета, хранители Восьмого Чуда Света, подняли голову и воззрились в глубокое, точно пещера, пространство, где расположилась странная компания варваров, богохульно подражая то ли «Тайной вечере», то ли «Афинской школе», а вглядевшись внимательно, узрели в облике своего республиканского героя Клавдия Цивилиса предводителя разбойничьей шайки, а в облике его благородных собратьев – едва различимых в мерцающем желтоватом свете то ли евреев, то ли древних беззубых пьяниц, разинувших рот в безобразной ухмылке. Что ж, возможно, отцы города и в самом деле были поражены, но не так, как надеялся Рембрандт. Пожалуй, они, время от времени высказывая вежливое восхищение необычайно «интересной» и «энергичной» манерой, в которой Рембрандт счел возможным запечатлеть их предков-батавов, одновременно выражали сожаление, что не все можно рассмотреть на этом «любопытном» и невероятно «смелом» полотне.
Оптимистическая вера Рембрандта в то, что «Клавдий Цивилис» превратит его в хрониста голландской свободы, подобно тому как портреты и аллегории правления монархов сделали Рубенса певцом абсолютизма, приказала долго жить. Его огромная, двадцати футов длиной, картина все еще висела в угловой люнете в конце галереи Бюргерзала, когда Мельхиор Фоккенс описал ее в своем путеводителе по достопримечательностям Амстердама в 1662 году. Но потом кто-то из членов городского совета – возможно, даже из тех, кто еще поддерживал отношения с мастером и восхищался его творениями (может быть, Йохан Хёйдекопер ван Марссевен или доктор Николас Тульп), – дал понять, что, сколь ни любопытна, правдива и достоверна его картина, она не совсем соответствует первоначальному замыслу Флинка и потому не совсем их устраивает, – надеемся, вы нас понимаете?
В сентябре гигантский свернутый холст привезли на телеге в маленький домик на южной оконечности канала Розенграхт. Куда Рембрандт его поместил? Прислонил к стене в углу мастерской? Да и кто захотел бы купить огромную картину, верхней части которой была придана форма арки, специально для того, чтобы она входила в люнету, передний план точно рассчитан таким образом, чтобы «служить продолжением» длинной галереи в визуальном пространстве картины, а у созерцателя появлялось жутковатое чувство, что он приближается к расположенному на возвышении столу заговорщиков? Даже ослепительное освещение, похожее на блеск раскаленного металла, Рембрандт распределил так, словно оно исходит из-под лиц персонажей, а картина озарена канделябрами самой галереи.
Рембрандт ван Рейн. Клятва Клавдия Цивилиса. Ок. 1661. Бумага, перо, кисть, тушь. Государственное графическое собрание, Мюнхен
А теперь ему во что бы то ни стало нужно было вернуть хоть какие-то деньги, чтобы заплатить за дом и накормить семью. Иначе все его неимоверные усилия пропадут даром и не принесут ему ни славы, ни уж точно богатства. Единственное, что ему оставалось, – это попытаться превратить никчемное полотно в товар, обрезав до размеров, при которых оно могло поместиться в чьем-нибудь доме. Возможно, тогда он нашел бы покупателя, который повесил бы уменьшенную картину наверху своей собственной лестницы или над большим камином. Поэтому Рембрандт поневоле разложил двадцатифутовый холст на полу (ведь у художника явно не было стола, на котором такой холст мог бы поместиться) и велел Титусу прижать один его конец, а сам, опустившись на колени, принялся отрезать ножом целые фрагменты: тугое переплетение разлохмачивалось в местах отреза, ненужные куски падали на пол, словно полотно у портного. Вероятно, он ползал и ползал по ней, пока от нее не остался длинный, сравнительно узкий фрагмент, хранящийся сегодня в Стокгольме.
Несомненно, художники XVII века, в отличие от современных, не проявляли особой щепетильности, если речь шла о том, чтобы уменьшить, подогнать картину под требуемые размеры или, наоборот, увеличить, пришив дополнительные фрагменты холста, – только бы удалось ее продать. Но даже в этом случае Рембрандт наверняка калечил свое, пожалуй, величайшее и, безусловно, наиболее смелое и оригинальное полотно на исторический сюжет с ощущением глубокой скорби. Однако он изо всех сил пытался превратить самую унизительную неудачу в подобие победы, переосмыслив всю композицию и переписав значительные части того, что от нее осталось. В новом варианте персонажи уже не занимали средний план, расположившись на возвышении в глубоком пространстве картины, а составляли чрезвычайно сплоченную группу, угрожающе приблизившуюся к зрителю, – эдакий сгусток варварской энергии.
Таким образом, картина, которую сегодня мы можем увидеть в Стокгольме, – беспощадно обрезанная и в значительной мере переписанная версия оригинала. Но даже в таком виде она остается очень большой и столь честолюбивой, что может считаться одним из наиболее революционных художественных творений в истории искусства XVII века. В последнее время нежелание отцов города принять картину Рембрандта стали объяснять политическими причинами. Маргарет Дойч-Кэрролл в особенности утверждала, что облик древнего героя Клавдия Цивилиса, возвышающегося над своим окружением и словно восседающего на троне в центре холста, оскорблял амстердамский режим, неколебимый в своих республиканских убеждениях и решивший во что бы то ни стало покончить с таким наследственным институтом, как пост штатгальтера[667]. Несомненно, в начале 1660-х годов в Голландии развернулась самая бескомпромиссная кампания в защиту республиканской независимости страны. Вондел как раз писал свою последнюю пьесу «Батавские братья, или Угнетаемая свобода», исполненную на сцене в 1663 году, где римский наместник древних Нидерландов, душегуб и тиран, жестокость которого и вызвала восстание, именуется «штатгальтером»[668]. Однако если круги, близкие великому пенсионарию Голландии Яну де Витту, были всецело преданы делу защиты республиканских свобод, то тогдашние правители Амстердама, как обычно, склонялись к прагматизму. Среди них особое место занимал печально известный своим двуличием Гиллис Валкенир, постепенно все более обнаруживавший прооранжистские симпатии. Однако в любом случае Рембрандт, видимо, своей трактовкой образа Клавдия Цивилиса не угодил ни противникам, ни сторонникам Оранского дома, так как первым могло прийтись не по вкусу главенствующее положение вождя и полководца, поза которого на холсте отчасти напоминает позу Христа на «Тайной вечере» Леонардо (которую Рембрандт некогда уже копировал), а вторым – сходство героя с одноглазым предводителем разбойничьей шайки.
Кроме политических соображений, недовольство могла вызвать и собственно творческая манера, в которой была написана картина. Каждый, кто приедет в Стокгольм, посетит Национальный музей и остановится перед сохранившейся частью картины, даже на том расстоянии, которое, по мнению Рембрандта, должно было отделять созерцателя от первоначального варианта полотна, будет поражен абсолютно свободной и беспощадно оригинальной манерой письма, на многих фрагментах ничем не напоминающей современную Рембрандту живопись с ее прилизанным, залакированным «жизнеподобием», которого требовали заказчики для ратуши. По всей вероятности, те, кто выносил суждение о картине, готовы были разделить мнение Жерара де Лересса, что у Рембрандта-де «краски стекали по холсту, точно нечистоты»[669].
Рембрандт ван Рейн. Клятва Клавдия Цивилиса. Ок. 1661–1662. Холст, масло, картина обрезана до размеров 196 309 см. Национальный музей, Стокгольм
Впрочем, Рембрандт и на сей раз поступил так, вовсе не совершая некоего акта сознательной агрессии. Он очень нуждался в этом заказе. На самом деле он всего лишь довел до логического и до сих пор невиданного завершения два своих главных принципа – снова преобразил привычный жанр и снова превратил манеру письма в органическую составляющую визуального нарратива. Ни один великий мастер прошлого, ни Рубенс, ни Тициан, никогда так не писал.
Где-то в недрах своего удивительно богатого воображения, от причуд которого он сам зачастую страдал, Рембрандт замышлял «Клавдия Цивилиса» как «schuttersmaal» («схюттерсмал»), пир стрелковой роты, только отраженный в кривом зеркале. А так все непременные атрибуты жанра здесь наличествуют: вокруг стола собрались «воины по совместительству», связанные общей преданностью делу «истинной свободы». Разумеется, они мало похожи на грубовато-добродушных хмельных стрелков кисти Франса Хальса и уж совсем не напоминают ополченцев на страже гражданских свобод, которых писал тонкий льстец Бартоломеус ван дер Хелст, эдаких «воинов выходного дня», аккуратно причесанных, в роскошных костюмах, в шляпах с плюмажем и в широких поясах, с надраенными портупеями. С другой стороны, мог рассуждать Рембрандт, «Ночной дозор» тоже мало отвечал ожиданиям заказчиков. Подобно тому как в «Ночном дозоре» Рембрандт пытался воплотить нравственную добродетель милиции – ее энергичную воинственность, одновременно нарушив формальные конвенции жанра и пожертвовав условием: изображать каждого персонажа в соответствии с его социальным статусом, – в «Клавдии Цивилисе» он пренебрег жанровыми особенностями картины на сюжет традиционно понимаемой римской истории в пользу одной, могущественной и властной, идеи. Но если в случае с «Ночным дозором» эта идея, воплощенная в бодром и дисциплинированном выступлении в поход, оказалась весьма и весьма лестной для его покровителей, то в случае с «Клавдием Цивилисом» она представала не столь отчетливой. Ведь здесь Рембрандт воспел варварскую свободу, прославив ее в языческом, даже друидическом обряде, пакте свободы, скрепленном смертью, вином и кровью, на куда как странном «пире стрелковой роты». Еще того хуже, он нарушил первое правило картин, изображающих пиры стрелков, а именно показывать одних лишь джентльменов, ну разве что иногда добавляя почтительного слугу или серьезного и благочестивого сержанта, затесавшегося в ряды знати. Однако Клавдия Цивилиса окружает весьма пестрая компания: смуглые уроженцы Востока, выжившие из ума старики, мучимые отрыжкой после пития, жрец-друид. Зритель словно слышит их пронзительные вопли и грубый смех, ощущает их тяжелое дыхание и исходящий от них запах немытого тела, они теснят его, толкают, почти высовываются из живописного пространства в его собственное, реальное. Цветовая гамма картины на удивление тревожна, под стать изображенным персонажам: кричаще-яркий массикот, цвет зеленого яблока толстым слоем наложены на холст, словно так их размазали сами дикари. Складывается впечатление, будто Рембрандт забыл, что батавский полководец, прежде чем взбунтоваться, служил в римской армии, пока обстоятельства не вынудили его к мятежу, был законопослушным подданным империи, подобно Моисею или блаженной памяти Вильгельму Молчаливому. А тут полюбуйтесь только, этот персонаж – полная противоположность Клавдию Цивилису!
Впрочем, сам Рембрандт полагал, что просто продолжает писать как прежде, например когда создавал портрет Яна Сикса, где сами мазки не просто тврили образ героя, а воплощали его, облекали его плотью. Обращение с красками давно перестало быть для него рутинным инструментом повествования. Оно само превратилось в некое подобие визуального языка, не столь однозначного, как вербальный, но куда более многозначительного в своем драматизме, нежели отверстые уста или жест руки. Непринужденная элегантность, «sprezzatura», хорошо подходила к облику Яна Сикса, которого так и хочется вообразить красноречивым, если не сладкоречивым. Напротив, Клавдий Цивилис, судя по всему, ораторствует властно и резко; исполненный мрачной решимости, он лаконичен, сух и непреклонен, как подобает суровому герою из народа, поклявшемуся поднять кровавое восстание. Поэтому здесь в большей степени, чем когда-либо в своей карьере, по крайней мере до сих пор, Рембрандт наносит кистью удары по холсту, точно делая выпады мечом. А еще, подобно тому как он передал собственное презрение к судьбе и самообладание многим персонажам исторических картин этого периода, Рембрандт наделяет своим бунтарством мятежного полководца. Более того, Цивилис даже облачен в одеяние, весьма напоминающее золотистую мантию, что окутывает плечи Рембрандта – царя богов на автопортрете 1658 года. И вот он берется за работу, оставляя на полотне яркие, словно раскаленные добела, пятна с неровными, размытыми краями, рельефные комки, застывающие на холсте, а потом отходит на несколько шагов, наносит на полотно второй и третий слой сильного освещения или глубоких теней, он мнет краску пальцами, скребет, накладывает толстой коркой, снова соскребает. Впрочем, это не означает, что на картине преобладала непроницаемость красок. Некоторые, особенно знаменитые, из сохранившихся фрагментов, например чудесный стеклянный кубок справа, исполнены сияющей прозрачности, которой Рембрандт, как это ни парадоксально, достигает, сгущая цвет и используя гениальное сочетание световых бликов, не знающее себе равных даже в его собственном творчестве. Однако другие фрагменты, например две фигуры над кубком, написаны чрезвычайно схематично, лишь в общих чертах, нос и скулы этих персонажей едва намечены шлепками краски, нанесенной мастихином, а резко очерченная глазница, черная и пустая, передана одним мазком. С другой стороны, Рембрандт выбирает разную манеру письма для разных персонажей: так, не столь яростно, значительно мягче и детальнее, изображен жрец непосредственно справа от Клавдия Цивилиса, озаренные загадочным светом черты молодого человека с усами, опять-таки чем-то напоминающего Титуса, лицо самого полководца, рельефной полосой густой краски выложенное на холсте.
В картину, где он хотел создать атмосферу одновременно буйного пиршества и торжественного безмолвия, Рембрандту, как обычно, удалось внести и невероятный заряд действия; он ощутим в фигурах двоих персонажей, показанных со спины и тянущихся через стол: один из них простирает руку, заявляя о своей приверженности делу мятежников, другой поднимает чашу для ритуальных возлияний. В центре, у подножия горы – тела батавского принца, – свет, не утративший своего яростного золотистого блеска даже спустя столетия, ярче всего сияет вдоль горизонтальной линии стола, изливаясь вверх и словно накрывая заговорщиков сверкающим куполом.
В том месте, что изначально являлось центром картины, на ободе тиары Клавдия Цивилиса, свет играет едва ли не ярче всего, падая на украшающий тиару медальон. Тем самым обод тиары превращается в нимб вокруг его мрачного, испещренного шрамами лица, а сам правитель и полководец – в провидца и святого, причем благородство его фигуры не отрицают, а лишь подчеркивают грубые черты и массивный торс. Они служат обрамлением для этих глаз: черного, как и у многих других персонажей Рембрандта, и мертвой, пустой впадины. Однако на самом деле на челе Клавдия Цивилиса мерцает что-то, весьма напоминающее третий глаз, который привлекает свет свободы в средоточие внутреннего зрения.