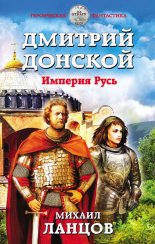Глаза Рембрандта Шама Саймон
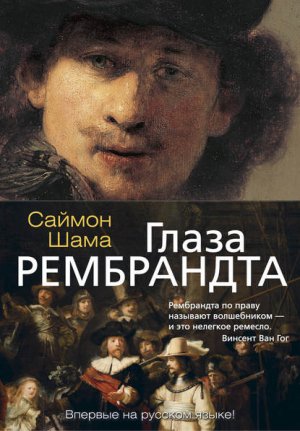
Неудивительно, что Кеннет Кларк вознегодовал, ведь подобный офорт бесконечно далек от мраморной чистоты классической обнаженной натуры. Совершенно очевидно, что в глазах Рембрандта грубая, неприкрытая нагота была куда более действенным элементом сюжета, чем благопристойная обнаженность. Это особенно заметно в выразительной интерпретации библейской истории, которая опять-таки трактует сочетание телесной невинности и того стыда, что ощущает грешник, осознающий собственную преступность. Речь идет о «Грехопадении». Когда-то Рубенс положил этим сюжетом начало собственной карьере, одновременно воздав дань памяти Рафаэля. Рембрандтовский офорт 1638 года, волнующий и бесстыдный, решительно ничем не напоминает ни Рубенса, ни гравюру Маркантонио Раймонди с оригинала Рафаэля, ни вдохновленные классическим искусством работы его соотечественников, например картину Корнелиса ван Харлема 1592 года, с ее плавными очертаниями и благородными фигурами, заказанную для харлемской резиденции штатгальтера и вполне справедливо описанную ван Мандером как «великолепная»[430].
После смерти Рембрандта именно этот офорт чаще всего приводили в качестве примера его критики, желающие доказать, что он, обнаруживая извращенное воображение, предпочитал грубую природу классическому идеалу или изящным формам, свидетельствующим об утонченном вкусе Творца. Признаваться в подобном означало не только нарушить правила приличия, но и совершить богохульство, предположив, что Господь Всемогущий не справился со своей задачей и сотворил ужасных созданий. Биограф и критик начала XVIII века Арнольд Хаубракен писал, что «не следует разглядывать столь неудачные творения Рембрандта, как гравированные им изображения Адама и Евы, а тем более подражать им»[431]. Даже в глазах таких его восторженных поклонников, как автор первого каталога его гравюр Жерсен, офорт был очередным свидетельством того, что «он не умел работать с обнаженной натурой»[432]. Остается только предполагать, что могли подумать, глядя на «Грехопадение», стыдливые проповедники, вроде Кампхёйзена, который в своем переводе на голландский латинского стихотворения Гестерана «Idolelenchus» буквально предостерегал художников, указывая, сколь непристойно изображать нагими воскресших Ев в день Страшного суда[433]. Однако по крайней мере в одном отношении офорт Рембрандта полностью соответствовал кальвинистской доктрине, ведь он сознательно отсылал к более примитивным жанрам готической резной скульптуры, а также к резцовым гравюрам и ксилографиям позднего Средневековья и Раннего Возрождения, на которых Адам и Ева предстают не изящно вылепленными рукой Творца, а скорее грубым, топорным, гротескным вместилищем стыда. Любопытно, что Рембрандт заимствовал почему-то покрытого шерстью, напоминающего дракона змея из населенного всевозможными рептилиями террариума с гравюры Дюрера «Христос в чистилище» 1512 года[434].
Рембрандт ван Рейн. Грехопадение. 1638. Офорт. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк
Однако Дюрер, придавая такой облик Адаму и Еве, тоже следовал средневековой традиции изображения сплошь заросших волосами «диких людей», которые в течение XVI века успели превратиться из сатиров и каннибалов в образец естественной, природной невинности[435]. А Рембрандт выбрал своего бородатого Адама и приземистую неуклюжую Еву из арсенала диких людей, одновременно отсылая ко временам до и после грехопадения: Адам и Ева на его офорте – это и обитатели Эдема, и еще только привыкающие к своему новому состоянию смертные, лишь постепенно обретающие чувство стыда. Разумеется, подобное столкновение разделенных во времени последовательных моментов сюжета было его любимым приемом, но в данном случае для усиления этого эффекта он использует саму технику офорта. Если приверженные традиции живописцы маньеристической и классической школы изображали Адама и Еву, еще не ведающих о грядущем изгнании из рая, но готовых вот-вот совершить первородный грех, совершенно обнаженными и не осознающими своей наготы, поэтому столь же совершенно невинными, Рембрандт намеренно решается на парадокс: он показывает их тела со всеми постыдными деталями. Тень протянутой руки Адама падает на грудь Евы. Однако самое любопытное, что он покрыл всю нижнюю часть ее тела густыми перекрестными штрихами, и вовсе не из уважения к чувствам проповедников, ведь лобок Евы, вместилище греха, шокирующе различим, несмотря на всю густую сеть линий. Этот несовершенный покров, полная противоположность непрозрачного фигового листа, явно был выбран сознательно, а не вследствие ошибки гравера, не знающего, как выйти из неловкого положения. Заштрихованный живот и бедра, очевидно, задумывались по контрасту с ярко освещенными фрагментами композиции, в особенности с сиянием самого Эдемского сада, в котором утопает трубящий на заднем плане слон. Эта плотная штриховка заставляет нас увидеть в Адаме и Еве смертных, с одновременно детским и уже пробудившимся сознанием, не отдающих себе отчета в собственной наготе и вместе с тем остро ощущающих ее, и воспринимать их тела как вместилище блаженного неведения и как сосуды стыда, отягощенные неизбывной виной. До грехопадения все мы обнажены, но после него голы.
Рембрандт ван Рейн стал великим мастером исторической живописи именно в тот момент, когда Питер Пауль Рубенс гадал, не оставить ли ему ее вовсе.
Этот решающий период пришелся на 1635–1636 годы. В Амстердаме свирепствовала чума, но Рембрандт, приближающийся к тридцатилетнему рубежу, излучал жизненную энергию, его творческая активность словно прибывала с каждым днем, бурная и необузданная, как приливная волна. За следующие два года он необычайно быстро создал целый ряд крупноформатных шедевров, где все строится на грубой силе и интуиции, где персонажи непрерывно устремляются друг к другу, пошатываются и падают, наносят друг другу удары. Их тела так и бросает из стороны в сторону какая-то невидимая сила. Они сжимают кулаки и выхватывают ножи. Вот кричит ребенок, обмочившийся от страха. Вот женские ногти впиваются кому-то в лицо. Вот кому-то с дьявольской предусмотрительностью выкалывают глаза. Все краски теплее и ярче, чем когда-либо прежде у Рембрандта, от них словно исходит зной. Эти холсты издают шум: глядя на них, мы слышим крики боли, звон падающих золотых сосудов, биение ангельских крыльев. Это образы небес и ада. Они исполнены эмоционального драматизма и физического действия в большей степени, чем все, что Рембрандт написал до сих пор. Они заставляют по-иному увидеть мир, замереть сердце, в корне переосмыслить собственное бытие.
Рубенс изготавливал исторические картины с завидной регулярностью. К 1630-м годам его мастерская сделалась чем-то вроде живописной фабрики, в которой производство мифологических, религиозных и библейских образов было поставлено на поток. Босс делал графический набросок композиции, далее наемные работники писали по этому эскизу картину, а уж напоследок босс кое-где подправлял ее и снабжал своей подписью. Однако Рубенс явно устал выполнять бесконечные художественные заказы и неблагодарные дипломатические поручения властителей, которые, за исключением эрцгерцогини Изабеллы, отнюдь не спешили в ответ удостоить его своей благосклонностью. Не приходится удивляться, что Рубенс до сих пор испытывал боль, вспоминая о том, как грубо обошелся с ним его светлость герцог д’Арсхот, глава Генеральных штатов южных провинций в Брюсселе, во время неудачных мирных переговоров с Голландской республикой в 1632 году. Несмотря на весь дипломатический опыт Рубенса, его утонченные манеры и даже посвящение в кавалеры ордена Сантьяго, герцог по-прежнему считал его человеком низкого происхождения, не по праву занимающим должность советника эрцгерцогини Изабеллы. Рыцарское достоинство в глазах общества недвусмысленно свидетельствовало, что Рубенс признан наследником Тициана, которого посвятил в рыцари лично Карл V[436]. Однако прежде Рубенсу пришлось ходатайствовать об этой чести, а рыцарское достоинство не уберегало художника от оскорблений, которым зачастую подвергали его аристократы. Когда Рубенс со всей изысканной вежливостью, на какую только был способен, попытался умерить раздражение герцога д’Арсхота, недовольного тем, что Рубенс имеет личный доступ к Изабелле, тот грубо указал ему его место. «Мне совершенно не важно, что Вы будете делать далее, – писал герцог, – и как отчитываться о своих поступках. Могу лишь сказать, что был бы очень обязан Вам, если бы Вы впредь изволили обращаться ко мне, как пристало человеку Вашего положения»[437].
Питер Пауль Рубенс. Автопортрет. Ок. 1639. Холст, масло. 109 83 см. Музей истории искусств, Вена
Поэтому неудивительно, что Рубенс, как он писал своему другу Пейреску, «собрался с духом и решил разрубить этот золотой узел, завязанный честолюбием, чтобы обрести свободу. Осознавая, что уходить со службы должно, пока Фортуна к тебе благоволит и ты пребываешь в ее фаворе, а не когда низвергаешься с ее высот, я воспользовался случаем, втайне ненадолго явился ко двору Ее Высочества и бросился к ее ногам, моля о единственном вознаграждении за годы нескончаемых усилий – избавить меня отныне от подобных [дипломатических] поручений и позволить служить ей в моем собственном доме. Мою просьбу Ее Высочество удовлетворила куда менее охотно, чем все прежние… Но теперь, милостью Божией, я пребываю в тиши с женой и детьми, и единственное мое желание – жить и далее столь же безмятежно и спокойно»[438].
Однако история не спешила отпускать Рубенса. После смерти Изабеллы, последовавшей в 1633 году, жителям Антверпена предстояло почтить ее преемника, пусть наместника Южных Нидерландов, брата короля Филиппа кардинала-инфанта Фердинанда, победителя в битве при Нёрдлингене, церемониальным «joyeuse entre», торжественным въездом в город, символизирующим его власть над Антверпеном и над провинцией Фландрия в целом. Естественно, что изготовить на всем пути следования праздничного кортежа многочисленные богато украшенные триумфальные арки и сцены, все как одна с монументальными полотнами в центре, пригласили именно Рубенса. Этот заказ оказался и великой честью, и великим испытанием. Ведь хотя это зрелище задумывалось по образцу триумфа римского полководца, оно ни в коем случае не должно было приводить на ум торжество завоевателя или принуждение побежденных к покорности. Напротив, целью празднеств было показать, что фламандцы признают законного правителя[439]. Подобные договоры, уступки и компромиссы требовалось передавать на особом, специально созданном языке аллегорий: панегирики в честь кардинала-полководца, за год до этого одержавшего важную победу на поле брани, надобно было сочетать с сетованиями на то, что Антверпен по-прежнему страдает от злонравия угрюмого Марса, неся экономические потери. Рубенса попросили выполнить эскизы четырех сцен и пяти триумфальных арок, причем времени отвели столь мало, что даже он, с его исключительной работоспособностью, опасался не закончить заказ в срок. Хотя он мог рассчитывать, что его ученые друзья помогут ему сформулировать аллегорический язык, а ученики и подмастерья – изготовить потребные декорации, эта работа сделалась для него столь «непосильной ношей», что, как он писал Пейреску, «у меня нет времени ни дышать, ни писать. Посему я обманываю собственное искусство, украдкой урвав несколько вечерних часов, чтобы в спешке, кое-как, ответить на Ваши учтивые и изящные письма»[440].
Плодом его усилий стали несколько редкостных мгновений публичной славы, отпущенных осажденному Антверпену. Снова вострубили серебряные фанфары, забили барабаны, раздался мелодичный перезвон колоколов, затрепетали на ветру флаги, по улицам поползли низкие платформы на колесах, где разыгрывались театральные представления, повели коней в нарядных чепраках, потянули баржи, на одной из которых прибыл сам кардинал-инфант. Без сомнения, ему не могла не прийтись по вкусу выполненная Рубенсом «Приветственная сцена», включавшая его собственную фигуру верхом на боевом коне. Однако нельзя сказать, что рубенсовские аллегории были исполнены ничем не омраченного ликования. Утомленный тяжкой работой, Рубенс зашифровал в нескольких сценах призыв спасти измученный город. Подплывая к месту торжеств по Шельде, Фердинанд наверняка заметил один из рубенсовских ансамблей, который изображал бога-покровителя искусства и торговли Меркурия, покидающего Антверпен! Другая декорация представляла ужасное зрелище: отворяющиеся врата храма Януса, обыкновенно запиравшиеся в мирное время. Оттуда вырывался смуглый, бородатый головорез, с повязкой на глазах, с окровавленным мечом и горящим факелом в руках, призванный служить олицетворением войны и чертами отчасти напоминающий самого Рубенса. На правой панели был изображен беспомощный мирный Антверпен, на левой, символизирующей тайное зло и коварство, – аллегория смерти, попирающей процветание.
Поэтому неудивительно, что летом 1635 года Питер Пауль готовился в последний раз содействовать установлению прочного мира, предприняв еще один тайный вояж в Голландскую республику. Вероятно, он полагал, что обстоятельства ему благоприятствуют, ведь франко-голландские союзные войска, пытавшиеся захватить католический юг, только что потерпели позорное поражение. План французов и голландцев, осуществляемый с помощью взяток, которые кардинал Ришелье щедро раздавал советникам штатгальтера, заключался в том, чтобы применять военную силу и тем самым убедить южные провинции восстать против испанского господства. В таком случае им будет дарована свобода исповедовать католичество или протестантизм по своему усмотрению и автономия Но если они не отвергнут власть испанской короны, то Франция и Голландия завоюют их и поделят их территорию между собой. Гент, Брюгге и Антверпен отойдут голландцам (а родственник Саскии Антонис Копал сможет по наследству передавать свой титул маркиза Антверпенского и станет сюзереном Рубенса).
Этому не суждено было случиться. Французам и голландцам не удалось сломить оборону южан. Армия Фландрии, численностью семьдесят тысяч человек, отразила натиск, а затем, вырвавшись за собственные укрепления, стала преследовать врага уже на его земле. В конце июля 1635 года испанские войска захватили форт Схенкенсханс, имевший славу неприступной крепости. Не стоит говорить, что Рубенс испытал немалое облегчение и даже радость. Однако он не был бы Рубенсом, если бы не захотел извлечь максимум пользы из благоприятных обстоятельств (которые, как было известно истинному неостоику, долго не продлятся) и не попытаться заключить мир. Был задуман следующий план. В конце осени, как обычно, под предлогом покупки или оценки предметов искусства Рубенс поедет на север вести секретные переговоры с теми членами Генеральных штатов, что выступали за мир и противились намерению Фредерика-Хендрика любой ценой завоевать католический юг. Хотя Рубенс и пытался перехитрить возглавляемую штатгальтером партию войны, он тем не менее был готов отправиться в Гаагу для встречи с Гюйгенсом, к неописуемой радости последнего. «Уж и не ведаю, какие демоны столь долго лишали меня Вашего общества», – писал Гюйгенс художнику[441]. По легенде, Рубенс должен был осмотреть коллекцию картин, доставленных морем из Италии; предлог выбрали с таким расчетом, чтобы свести живописца и секретаря штатгальтера, любителя и ценителя искусства. Однако эти картины были привезены… в Амстердам, куда, если верить слухам, Рубенс тоже направлялся для участия в тайных мирных переговорах.
В 1614 году, когда Рубенс впервые приехал в Голландию в поисках гравера, Рембрандт был курносым школьником и протирал штаны на ученической скамье. В 1627 году, в его следующий приезд, Рембрандт, блестящий новичок, начинающий художник, числился в учениках Ластмана. Теперь, спустя восемь лет, он, несомненно, стал самым известным живописцем Амстердама. Неужели они встретились? Неужели они не встретились?
Им не суждено было познакомиться. Арминианское большинство в Амстердамском городском совете выступало за мир. Более того, некоторые члены городского совета даже тайно снабжали врага оружием, чтобы обеспечить военное равновесие, подобие пата на шахматной доске. Однако ближайшее окружение Фредерика-Хендрика, исполненное, не в последнюю очередь благодаря французским взяткам, решимости захватить юг, принимало в штыки любое предложение начать мирные переговоры, даже в те годы, когда голландцам совершенно изменяла военная удача. Наконец все спорные вопросы свелись к одному: давать или не давать Рубенсу паспорт? Не в силах прийти к согласию, городской совет Амстердама предоставил это на усмотрение самого штатгальтера, и тот сказал «нет». Рубенсу более не суждено было пересечь Шельду и Маас и побывать в Голландии.
А вот его картины по-прежнему находили дорогу в Голландию: и гравированные копии, и оригиналы его работ с удовольствием приобретали самые богатые амстердамские купцы, например Николас Сохир. Не приходится сомневаться, что Рубенс страстно интересовал Рембрандта. Одновременно стремившийся и подражать северному Апеллесу, и соперничать с ним, он, возможно, бывал уязвляем ревностью, когда вспоминал о его невиданных творческих достижениях. Конечно, ему самому тоже покровительствовал двор. Но что такое протекция принца Оранского по сравнению с бесконечным списком заказов, полученных Рубенсом в Испании, во Франции, в Англии? Разве Гаага не уступает Мадриду, Лондону и Парижу?
Сколь бы смешанные чувства ни вызывал фламандский мастер у Рембрандта, он почти не забывал о своем великом предшественнике во второй половине 1630-х годов. Хотя Рубенс и не приехал в Амстердам собственной персоной, 8 октября 1637 года Рембрандт привез к себе домой его картину «Геро и Леандр», купив ее за четыреста двадцать четыре с половиной гульдена. Однако, по крайней мере за два года до того, как он приобрел холст Рубенса, его полотна на исторические сюжеты стали обнаруживать столь сильное влияние фламандского гения, словно художники работали в одной мастерской. На несколько лет воображением Рембрандта завладели те же барочные фурии, что издавна населяли величайшие полотна Рубенса с их бурей эмоций и водоворотом тел.
Еще до того, как обратиться к циклу крупнофигурных эпических композиций, Рембрандт выбирал работы Рубенса в качестве «визуального претекста» для своих наиболее грандиозных и величественных картин на исторические и мифологические сюжеты, в частности для «Похищения Прозерпины» и для «Христа, усмиряющего бурю на море Галилейском». «Прозерпина» была написана в 1631–1632 годах, как раз когда Рембрандт создавал свой вариант рубенсовского «Снятия с креста». Картина упоминается в описи коллекции штатгальтера 1632 года, хотя и под именем Ливенса, поэтому не исключено, что она была заказана Гюйгенсом; этим можно было бы объяснить и своеобразное сочетание в ней классических и рубенсовских мотивов. Ее композицию Рембрандт в общих чертах заимствовал с офорта Питера Саутмана по оригиналу Рубенса, который, в свою очередь, использовал в качестве образца рельеф с античного саркофага[442]. Рембрандт перенес в свою композицию одну из прислужниц, пытающихся удержать Прозерпину за шлейф, и падающую корзину, из которой высыпаются цветы. Хотя вариант фламандского мастера отличает большая уравновешенность, конфликт противоположностей, выражающийся в физическом столкновении, – аутентичный рубенсовский мотив. Впрочем, у Рембрандта все предстает куда более мрачным и жестоким. На его картине изображено не «похищение», а изнасилование, причем совершается оно на глазах у зрителя: Плутон обеими руками вцепляется в ее бедра, рывком прижимая к себе, а она ногтями расцарапывает его щеку. Украшающий колесницу Плутона бронзовый лев, грозно ощерившийся острыми клыками, вместе со сковывающей Прозерпину цепью символизируют животную жестокость нападения, и этими металлическими деталями, которые усиливают ощущение мелодрамы, Рембрандт уже не обязан решительно никому. А Рембрандт и без всяких уроков Рубенса или Гюйгенса помнил о том, что миф о Прозерпине интерпретируют в том числе как аллегорию смены времен года. Убитая горем, мать похищенной богиня Церера лишила мир плодов земли, обрекая на вечную зиму и опустошение, пока Юпитер не внял ее мольбам, и не отправил Пана на ее поиски, и, наконец, не убедил бога подземного царства отпускать свою юную супругу на землю на две трети года. Отныне там возрождалась жизнь и воцарялся свет. Поэтому можно сказать, что на картине изображена битва между силами солнечного света и мрака, а яркие луговые цветы поглощаются плевелами, произрастающими во тьме: лопухами, крапивой и чертополохом. Колесница проносится по краю разверстой бездны, в которую низвергается водяной поток; пропасть обрамляет влажная осока.
Рембрандт ван Рейн. Похищение Прозерпины. Ок. 1632. Дерево, масло. 84,8 79,7 см. Картинная галерея, Государственные музеи, Берлин
Картина «Христос, усмиряющий бурю на море Галилейском» (похищенная из бостонского Музея Изабеллы Стюарт Гарднер и до сих пор не найденная), с ее вздымающимися зелеными волнами, в еще большей степени обязана Рубенсу, ведь для нее Рембрандт заимствовал элементы двух рубенсовских картин: «Геро и Леандра», возможно оказавшейся в Голландии еще до того, как ее купил Рембрандт, и пределлы алтаря 1610 года «Чудо святой Вальбурги» (с. 202), еще одной сцены бури, в которой святая безмятежно проплывает по волнам Северного моря в утлой лодке, словно по деревенскому пруду. Не исключено, что Рембрандт также знал по гравированным репродукциям полотно Мартена де Воса «Буря на море Галилейском»[443]. Влияние Рубенса сказывается во многом: это и бушующие, вздымаемые ветрм волны, обрушивающиеся на парусник, и пенные гребни валов, и странный облик самого судна с отчетливо вырисовывающимся на его носу гарпуном (китобойная шхуна в Галилее?), и напряженные мышцы корабельщика, пытающегося закрепить парус вокруг основания мачты, пока фал шквалом уносит куда-то в поглощающий судно мрак, и рулевой, тщетно старающийся выровнять парусник на вздыбившихся волнах. Однако в картине есть и оригинальные рембрандтовские фрагменты, и это не только фигура несчастного, склонившегося над левым бортом, которого отчаянно рвет в пенящиеся волны. Рембрандт попытался подчеркнуть приближение чуда, объединив в картине взволнованных и умиротворенных персонажей. Как и в случае с «Воздвижением Креста», Рембрандт включил себя в число изображенных: это он, одной рукой хватаясь за штаг, а другой придерживая шапку, глядит прямо на зрителя. Соседство его синего кафтана с желтым одеянием, в которое облачен персонаж непосредственно у него за спиной (ван Мандер настоятельно рекомендовал сочетать эти цвета), привлекает внимание к неподвижной позе человека в желтом, тихо ссутулившегося посреди хаоса, криков товарищей, воя ветра, бушующих волн. Справа от них страх апостолов претворяется в ту драму жестов, которая была фирменным знаком Рембрандта. Вот руки, сложенные в молитве; вот другая рука, изображенная в резком перспективном сокращении, простертая куда-то вдаль; вот еще одна рука, грубо разворачивающая Иисуса, дабы Он узрел гнев и смятение своих учеников. (Как ни странно, в профиль Он напоминает натурщика, с которого написан Плутон для «Похищения Прозерпины»!) Но длани Спасителя, в отличие от рук апостолов, недвижимы: одну Он опустил на колени, другую прижал к сердцу, словно подтверждая исповедание той веры, которой пытается умерить страх своих учеников. Даже погода предстает на картине двуликой: небеса мрачны, исполнены яростного гнева, однако просвет среди бурных, стремительно несущихся туч говорит о близящейся безмятежности и блаженстве.
Рембрандт ван Рейн. Христос, усмиряющий бурю на море Галилейском. 1633. Холст, масло. 160 127 см. Музей Изабеллы Стюарт Гарднер, Бостон (похищена)
В картинах на исторические сюжеты, созданных в 1631–1633 годах, драма преподносится в предельно сжатом виде. И «Христос, усмиряющий бурю на море Галилейском», и «Похищение Прозерпины», и «Купание Дианы с историями Актеона и Каллисто», и «Похищение Европы» строятся вокруг групп маленьких фигурок, тщательно распределенных в обширном, прихотливо освещенном, изобилующем фантастическими деталями пейзаже. Поскольку Рембрандт выбирал для этих полотен крупный формат, возникал эффект сцены, на которую зритель глядит в бинокль из заднего ряда галерки, а скопления действующих лиц то появляются в мерцающем свете, то вновь исчезают во мраке. Иногда такой формат использовал и молодой Рубенс, например для картины «Геро и Леандр». Однако фламандский мастер был лучше известен тем, что переносил действие на первый план, чуть ли не в лицо зрителю, обрушивая на него грубо пробивающиеся вперед, написанные в натуральную величину фигуры, заполняющие все гигантское пространство картины, нависающие над «порогом» рамы и так и норовящие выпасть в пространство зрителя или, наоборот, затянуть его в свой мир, охваченный страстями и исполненный физического насилия.
Рембрандт ван Рейн. Проповедь Иоанна Крестителя. Ок. 1634. Холст, наклеенный на дерево, масло. 62 80 см. Картинная галерея, Государственные музеи, Берлин
Рембрандт не вовсе отказался от прежде излюбленного формата. На его «Проповеди Иоанна Крестителя», написанной в 1634–1635 годах, предстает Амстердам, притворяющийся Израилем, «всемирная ярмарка», изобилующая экзотическими персонажами: вот турок в тюрбане, вот африканец в затейливом головном уборе, вот американский индеец с луком и стрелой. Однако, подобно небольшому числу других гризайлей этого периода, например «Се человек» и «Иосиф, толкующий сны», она задумывалась как предварительный эскиз для офорта. Следуя давнему обыкновению Рубенса, Рембрандт намеревался подготовить детальные эскизы маслом, которые предстояло вырезать и напечатать его собственным граверам и офортистам. Однако по каким-то причинам Рембрандт так и не нашел своего Ворстермана или Понтиуса, которому мог бы доверить эту работу. По двум монохромным этюдам, «Снятию с креста» и «Се человек», действительно были изготовлены офорты, но «Иосиф» и великий «Иоанн Креститель» так и остались набросками маслом. Если Рембрандт в конце концов осознал, что никто не повторит в офорте оригинальность, утонченность и смелость подлинника, то он оказался совершенно прав.
Рембрандт ван Рейн. Проповедь Иоанна Крестителя (фрагмент)
И вот в 1635 году совершенно внезапно исторические полотна Рембрандта обретают рубенсовские черты. Они начинают не только тяготеть к рубенсовскому формату, но и потрясать своим невиданным физическим напором. Подобно лучшим живописным драмам Рубенса, они являют собой спиральные вихри выгнувшихся торсов, замерших на холсте в акробатических позах тел. Неудивительно, что и Рембрандт, а до него и Рубенс ориентировались на мастера рисунка, непревзойденного в создании таких живых водоворотов, – Караваджо. Рубенс совершенно точно видел в капелле Контарелли римской церкви Сан-Луиджи деи Франчези великий цикл Караваджо, посвященный житию святого Матфея, и перенес взвихренную арку ангельских крыльев и взметнувшихся одеяний на собственные две версии «Жертвоприношения Авраама». На более позднем варианте, выполненном для потолка церкви иезуитов в Антверпене, патриарх намерен заколоть собственного сына, уже возлежащего на хворосте, сдвинув одну показанную в перспективном сокращении ногу с жертвенника, и все композиционное решение этой сцены, особенно изливающиеся на Авраама и предотвращающие убийство лучи Божественной энергии, весьма напоминает обоих Микеланджело (Буонарроти и Караваджо). Рембрандт видел гравюру, выполненную в 1614 году Андрисом Стоком с более ранней версии рубенсовского «Жертвоприношения Авраама»[444], или даже владел ее копией, а возможно, вспомнил и вариант этого сюжета, написанный его учителем Питером Ластманом в 1612 году: у Ластмана ангел, заимствованный с картины Караваджо, не возлагает руку на запястье Авраама, а скорее жестикулирует, а на заднем плане дымится зловещий жертвенный костер.
Питер Пауль Рубенс. Жертвоприношение Авраама. 1620. Дерево, масло. 49,5 64,6 см. Лувр, Париж
Хотя на первый взгляд Рембрандт в своей версии этого сюжета следует за Ластманом и Рубенсом, изменения, которые он вносит в их композицию, свидетельствуют о незаурядном драматургическом даре. В центре картины вновь «пантомима» рук. Правая рука ангела, написанная необычайно плавными, почти прозрачными мазками, возлежит на огромной смуглой кисти Авраама. Кроме того, у Рембрандта Авраам не удерживает сына за голову и повязка не соскальзывает с глаз Исаака, обнажая его искаженное от ужаса лицо; вместо повязки Авраам делает жест, одновременно исполненный нежности и беспощадной жестокости, полностью закрывая лицо сына рукой и почти задушив. В этом театре жестов находится место и жертвенному ножу, который Рембрандт, как всегда, выписывает в мельчайших деталях и который изображает в свободном падении, указующим острием на горло беспомощного отрока, приковывающее взор созерцателя.
Рембрандт ван Рейн. Жертвоприношение Авраама. 1635. Холст, масло. 193 133 см. Эрмитаж, Санкт-Петербург
Разумеется, Рембрандт, подобно своим предшественникам-католикам (Караваджо, Ластману, Рубенсу), вполне отдавал себе отчет в том, что христианская традиция видела в жертвенном Исааке предвосхищение кровавой жертвы Распятия, которую принесет Бог Отец, обрекая на муки и гибель Сына. Неизвестный заказчик, для которого была написана картина (и ее копия, находящаяся в Мюнхене), явно осознавал, что этот подтекст есть важная составляющая ее религиозных коннотаций. Однако, как обычно, трудная задача, которую поставил себе Рембрандт, будучи в этом отношении достойным наследникм и Караваджо, и Рубенса, заключалась не в передаче доступных лишь посвященным оттенков конфессиональной иконографии. Его целью было приблизить Священную историю к человеку, способному различить в ней те же радость, горечь, разочарование, что он испытывает в обыденной жизни. В кальвинистском мире, где беспрекословное повиновение неисповедимой воле Творца снова и снова превозносилось как неотъемлемый признак истинной веры, испытание отца, которому Господь повелевает убить сына, ниспосланного ему в старости, воспринималось с исключительной серьезностью. Однако картина Рембрандта исполнена не столько протестантского рвения, сколько отцовской скорби. Он только что потерял собственного младенца. Ему не требуются проповеди о необходимости подчинения жестокому Господнему закону. Однако ему хочется верить в милосердие Божие, и потому он придает испуганному и гневному лицу Авраама взгляд безумца, выпущенного на поруки из преисподней.
Рембрандт ван Рейн. Похищение Ганимеда. 1635. Холст, масло. 171 130 см. Галерея старых мастеров, Дрезден
Какую бы религию Рембрандт ни исповедовал тайно или явно, он хорошо знал, каким именно образом христианская доктрина поставила себе на службу не только Ветхий Завет, но и языческую литературу Античности. Так, в «нравоучительных» версиях «Метаморфоз» Овидия, имевших хождение в Нидерландах, даже самые невероятные сюжеты были снабжены назидательными христианскими поучениями и сентенциями. Учитель Рубенса Отто ван Вен издал сборник эмблем, представляющих победу Божественной любви над любовью мирской[445]. А Карел ван Мандер включил в издание своей «Книги о художниках» 1604 года перевод поэмы Овидия на голландский, должным образом подчищенный и выхолощенный с учетом потребностей протестантов. Но даже в этом случае трудно вообразить миф менее подходящий для наставления христиан, чем история троянского царевича, пастуха Ганимеда, унесенного Зевесовым орлом на Олимп, где он сделался виночерпием и возлюбленным царя богов. К счастью для интерпретаторов, стремившихся любой ценой христианизировать античные мифы, существовала и малоизвестная традиция, которая в духе Платона рассматривала вознесение Ганимеда на Олимп как бегство чистой души из развращенного и низменного земного мира в Царство Небесное[446]. Выходит, оставалось внести лишь небольшие коррективы: заменить Отцом Небесным известного своей ненасытной чувственностью Зевса – Юпитера. Ганимед, призванный к своему отцу, сохранял чистоту и, возможно, даже являл прообраз самого Спасителя! Однако в этой новой, христианизированной версии мифа Ганимед – хорошенький, стройный отрок был бы неуместен. Вместо этого в сборниках христианских эмблем он предстает в облике херувима, летящего на благодушной птице, а ножки его свисают по бокам орлиного тела, точно с карусельной лошадки.
Но у Рембрандта Ганимед, по-видимому, нисколько не наслаждается полетом. Рот его широко разверст, он явно зашелся в истошном вопле и обмочился от страха, выпуская на быстро удаляющийся город внушительную струю. С точки зрения Кеннета Кларка, это был еще один выпад Рембрандта в адрес классической традиции, хотя тут он, по мнению именитого искусствоведа, стал в позу скорее пуританина, нежели мужлана. Как полагал Кеннет Кларк, эта картина 1635 года содержит в себе «протест не только против античного искусства, но и античной морали и их сочетания, господствовавшего в Риме XVII века» и представленного, в частности, столь печально известным обожателем Ганимеда, как Микеланджело[447]. Однако я бы сказал, что Рембрандт ставит себе цели куда более честолюбивые, чем просто осмеять воспевание педерастии, почерпнутое из греческих мифов. Рембрандт обладал энциклопедическими познаниями и потому не мог забыть астрологическую легенду, согласно которой Ганимед был обращен в созвездие Водолей. Рембрандт словно наслаждается собственным озорством, указывая на эту эзотерическую деталь всякому, кого шокировало самое знаменитое мочеиспускание в исторической живописи Северной Европы. Вполне вероятно, как утверждает Маргарита Расселл, что ему была известна знаменитая брюссельская статуя «manneken pis» работы Франсуа Дюкенуа, во всяком случае, он мог видеть ее на гравюрах, а в описи его имущества, распродаваемого за долги, упомянуты писающий путто, а также резное изображение плачущего купидона, который, по мнению некоторых искусствоведов, мог послужить моделью для Ганимеда и скованного Эрота на картине «Даная», написанной год спустя[448]. Во Фландрии Рубенс наверняка выпил не одну кружку «ангельской мочи», ведь такие популярные напитки, как пиво и вино, неизменно превозносили, называя «pipi d’ange» или даже «pipi de Jsus».
Рембрандт ван Рейн. Добрый самаритянин. 1633. Офорт. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк
Зная античную литературу не хуже Священного Писания, Рембрандт руководствовался ученым педантизмом не в большей степени, нежели благочестием. Если его часто занимали античные образы, то скорее приземленный Плавт, нежели метафизически возвышенный Платон. В конце концов, он уже создал два офортных изображения мочащихся мужчины и женщины, и при всем желании в этих предельно откровенных гравюрах, запечатлевших ниспадающую сверху струю и грубо расставленные ноги, нельзя усмотреть ничего духовного. Как это ни парадоксально, вульгарные образы, совершенно сознательно включенные Рембрандтом в композиции на высоконравственные библейские сюжеты и потому кажущиеся особенно неуместными, столь шокировали искусствоведов, что они бросились подыскивать им строгие и чопорные ученые объяснения. Так, например, пес, беззастенчиво и обильно испражняющийся на ярко освещенном переднем плане офорта 1633 года «Добрый самаритянин», был объявлен символом низменной жизни, очищаемой и возвышаемой достойными деяниями таких вот «добрых самаритян»[449]. Однако та же исследовательница, что пытается найти «разумное иконографическое объяснение» присутствию собаки на офорте, отмечает несомненное наслаждение, с которым Рембрандт запечатлевает выделительные процессы, и продолжает: «С трудом удерживающий равновесие, отчетливо тужащийся, забывший обо всем на свете, кроме испражнения, пес в „Добром самаритянине“ остается одним из самых симпатичных и правдиво изображенных созданий во всем творческом наследии художника»[450].
Рембрандт ван Рейн. Ребенок, бьющийся в истерическом припадке. Ок. 1633. Рисунок. Бумага, перо, кисть, мел. Кабинет гравюр, Государственные музеи, Берлин
Именно испражняющиеся собаки и мочащиеся Ганимеды принадлежали к числу деталей, чрезвычайно расстроивших самозваных блюстителей хорошего вкуса, которые объявились в голландском искусстве в конце XVII века, включая бывшего ученика Рембрандта Самуэля ван Хогстратена. В постоянном стремлении Рембрандта подмечать приземленные, грубые подробности обыденной жизни они видели инфантильную вульгарность, совершенно несовместимую с высоким поприщем живописца. И отнюдь не ошибались, утверждая, что Рембрандт возвращается к старинной северной раблезианской традиции, без колебаний сочетавшей возвышенное и низменное в одном произведении. Вероятно, Рембрандт, как и драматург Бредеро, тяготел к этой давней традиции не потому, что был безнадежным консерватором и упрямым ретроградом, а потому, что в ней его привлекало широкое понимание человеческого начала и то откровенное уважение, которое она испытывала не только к духовным, но и к телесным, животным аспектам человеческой жизни. Подобное мировосприятие нисколько не стыдилось низменных сторон существования и не отворачивалось от них конфузливо. Напротив, оно даже могло над ними посмеяться. На подготовительном эскизе к «Ганимеду» изображены родители похищенного дитяти, причем отец смотрит на небо в некое подобие телескопа, а значит, Рембрандт имел в виду происхождение созвездия Водолей, подателя зимних ливней. Поэтоу серебряная струя, испускаемая Ганимедом, – это благословение. Он мочится на землю и тем самым возрождает ее к жизни. Золотая сперма Юпитера, изливаемая на девственную Данаю, – это семя героического века.
Смертные и бессмертные свободно общаются на его полотнах и гравюрах. Выходит, Рембрандт не только не видел ничего дурного в том, чтобы изображать рядом с классическими античными героями амстердамских прохожих; более того, он осознавал, что без этого мифы навсегда уйдут из современной жизни и постепенно умрут. Подобный урок ему тоже преподал Рубенс. Ведь хотя фламандский мастер неизменно прибегал к своему архиву зарисовок античной скульптуры и ренессансного искусства, его работы не производили бы яркого впечатления, если бы он не изображал на исторических полотнах и своих соотечественников, лица которых подсмотрел на рынках и в тавернах, в церквях и на улицах Антверпена. Рембрандт пошел еще дальше и стал растворять классических персонажей в гигантской «человеческой комедии», которую представлял в своих графических работах. Разумеется, искаженная горем маска рыдающего Ганимеда отчасти навеяна плачущими херувимами, но вместе с тем Рембрандт написал ее «naer het leven» – с натуры. Воссоздавая на холсте миф о Ганимеде, Рембрандт вновь готовился стать отцом. Поэтому, хотя и не стоит проводить слишком очевидные параллели между жизнью и искусством, совершенно естественно, что его опять заинтересовала мимика и язык тела, свойственные маленьким детям[451].
Рембрандт ван Рейн. Иаков, ласкающий Вениамина. Ок. 1637. Офорт, первое состояние. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк
Около 1637 года, когда Саския вновь ждала ребенка, Рембрандт выполнил прекрасный офорт, известный под названием «Иаков, ласкающий Вениамина»: маленький сын, которому Рембрандт придал чудесные черты, опирается на колени отца, смеется чему-то, чего мы не видим, ерзает, ставит одну пухлую ножку на другую. Это работа художника, которого мир совсем юных (и мир совсем старых) интересует куда больше, чем стандартные иконографические модели младенцев и старцев. Младенец Ганимед описан с точностью и откровенностью, которой недостает классическим барельефам, статуям мочащихся мальчиков, украшающих фонтаны, одухотворенным купидонам из сборников эмблем и изображениям покойных деток, в облике крылатых херувимов парящих над головой родителей на семейных портретах. Ганимед Рембрандта – настоящий маленький мальчик, начиная от внушительных размеров мошонки, мясистых ляжек и толстенького, в складочках, животика и заканчивая вздернутым носом, пухлыми щечками и кудрявым затылком. В конце концов именно земное наслаждение, с которым создан и этот образ, и «Даная», не позволяет интерпретировать их как однозначную аллегорию незапятнанной добродетели. Возможно, Рембрандт держал в памяти откровенно чувственные версии этого сюжета, написанные Корреджо и Рубенсом. Однако, подобно тому как он поступил с «Сусанной», превратив традиционный объект желания в сложный образ стыда и сопротивления, он подчеркнул, что вздымаемый в воздух младенец не примирился со своей участью. Может быть, он исполняет роль Чистой Души, отчаянно цепляющейся за горсть вишен. Может быть, он – Водолей, податель дождя и новой жизни. Однако Рембрандт показывает, как он восстает против своей судьбы. Если это полет, долженствующий завершиться преображением, Ганимед предпочел бы сойти.
Чума собирала обильную дань, с каждым днем унося все новые и новые жертвы. В Лейдене, родном городе Рембрандта, она уничтожила около трети населения, а в Амстердаме, прежде чем пойти на убыль, – почти четверть. Проповедники заявляли, что моровые поветрия обрушивает на грешников в своем праведном гневе Иегова. Чума есть карающий бич, терзающий спину погрязших в пороке, заслуженное наказание за идолопоклонство и безбожную страсть к золоту. Проповедники зачитывали своей невнемлющей пастве главы Священного Писания, повествующие о судьбе Израиля и Иудеи, возлюбленных Господом, но прогневивших Его своей развращенностью, тщеславием и гордыней. Они преисполнились высокомерия и потворствовали собственным страстям, они взяли священные сосуды из храма Иерусалимского и святотатственно осквернили нечестивым обжорством. Они опьянялись собственной надменностью. Смотрите, что творите, призывали проповедники. В своем отражении на стенке золотого кубка вы узрите запятнанную душу. Отриньте жареных павлинов.
Рембрандт ван Рейн. Пир Валтасара. Ок. 1635. Холст, масло. 167,6 209,2 см. Национальная галерея, Лондон
Поэт и драматург Ян Харменс Крул, портрет которого написал Рембрандт, опубликовал несколько произведений, где яростно атаковал страсть к роскоши и предупреждал о ее последствиях[452]. Поэтому не исключено, что в 1635 году Рембрандт создал свой невероятный «Пир Валтасара» для столь же сурового и непреклонного в своем аскетизме клиента, который хотел постоянно иметь перед глазами эффектное и зрелищное напоминание о гибельности мирской власти и роскоши. История Валтасара, излагаемая в главе пятой Книги пророка Даниила, обыкновенно воспринималась как предостережение от пышных, изобильных пиров. Так, маньерист Ян Мюллер для своей версии этого сюжета, написанной в 1597–1598 годах, заимствовал элементы «Тайной вечери» Тинторетто, украшающей венецианскую церковь Сан-Джорджо Маджоре: ряд длинных столов, освещенных свечами и служащих композиционной доминантой картины[453]. Полотно Рембрандта блистает золотом еще ярче, чем «Даная», созданная примерно в это же время. Однако в этой картине на историческую тему золото оказывается уже не благословением, а проклятием, оно не столько сияет, сколько распространяет вокруг страшную заразу; ее словно излучают и пышные одеяния царя, и зловеще сверкающие золотые сосуды, захваченные правителем Вавилона в храме Иерусалимском и оскверненные на пиру.
Библия говорит о том, что Валтасар пил из похищенных священных сосудов «со своими вельможами, женами и наложницами». Чтобы дать представление о размерах огромного пиршественного зала, Рембрандт мог прибегнуть к своему прежнему приему, расположив группы небольших фигурок в глубоком, напоминающем пещеру пространстве. Однако, ограничившись несколькими обособленными крупными фигурами, включая самого царя, и почти притиснув их к краю полотна, так что они едва не выпадают в пространство зрителя, Рембрандт действительно сумел усилить ощущение зловещей тесноты. На этой вечеринке нет запасного выхода.
А еще этот Вавилон очень похож на Утрехт. Именно у утрехтских караваджистов: ван Бабюрена, Тербрюггена и Хонтхорста – Рембрандт заимствовал своих пирующих язычников, «вельмож, жен и наложниц» царя. Куртизанка в жемчугах и страусовых перьях, сидящая на краю слева, выделяется своим силуэтом на сияющем фоне, а ее неподвижность, как и в случае со сгорбившимся персонажем, представленным со спины на картине «Христос, усмиряющий бурю на море Галилейском», подчеркивает потрясение и взволнованность остальных участников пира. Призрачная красавица, лицо которой оставлено в подмалевке, перебирает пальцами по флейте и наблюдает за нами; она тоже заимствована из стандартного репертуара утрехтских живописцев, умевших придавать назидательным сюжетам чувственную привлекательность. Однако бархатистый пунцовый наряд и нагие плечи женщины справа, в страхе отпрянувшей от загадочного видения и расплескивающей вино из золотого кубка, словно сошли с картины эпохи расцвета итальянского Ренессанса; особенно разительно ее фигура напоминает «Похищение Европы» Веронезе в венецианском Дворце дожей, копию которого Рембрандт видел в амстердамской коллекции своего покровителя Йохана Хёйдекопера[454].
Однако все остальное, прежде всего театр жестов, еще более важный для понимания всего живописного нарратива, чем в «Аврааме», – результат визуальных ухищрений самого Рембрандта. Жест, который в ужасе делает Валтасар, словно отталкивая чертящего загадочные письена призрака, – это зеркальное отражение образа Данаи, которая поднимает руку, приветствуя возлюбленного (особенно в первоначальной версии, где она не вскидывала руку так высоко), и образа Авраама, занесшего руку над беспомощным отроком. Наиболее драматичное действие (исключая движения перстов, чертящих письмена на стене) сосредоточено в пределах параллелограмма, образованного правой кистью Валтасара, которой он невольно опирается на золотое блюдо, подробно выписанным шитьем его тюрбана, его простертой левой рукой и багряным рукавом и рукой наложницы. Это полотно (как и многие другие обсуждавшиеся выше картины) было обрезано по краям, поэтому приходится сделать усилие и вообразить, как оно слегка вращается по часовой стрелке, чтобы создалось полное визуальное ощущение хаоса и персонажи на наших глазах стали падать со своих мест, а вино – выливаться из кубков.
Этот холст также можно считать одним из наиболее ярких опытов Рембрандта в изображении сильных чувств, «affecten», прежде всего потрясения, написанного на лицах пирующих, приоткрывших рот от изумления, и в первую очередь самого Валтасара: его освещает призрачный свет, глаза у него, как у апостолов на картине «Ужин в Эммаусе», почти вылезают из орбит. Точно передавая библейский текст, Рембрандт подчеркивает, сколь недолговечны и мимолетны приметы бренного мира: и драгоценные металлы, и земные удовольствия, и могущественные царства. Чтобы добиться этой цели, ему, как это ни парадоксально, пришлось сделаться натюрмортистом; для начала он нанес на холст необычайно темный подмалевок, позволяющий сделать фактуру твердых объектов и жидкостей: проливаемого вина, лопнувших фиг и виноградин – эмблем разврата, пышно расшитой парчи – сияющей и особо чувственной. Не в последний раз Рембрандт превращается в искусного ремесленника, подобного своему другу, серебряных дел мастеру Лутме, чеканные, богато украшенные блюда и кубки которого Рембрандт часто изображал на своих полотнах на исторические сюжеты. Живописную поверхность, создаваемую густым слоем различных оттенков охры, массикота и свинцовых белил на мантии и тюрбане царя, Рембрандт умело преображает в сияющую отраженным светом ткань. Тюрбан мерцает жемчужными переливами. Сверкающие драгоценные камни: оникс, рубины, горный хрусталь, в особенности крупный самоцвет в основании кисточки, свисающей с тюрбана, – собраны из густых мазков вязкой, тестообразной краски. Однако среди этого буйства ярких, почти рельефно накладываемых цветов Рембрандт со свойственной ему изобретательностью помещает изящные, нежные детали, вроде серьги в форме полумесяца, украшающей мочку царя и ярко освещенной вдоль того края, что находится ближе к призраку. Даже мех на опушке царской мантии в потоке загадочного, вещего света стоит дыбом, точно под действием статического электричества, пробужденного надвигающейся карой.
Электризирующий эффект материи, пришедшей в смятение и растворяющейся, власти и могущества, уходящих меж пальцев, словно пролитое, расплескиваемое вино, медных и золотых кубков, будто переплавляемых на глазах у зрителя, тем более потрясает, что ужасные письмена еще не начертаны на оштукатуренной стене, как указано в Священном Писании. Подобно тому как в «Данае» Рембрандт отказался от банального дождя из монет, заменив его золотистым сиянием, он предпочел изобразить длань, чертящую зловещие знаки: написанная куда более гладко и плавно, нежели руки царя, она появляется из облака и запечатлевает на стене письмена в ореоле огненного света. Еврейский ученый и издатель Менаше бен Исраэль, сефард, живший по соседству с Рембрандтом на Антонисбрестрат, наверняка посоветовал ему внести в картину дополнительную эзотерическую деталь – расположить еврейские (арамейские) буквы не горизонтально, справа налево, а вертикальными столбцами. Рука изображена в тот миг, когда она вот-вот запечатлеет последнюю букву, обрекая царя на гибель той же ночью, как только пророк Даниил истолкует ему смысл видения. Таинственная длань исчезнет в воздухе, а вместе с нею рассеется, как сон, мирская слава и власть царя.
Эта картина – ужасный двойник «Данаи», ее отражение в кривом зеркале. Она имеет те же размеры, ту же композиционную структуру, те же основные элементы: полог, отдернутый и впускающий мощный поток света, тело главного персонажа, распростертое перед нами во весь рост, его лицо, четко очерченное на фоне этого яркого сияния. Но в этом свете совершается не зачатие, а уничтожение. Этот свет столь резок и насыщен, что в его лучах различима под газовым рукавом блузы изящная рука Далилы. Этим отраженным светом сияют ее глаза, широко раскрытые в садистическом экстазе. Однако на Самсона этот поток света вместе с местью врагов обрушивается с невероятной силой, и он не видит его. Один глаз он зажмурил в муках, другой его враги выкалывают яванским кинжалом крисом, из пронзенной глазницы бьет струя пурпурной крови, каждая капля которой педантично выписана и ярко освещена художником, а он явно опирался на муштабель, чтобы запечатлеть тончайшие детали. Самсон уже не в силах воспринять этот ослепительный блеск. Его застигли врасплох: в полусне, в полутьме, опьяненного вином и похотью, – и отныне мир для него окутает мрак.
Конечно, и до Рембрандта этот сюжет использовали множество раз; достаточно вспомнить его собственную картину, два полотна Ливенса и два – Рубенса. Однако история живописи не знала ни одного холста, на котором столь беспощадно и подробно была бы запечатлена троякая гибель героя, утрачивающего и потенцию, и зрение, и силы[455]. Мы ощущаем всю тяжесть этого рокового мига, созерцая изображенные Рембрандтом скобяные изделия. Цепи столь жестоко впиваются в запястья пленника, что на них вот-вот выступит кровь. Рукоять криса, который Рембрандт, великий ценитель оружия и экзотических предметов, вероятно, купил для своей коллекции, богато украшена чеканкой, его извилистый изящный клинок, выписанный с абсолютной точностью, словно поворачивается, глубоко проникая в глазницу поверженного героя. Ножницы, которые сжимает в руке торжествующая Далила, поблескивают в потоке яркого света. На беспомощного пленника вот-вот наденут наручники. Один из филистимлян рукой в латной перчатке хватает распростертого гиганта за бороду. Шлем падает с головы воина, который опрокинул на себя Самсона и, лежа под его телом, удерживает его на спине за горло удушающим приемом.
Рембрандт ван Рейн. Ослепление Самсона. 1636. Холст, масло. 205 272 см. Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне
Конечно, искусство XVII века любило кровавые сюжеты с нравоучительным подтекстом[456]. Такие художники, как Рубенс, видевшие работы Караваджо и статую Лаокоона, считали последнюю классическим примером добродетели, обретаемой через муку, «exemplum doloris». И Рубенс был отнюдь не одинок в своей любви к образам столь страшным, исполненным множества столь отвратительных подробностей, что даже сегодня, в наш век обильно выпускаемых на экранах и мониторах внутренностей и разбиваемых голов, тяжело на них смотреть. Тем труднее избавиться от ощущения, что этот благороднейший из живописцев наслаждался, создавая самые ужасные свои полотна, например гигантскую картину для церкви иезуитов в Генте, изображающую мученичество святого Ливина. Святой, по бороде которого струится кровь, взирает, как его вырванный с корнем язык болтается в клещах мучителей и вот-вот сделается добычей жадной своры голодных псов. Красноречие уст, которые обрекла на безмолвие варварская жестокость, подвигло Рубенса создать несколько наиболее запоминающихся и наиболее жутких образов во всем его наследии. Кроме святого Ливина, он написал незабываемого святого Иуста из Бове, отрока-мученика, который держит в руках собственную отрубленную голову, выставляя на всеобщее обозрение ужасные, натуралистично выписанные раны на шее, и зловещий эффект от этого полотна лишь слегка умеряет тот факт, что голова святого продолжает увещевать язычников, пребывающих в простительном изумлении. В коллекции Фердинанда I едичи, великого герцога Тосканского, Рубенс видел один из наиболее жутких шедевров Караваджо, «Медузу»; она столь ярко запечатлелась в памяти художника, что он решил превзойти эффект итальянского образца для подражания, «paragone», изобразив отрубленную голову с влажным, скользким срезом шеи и кишащими на полотне змеями (возможно, их написал Франс Снейдерс, которому Рубенс доверял выполнять самые зловещие и ужасные детали); они сами собою зарождаются в кровавой слизи и, не зная покоя, извиваются, спариваются, бросаются друг на друга и издыхают, иногда все это – одновременно. В своей автобиографии Константин Гюйгенс упоминает, что в 1629–1631 годах копия этого знаменитого шедевра находилась в собрании его друга, амстердамского купца Николаса Сохира. Если учесть склонность образованных голландцев ко всему жуткому и зловещему, а также их любовь к каламбурам, страшная «Медуза», по всеобщему мнению, как нельзя более подходила купцу, который, женившись на свояченице поэта и драматурга Питера Корнелиса Хофта («Хофт» по-голландски означает «голова»), переехал в «Дом с головами», названный так по своеобразному архитектурному декору. Часто, и совершенно справедливо, цитируют высказывание Гюйгенса: он, мол, очень рад, что эта картина – в коллекции его друга, а не в его собственной. Однако одновременно он признает, что, если зритель неизбежно испытывает шок, когда с картины совлекают скрывающий ее занавес, сочетание прекрасных женских черт и отвратительных змей «исполнено столь изящно, что воистину нельзя не ощутить естественность и красоту сего жестокого творения»[457].
Питер Пауль Рубенс. Голова Медузы. Ок. 1617. Холст, масло. 68,5 118 см. Музей истории искусств, Вена
Создавая «Самсона», Рембрандт в значительной мере ориентировался на другую картину, исполненную небывалой жестокости, – «Прометея прикованного» (с. 241), совместно выполненного Рубенсом и Снейдерсом и удостоенного лейденским поэтом Домиником Баудиусом пышного и цветистого стихотворного панегирика[458]. Надо сказать, что и совместное творение Рубенса и Снейдерса было не первым подобным изображением жуткого и детального насилия: они, в свою очередь, взяли за основу картину, на которой Тициан запечатлел ужасную судьбу титана Тития (в 1560 году это полотно гравировал Корнелис Корт). Пытавшийся подвергнуть насилию нимфу Латону, мать Аполлона и Дианы, Титий в наказание был прикован к скале в Аиде, где две змеи, два стервятника или два орла непрерывно терзали его печень, согласно древним источникам, обитель чувственного влечения. (Этот его орган, как и печень Прометея, неизменно восстанавливался, чтобы вновь послужить кормом птицам; столь жестокая пытка предусматривалась наказанием.)[459] Показывая в перспективном сокращении сжавшийся в комочек жертвенный орган, Рубенс выписывает его не менее тщательно, чем впоследствии Рембрандт – обнажившиеся мышцы на предплечье Ариса Киндта. Не исключено, что, глядя на гравированную копию работы Рубенса и Снейдерса, Рембрандт заметил, как орел глубоко запускает когти в глаз Прометея. Он был наказан за то, что пытался похитить божественный огонь. Однако, согласно теории Платона, которой следовали многие современные Рембрандту справочники и учебники по офтальмологии, например «Хирургия» Карела ван Батена, зрение имело огненную природу (приверженцы Аристотеля, напротив, справедливо настаивали, что стекловидное тело глаза в значительной мере состоит из воды). В стихотворном панегирике Баудиуса упомянуто орлиное око, «преисполненное всепоглощающего пламени». Сопоставление сверкающего глаза птицы и гаснущего огня в тускнеющем взоре Прометея – яркая деталь, которая почти наверняка не ускользнула от внимания наблюдательного Рембрандта и вдохновила его на создание собственного шедевра на ветхозаветный сюжет.
У всех его предшественников: Тициана, Караваджо, Рубенса – гигант беспомощно распростерт вверх лицом, воздев ступни в воздух; своим истерзанным телом он образует диагональ пространства картины и лежит головой к зрителю. Но Рембрандт не только использует свет и цвет так, как никогда бы не пришло в голову его старшим собратьям, но и решительно опровергает основные принципы создания глубины в живописи. Любой автор картин на исторические сюжеты, владеющий хотя бы минимумом профессиональных знаний, исходил из освященного веками предположения, что более светлые фрагменты картины зритель воспринимает как более близкие, а более темные – как более удаленные[460]. Однако Рембрандт прибегает к гениальному и дерзкому приему, располагая наиболее ярко освещенные участки картины на заднем плане; поэтому кажется, будто Далила бросается в бегство, чтобы не стать свидетельницей жуткой сцены пыток в сияющей глубине картине. (Впоследствии, внося изменения в первоначальный вариант, Рембрандт сделает этот задний план еще ярче.) Торжествуя возмездие, сжимая в руке добычу – остриженные кудри Самсона, она выбегает из пещеры в направлении, обратном тому, в котором распростерто тело великана и в котором движутся его мучители, бросающиеся на его торс и голову. В результате, благодаря этим противоположно направленным движениям, в картине воцаряется некая маниакальная энергия. А все неудачные, неловкие детали: руки воинов, показанные в чрезмерном ракурсе, небрежными мазками наложенная краска на отороченном мехом кафтане филистимлянина с алебардой – лишь усиливают это ощущение бешеной жестокости. Картина Рембрандта в большей степени, нежели ее непосредственный предшественник «Прометей», напоминает рубенсовские сцены охоты на львов, с их хаосом насилия и боли. В 1629 году Рембрандт создал офорт с подобной сценой охоты, на котором всадник заносит копье, чтобы пронзить им голову хищника примерно так же, как мучитель заносит алебарду над головой Самсона. (Следует вспомнить, что львы играли решающую роль в истории этого ветхозаветного персонажа.) Однако Рембрандт накладывает краску на холст в более агрессивной и грубой манере, чем Рубенсу могло хотя бы помниться. Рембрандт неоднократно возвращался к «Самсону», изменяя положение некоторых персонажей и отказавшись от изначальной гладкости, чтобы стиль письма максимально соответствовал сюжету. На картине есть детали, изображающие страдания Самсона: скрюченные от боли пальцы на ногах, зубы, стиснутые в пароксизме муки, – где краска кажется нанесенной на холст ударами ножа или кинжала.
Грубая физическая энергия, царящая в пространстве «Самсона», разительно отличала его от стандартных барочных картин на исторические сюжеты, гладких, плавных и едва ли не подражающих антверпенским и итальянским мастерам. Разумеется, Рембрандт стремился не просто создать новую, кровавую и жестокую живописную драму насилия, а воплотить свою изначальную идею искупления через страдание. Искусствоведы издавна предполагали, что именно «Ослепление Самсона» 12 января 1639 года Рембрандт преподнес Гюйгенсу, желая добиться его расположения и ускорить выплату гонорара за цикл «Страсти Христовы», и дал совет «повесить ее так, чтобы на нее падал яркий свет и чтобы ее можно было оценить по достоинству еще издали»[461]. Если Рембрандт действительно подарил Гюйгенсу «Самсона», то его друг и покровитель воспринял картину как изображение искупительной жертвы, мига, когда трагический герой платит страшную цену за гордыню, тщеславие и похоть.
Иными словами, Самсона постигла кара за нравственную слепоту. Но теперь, лишившись зрения, он мог увидеть мир в его истинном свете.
Такая мысль красной нитью проходит и в собственном стихотворении Гюйгенса «Ooghen-troost», опубликованном спустя одиннадцать лет после создания «Самсона», однако написанном в тридцатые годы XVII века. В заглавии Гюйгенс использует метафору своего излюбленного типа, ведь так именовалась по-голландски трава ефразия, или очанка лекарственная, яркие цветы которой, в соответствии со средневековым «учением об аналогиях», основанном на внешнем сходстве растения и его благодетельных свойств, доженствовали исцелять от помутнения зрения. Так, в одном типичном и вызывающем некоторые сомнения рецепте, составленном на исходе Средневековья, рекомендовалось смешать очанку с репейником, полынью, кровохлебкой, буквицей и, для пущего эффекта, с «мочой целомудренного отрока»[462]. Однако слово «ooghen-troost», имеющее и другое значение: бальзам для глаз, утешение для взора, – относилось не только к примочкам, но и к совету, который Гюйгенс в форме нравоучительной поэмы давал дочери своего старого друга Лукреции ван Трелло, утратившей зрение на одном глазу, возможно в результате глаукомы[463].
Гюйгенс утешает Лукрецию совершенно бесстрастно, хотя в безупречном неостоическом вкусе. Прими свою судьбу. Такова неисповедимая воля Божия. То, что представляется жестоким ударом и испытанием, может оказаться стезей к самосовершенствованию. Проклятие таит в себе особый дар: способность различать «falsa bono» и «falsa mala», ложное благо и ложное зло, внешнее и внутреннее зрение. Частично потерять зрение, поучал Гюйгенс Лукрецию, означает лишиться именно того, что представляется наиболее привлекательным внешне, однако, подобно блеску золота или телесному соблазну, ведет нас к скорби и греху.
Основную часть поэмы Гюйгенса составляло перечисление «воинства слепцов», то есть тех, кого прежде всего соблазнило колдовство прелестных зрелищ: скряг, любовников, правителей, ослепленных властью, и, не в последнюю очередь, художников, которых автор подвергает особенно язвительной критике. По мнению Гюйгенса, они заслуживают троякого упрека: во-первых, потому, что дерзают изображать истинный облик вещей, а в действительности лишь воспроизводят их поверхностное обличье, во-вторых, потому, что безрассудно тщатся подражать замыслу Творца, и, в-третьих, потому, что в своей глупости святотатственно притязают называть пейзаж или пригожего человека «schilderachtigh», «картинным», «живописным»! Гюйгенс едко замечает, что это картина должна показать себя достойной творений Божьих, дабы заслужить похвалу, а не наоборот. Парадоксальным образом, подобно тому как утрата одного способа восприятия мира усиливает другой, частичная потеря зрения избавляет смертных от этих безумных оптических иллюзий и обманов, побуждая их сосредоточиться на «binnenwaarts zien» – внутреннем зрении.
Рембрандт ван Рейн. Исцеление слепого Товита. Ок. 1645. Бумага, перо коричневым тоном, белая гуашь. Музей искусств, Кливленд
На первый взгляд может показаться странным, что Гюйгенс, в своем подробном сравнении Ливенса и Рембрандта зарекомендовавший себя столь проницательным и тонким, безупречно анализирующим живописные детали знатоком, обрушился с гневными обвинениями в адрес предательского зрения[464]. Однако у протестантских гуманистов самый глубокий интерес к исследованию зрения и радость от созерцания природы и предметов искусства нередко сочетались со скорбным недоверием к этому приятному способу познания мира, который в конечном счете не позволял обрести те истины, что открывались внутреннему взору. С особым подозрением протестантские гуманисты относились к католической Контрреформации, всячески поощрявшей зрелища, поскольку они позволяли душе испытать мистический восторг, а через него достичь Божественного откровения. Сам Гюйгенс примыкал к древней традиции, начало которой положил святой Павел и которая находит наиболее яркое отражение в тех фрагментах «Исповеди» Блаженного Августина, где автор отвергает соблазны зрения. «Глаза любят красивые и разнообразные формы, – пишет Блаженный Августин, – яркие и приятные краски. Да не владеют они душой моей; да владеет ею один Бог». «Сам[ому] цар[ю] красок, солнечн[ому] свет[у], заливаю[щему] все, что мы видим» Августин приписывал демоническую природу и полагал, что он совращает доброго христианина с пути праведного. Истинный же свет, продолжает он, это свет, «который видел Товит, когда с закрытыми глазами указывал сыну дорогу жизни и шел впереди него ногами любви, никогда не оступаясь»[465].
Рембрандт ван Рейн. Ангел, покидающий Товию и его семейство. 1637. Дерево, масло. 68 52 см. Лувр, Париж
Поэтому нас не должно удивлять, что одновременно с тремя картинами на тему истории Самсона, в том числе ужасным и незабываемым «Ослеплением», Рембрандт продолжал иллюстрировать Книгу Товита, которая по-прежнему обладала для него немалой притягательностью. Все творчество Рембрандта есть нескончаемый диалог между внешним и внутренним зрением, между блеском неумолимой в своей твердости металлической поверхности мира и уязвимостью смертной плоти, между вульгарной зрелищностью золотого Валтасарова царства и внезапным видением, в котором предстает его гибель. Пройдет еще двадцать пять лет, и Йост ван Вондел и его друг Джон Мильтон напишут свои версии истории Самсона, в которых ослепленному герою будет даровано пророческое внутреннее зрение. В том же самом 1660 году, когда Рембрандт создаст своего чрезвычайно неоднозначного одноглазого Клавдия Цивилиса, Вондел напишет еще две пьесы, созвучные его творению, где пораженные нравственной слепотой персонажи достигают благодати и обретают истину через саморазрушение и слепоту: «Отмщение Самсона» и «Эдип-царь», вариант трагедии Софокла[466]. Самсон у Вондела прямо говорит о том, что его погубила «слепая страсть» к Далиле, а затем о «слепом идолопоклонстве» филистимлян, которое в конце концов и приведет их к падению. Спустя десять лет хор евреев из колена Данова у слепого Мильтона в драматической поэме «Самсон» так воспевает финальное искупление героя:
- А он, лишенный зренья,
- Изведавший весь мрак уничтоженья, —
- Вдруг внутренним исполняясь светом,
- Из пепла пламя прежнее извлек…[467]
Рембрандт ван Рейн. Ангел, покидающий Товию и его семейство. 1641. Офорт. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк
В шестидесятые годы XVII века Рембрандт разработает манеру письма, объединяющую внешнее и внутреннее, телесное и духовное, зрение, манеру, почти столь же обязанную осязанию, сколь и зрению, и совершенно противоположную зарождающейся моде на жестко сфокусированные, четко очерченные, разноцветные, обведенные твердым контуром формы, сияющие отраженным светом[468]. Однако и за четверть века до этого Рембрандт уже неутомимо и напряженно экспериментировал с обеими этими техниками, запечатлевая истории ослепления и прозрения.
Рембрандт ван Рейн. Возвращение блудного сына. 1636. Офорт. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк
Судя по рисунку «Исцеление слепого Товита», хранящемуся в Музее искусств Кливленда, Рембрандт, уже продемонстрировавший весьма профессиональный интерес к анатомии, также ознакомился с офтальмологической литературой, посвященной удалению катаракты. Ведь вопреки установившейся традиции и тексту библейского апокрифа Товия у Рембрандта не смазывает глаза отца рыбьей желчью, следуя указаниям архангела Рафаила, а ловко манипулирует иглой хирурга-офтальмолога, поворачивая и вращая ее кончик таким образом, чтобы отделить отвердевшую ткань на поверхности роговицы и опустить ее в нижние слои глазного яблока. (На этот сюжет Рембрандт написал картину, однако она дошла до нас только в ученической копии.) Все детали операции (старика удерживают за голову, приподнимают и фиксируют его веко, иглу вводят в глазное яблоко очень осторожно) заимствованы непосредственно из таких медицинских трактатов, как перевод на голландский «Врачебного справочника» («Medecynboek») Освальда Габельковера, выполненный утрехтским доктором Карелом ван Батеном, и «Лечение глазных недугов» («Ophtalmoduleia») немецкого хирурга Георга Бартиша[469]. Выдвигалось предположение, что Рембрант изобразил операцию столь точно, воспользовавшись советами амстердамского хирурга-офтальмолога Йоба ван Мекерена, ведь подобную процедуру не могли провести обычные хирурги, опыт которых ограничивался удалением желчных камней да накладыванием шин на переломы[470]. Как в случае с искусным вскрытием в исполнении доктора Тульпа, не исключено, что Рембрандта, тоже в своем роде мастера едва заметных, идеально рассчитанных движений, восхищала уверенность и точность, которой требовала эта рискованная процедура.
Однако его версия, запечатленная на рисунке, – это также памятник сыновней нежности, полная противоположность не только «Жертвоприношению Авраама», но и удивительно трогательному офорту 1636 года «Возвращение блудного сына», на котором жалкий, оборванный, истощенный мот и хлыщ, мечтавший наесться из свиного корыта, припадает к груди отца. Хотя в Библии об этом не упоминается, изображая отца с плотно закрытыми глазами (как и на картине 1660-х годов), Рембрандт, по-видимому, хотел сказать, что в старости он ослеп, подобно мельнику Хармену Герритсу. Все эти личные ассоциации и любимые сюжеты объединяет рисунок, изображающий Товита, тем более пронзительный, что в данном случае уже отец должен слепо полагаться на доброту и участливость сына. В его лице читается одновременно расслабленность и напряженность, ведь один уголок рта у него трогательно обвис, в то время как веко над исцеляемым глазом приподнято, а руки судорожно вцепились в подлокотники кресла. Рембрандт вольно истолковал текст апокрифа, чтобы показать семейную сцену. Например, супруга Товии Сарра, изображенная в профиль, у Рембрандта стоит неподвижно, сложив руки на животе, как подобает средневековому идеалу плодовитой жены, однако, согласно апокрифам, она не присутствовала при исцелении, ибо Товия оставил ее у ворот Ниневии, а сам вернулся к отцу. Верная жена Анна трогательно заботится о Товите, ни дать ни взять сестра милосердия: она взирает на процедуру сквозь очки, держа в руках чашу с водой, чтобы омыть исцеляемый глаз. За правым плечом Товита виднеется фигура архангела Рафаила: сначала Рембрандт нанес ее чернилами, а затем сделал более призрачной, не столь ясно различимой, с помощью тонкого слоя белой гуаши подчеркнув ее потусторонность.
Рембрандт ван Рейн. Товит, спешащий навстречу Товии. 1651. Офорт. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк
Прежде всего Рембрандт стремится показать, что тело ангела-хранителя не сотворено из плоти, а соткано из света, обращаясь к финальному эпизоду истории Товита, когда таинственный незнакомец Азария открывает, что он архангел Рафаил и, выполнив свою миссию, покидает дом Товита в облаке нестерпимо яркого сияния. Рембрандт написал картину на этот сюжет около 1637 года, а 1641-м выполнил офорт, в котором продолжил разрабатывать свой любимый парадоксальный образ ослепительного света. На картине представители разных поколений по-разному реагируют на явление ангела: младшие, в лице Товии и его жены Сарры, чудом исцеленной от одержимости демонами, потрясенно взирают на улетающего ангела, не отводя взгляда, тогда как пожилые супруги, каждый по-своему, прикрывают глаза. В особенности любопытна фигура Товита, распростертого в молитве: его глаза намечены одним расплывчатым, похожим на кляксу, темным пятном, словно напоминающим о долгих мучительных годах слепоты. На более позднем офорте лицо Рафаила не показано, а таинственный свет ослепляет всех членов семьи, в том числе офтальмолога Товию, склоняющего голову в его сияющих лучах.
Но даже после этого Рембрандта не перестала привлекать Книга Товита, его любимая притча о физическом и духовном прозрении[471]. Ведь в 1651 году он создал один из самых трогательных своих офортов, изображающий старика в одиночестве, в кухне: он внезапно услышал за дверью голос сына и неуклюже поспешил ему навстречу, умилительный в самой своей неловкости; его правая ступня приподнимается над пяткой домашней туфли, он шаркает ногами, торопясь к двери, он уже опрокинул прялку – символ деловитости и усердия своей добродетельной и многострадальной супруги, он неосторожно наступает на подвернувшегося ему под ноги верного пса. Глаза Товита прочерчены двумя глубокими черными линиями, видимо полученными при работе грабштихелем, от которого на доске остались бархатистые «заусенцы». Тем не менее Рембрандту удалось показать их одновременно зрячими и слепыми, они ведут и направляют Товита, наделяя его скорее не физическим, а внутренним зрением.
Впрочем, оказывается, что этого недостаточно, ведь Товит проходит мимо полуоткрытой двери, которая явно остается справа от него; его ждет столкновение с собственной тенью.
По крайней мере некоторое время, с 1637 по 1639 год, Рембрандт и Саския наслаждались сладкими вкусами и запахами, живя по соседству со «сластной лавкой», на острове Влоинбург, на восточной окраине города[472]. Их дом выходил на реку Амстел, мимо окон проплывали паруса, покачивались под ветром мачты стоящих на якоре лихтеров, виднелись островные верфи со складами леса. Прямо у задней двери располагалась разгрузочная пристань. Выйдя через переднюю дверь, они попадали на оживленную Ланге-Хаутстрат. Весенним днем, распахнув ставни, они могли слышать хриплые крики чаек, которые ожесточенно сражались за рыбу, украденную из сетей какого-нибудь зазевавшегося рыбака. В двух шагах от них жил Ян ван Велдестейн, владелец соседней сластной лавки «Четыре коврижки», где он же подвизался и главным кондитером. По утрам Рембрандта и Саскию будил густой аромат патоки, распространяемый поднимающимися в печи сладкими булочками и пирогами, обильно сдобренными гвоздикой и засахаренным имбирем.
Ян Блау. Карта Амстердама (фрагмент). 1649. Частная коллекция
Однако своими сластями и своим золотом Влоинбург был обязан поселившимся там евреям. Очищенный тростниковый сахар или сахар-сырец привозили либо из Лиссабона, либо прямо из Бразилии: он считался самым ценным грузом в торговле с Южной Атлантикой, откуда доставляли также изумруды и алмазы, кошениль и индиго, древесину цезальпинии ежовой и табак. К немалой досаде купцов Вест-Индской компании, португальские евреи предпочитали импортировать эти дорогостоящие предметы роскоши, используя капитал, собранный их собственными синдикатами, да еще перевозить эти товары на собственных кораблях с названиями вроде «Царь Давид»[473]. Не для того двадцать лет тому назад евреям, выходцам с нидерландского юга, из Антверпена, а то и из Испании и Португалии, разрешили поселиться в Амстердаме. Несомненно, дав приют злейшим врагам и жертвам испанцев, отцы города испытали определенное удовлетворение, однако руководствовались не альтруистическими мотивами. Тесные родственные связи, объединявшие тех португальских евреев, что бежали, спасаясь от инквизиции, и тех, что остались на родине, якобы обратившись в иную веру и став «новыми христианами», давали бесценную возможность вывести американский импорт из-под контроля испанцев в сферу голландской транзитной торговли. Поэтому португальским евреям было позволено осесть в Амстердаме и следовать собственным законам и обычаям, при условии, чтобы они не пытались обращать добрых христиан в иудаизм и не спали с ними.
Большинство из первого поколения сефардов почти ничем не напоминали евреев. Сделавшись «новыми христианами»-маранами на Иберийском полуострове, они вынужденно тяготели к конформизму и старались не выделяться в среде христиан. Одни демонстративно ели свинину, другие тайно выполняли религиозные предписания и ограничивались кошерной пищей. Однако за несколько поколений память о неуклонном соблюдении религиозных традиций поневоле стала ослабевать. Мужчины не совершали обрезаний, чтобы не попасть в руки инквизиции. Некоторые религиозные праздники, в особенности Песах, отмечали втайне, тогда как многие другие оказались забыты; впрочем в такие дни, как, например, девятое ава – день траура по разрушенному Иерусалиму и храму, все без исключения евреи искренне предавались отчаянной скорби. Героиню, которая в древности спасла иудеев от преследований персов и амаликитян, почитали под именем святой Эсфири. Однако в глазах раввинов, прибывших в Амстердам из Венеции, Константинополя и Франции, дабы совершать богослужение на новом месте, они оставались сиротами, затерянными в бескрайнем море язычества. Они нуждались в резниках, знающих обычаи, в синагогальных служках, проводящих обрезание в соответствии с религиозными канонами, в учителях древнееврейского и Талмуда, и те не бросили на произвол судьбы своих единоверцев. К тому времени, как Рембрандт и Саския поселились на острове Влоинбург, где проживали восемьсот из примерно тысячи амстердамских евреев, на канале Хаутграхт уже открылись три синагоги и школа, получившая название Эц Хаим, «Древо жизни».
Говоря по правде, появление трех синагог, одна из которых именовалась Неве Шалом, «Обитель мира», и располагалась в помещении бывшего склада, прежде называвшегося «Антверпен», стало результатом такой специфической и весьма яркой черты еврейской культуры, как бесконечные склоки и ссоры. Ожесточенные дебаты по таким вопросам, как загробная судьба грешников в потустороннем мире (например, Исаак Авоав да Фонсека утешал своих соотечественников, объявляя, что Небеса, в своем неизреченном милосердии, даруют прощение всем, а другие утверждали, что грешникам воздастся за все сотворенное в земной жизни зло), развели членов еврейской общины по разные стороны баррикад: евреи ожесточенно ссорились с евреями, захлопывали двери друг у друга перед носом, укоризненно цокали языком, глядя на сбившегося с пути истинного соседа, целые семейства в спешке переходили по мосту каналы, лишь бы не встретиться по дороге в синагогу с погрязшим в ереси знакомцем. Но подлинным вероотступником считался Уриэль Акоста, который отвергал любое религиозное учение, кроме Библии, даже мудрость Талмуда: с ним стали обращаться как с парией, избегали и всячески унижали его, пока он не согласился покаяться и в ознаменование сего получить, стоя у столпа синагоги, тридцать девять ударов плетью, тем самым подвергнувшись обряду экзорцизма. Спустя год, в 1640-м, Акоста покончил с собой.
Однако в 1637 году Рембрандт не мог выбрать лучшего места жительства, чем Влоинбург, всемирный рынок, расположившийся на площади четырех городских кварталов. По внешнему периметру острова и по набережным двух перекрещивающихся каналов, например канала Хаутграхт, дома были облицованы кирпичом, иногда отделывались камнем и принадлежали людям состоятельным. Впрочем, их владельцы не могли сравниться с богатейшими патрициями города: если те исчисляли свой доход в сотнях тысяч, то наиболее преуспевающие евреи – в десятках тысяч. Однако, пока их корабли доставляли в Амстердам заморские товары, они не могли пожаловаться. Они одевались как почтенные амстердамские бюргеры, в черный бархат, фетровые шляпы, а иногда – в атлас, оттеняемый белой льняной рубашкой и кружевом. Они подстригали бороду и носили высокие шляпы. Только послушав, как они говорят по-португальски, слегка подчеркивая дифтонги и нежно смягчая согласные, или зайдя в их дома, где царил аромат розовой воды, и попробовав инжира и миндаля, засахаренного имбиря, малагского изюма и цукатов, которые они импортировали из Марокко и из Америки, из Турции и с Кипра, – можно было понять, что они чем-то отличаются от своих соседей.
По мере продвижения от набережных Амстела и каналов вглубь острова по узеньким улочкам, «stegen en sloppen», еврейское население становилось все беднее и селилось все скученнее. Дома там стояли по преимуществу деревянные, ведь остров совсем недавно занимали плотники, торговцы древесиной и корабелы, изготовлявшие и подгонявшие детали судов, которые затем собирали на Амстелских верфях. Теперь корабли строили по большей части на берегах реки Зан, а собирали на внешних островах ее русла в больших адмиралтейских доках. Опилки сменила куда более тонкая пыль от ограняемых драгоценных камней и обрезки скатанных табачных листьев. По острову расхаживали цыплята, на редких лугах паслись козы, в узких переулках теснились мясные лавки и пекарни, заведения старьевщиков, хирургов и изготовителей париков. Заглянув в щелку между ставнями в одном доме, можно было заметить, как метранпажи заполняют кассы литерами на древнееврейском, арамейском, испанском и ладино, в другом – как щелкают ножницами портные, отхватывая отрезы ткани, чтобы потом сшить из них молитвенные покрывала-талесы. И уж в самом сердце острова можно было наткнуться на «tedesco» из какого-нибудь варварского немецкого или польского городишка, который представлялся португальским сефардам невежественным и неопрятным, с его-то длинной бородой, еще более длинным кафтаном и кудахчущим гортанным выговором. И уж в самой глуши ночью, в бледном свете уличного масляного фонаря, можно было набрести на трактир, послушать скрипача, выкурить трубку, а еще, хотя об этом и не принято было говорить вслух, найти девицу для утех.
Рембрандт и Саския поселились в еврейском квартале, но не в гетто. Им достаточно было пересечь Амстел по мосту, соединяющему остров с северной частью города, пройти какой-нибудь квартал, и они уже вышли на Брестрат, где слева их поджидал старый дом Хендрика ван Эйленбурга. Зачастую «еврейским» считают и называют облик человека с темными волосами или с пышной белой бородой, заодно щедро наделяя его «семитскими» чертами, на самом деле изобретенными карикатуристами и сделавшимися своего рода клише XIX века; во всяком случае, вряд ли таких людей можно было встретить на улицах Амстердама XVII века, где большинство евреев одевались совершенно так же, как их соседи-христиане[474]. Не исключено, что многие почтенные старцы, запечатленные на портретах и именуемые в музеях Европы и Америки «раввинами», в действительности были достойными христианами. Так, ермолка указывала на принадлежность к определенной расе и религии не более, чем мягкий фетровый польский колпак, который чаще носили гданьские меннониты, вроде ван Эйленбургов, чем краковские евреи. Даже гравированный портрет человека с широким носом и толстыми губами, в котором принято видеть изображение Менаше бен Исраэля, не имеет совершенно никакого сходства с его достоверным портретом, написанным еврейским художником Шаломом Италией. И наоборот, если бы мы не знали наверняка, что элегантный джентльмен, спускающийся по лестнице, – это еврейский врач Эфраим Буэно, или Бонус, то не сумели бы определить его вероисповедание по платью, лицу или манере держаться.
Однако Рембрандт не мог бы жить в конце 1630-х годов на Влоинбурге, не впитав в какой-то степени богатую и утонченную культуру португальских евреев. В конце концов, он восхищался экзотикой, а его инстинктивное восприятие Священного Писания, в том числе Ветхого Завета, как живой книги могло только усилиться после близкого знакомства с народом, который его создал. Ведь Рембрандт от природы тяготел к экуменизму. Семья его матери исповедовала католичество, семья отца – кальвинизм, с перерывами. Среди его друзей, меценатов и заказчиков кого только не было: ремонстранты и контрремонстранты, меннониты и по крайней мере два еврея. Не исключено, что он входил в немалое число голландцев, которые не принадлежали ни к какой конфессии, а лишь крестили младенцев и хоронили своих близких на освященной земле; впрочем, государство их не трогало. Однако это не означает, что Рембрандт был менее искренним в своей вере, чем Рубенс. Но его вера предполагала драматические сомнения, мучительные искушения, незавершенную борьбу с самим собой, неотступный страх, а не призвание к священному поприщу и не экстатические мученичества. Эту веру подтачивал скептицизм, в сердце ее жили гнев, ощущение ненадежности бытия и отступничество. Чувство, что Священное Писание должно воплощаться в ярких героических образах и тем самым сделаться ближе современному человеку, открывало перед Рембрандтом, которому предстояло вот-вот стать величайшим голландским автором картин на исторические сюжеты, новые возможности, но одновременно вселяло сомнения. Создавая еще две крупноформатные картины, посвященные истории Самсона из Книги Судей, он пребывал в своей стихии, ведь то были драмы измены и гнева. Для «Самсона, задающего загадки на свадебном пире» 1638 года, он бессовестно обобрал «Тайную вечерю» Леонардо, которую видел в гравированных копиях, лишь заменив Христа невестой-филистимлянкой в богатом и пышном наряде и диадеме. Справа от нее, среди хихикающих и без стеснения ощупывающих друг друга молодых людей и девиц в роскошных одеяниях, он поместил заимствованную у Веронезе красавицу в красном бархате, с обнаженными плечами, фигуру которой уже использовал на переднем плане «Валтасара». А слева от нее Самсон задает своим гостям загадку о льве и пчелах, загибая пальцы и одновременно являя ответ всем своим обликом, подобным льву, и львиной гривой: «Мед собрал пчелиный рой, который вывелся в трупе льва».
Ранняя картина на сюжет из истории Самсона – значительно более оригинальная и странная. Согласно главе пятнадцатой Книги Судей, истинное «действующее лицо» этого эпизода – филистимлянин, тесть Самсона, который отказывается допустить его к жене, когда он хочет передать ей козленка, говоря: «Я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему; вот, меньшая сестра красивее ее; пусть она будет тебе вместо ее». В Священном Писании упоминается лишь, что после этого Самсон решил причинить филистимлянам «зло». Однако Рембрандт изобретает сцену, исполненную страшной ярости: Самсон на его картине широко разинул рот в гневном крике, так что виднеются зубы, он потрясает огромным кулаком у самого лица своего тестя, а старик хватается правой рукой за железное кольцо ставня, страшась Самсона и одновременно бросая ему вызов, подчеркивая этим жестом, что он надежно укрылся за крепкими стенами. Всю остроту их столкновения передает странный, тревожный облик головы старика, видимой в профиль, словно обрамленной ставнем с поблескивающими шляпками гвоздей, но отделенной от остального тела, как будто ее можно сложить и убрать, подобно вырезным иллюстрациям в детских книжках. В конечном счете можно сказать, что жест старика слишком рассчитан и сознателен, чтобы производить драматическое впечатление, но это еще один необычайно оригинальный эксперимент с созданием пространственной иллюзии; он наверняка не прошел мимо ученика Рембрандта Хогстратена, который впоследствии неоднократно будет писать «бестелесные» головы, упражняясь в сотворении «трехмерных» обманок.
Впрочем, именно эта способность изобретать совершенно непредсказуемые вещи, следуя некоему инстинкту, заново придумывать законы жанра, заглядывать за углы банальных конвенций, по-видимому, оставила Рембрандта, когда он принял заказ, который, к сожалению, стал одновременно и наиболее и наименее желанным во всей его карьере. Речь идет о цикле картин на сюжет страстей Христовых для штатгальтера Фредерика-Хендрика. Поначалу предложение написать для личной галереи штатгальтера в гаагском дворце Ауде-Хоф еще три сцены, которые дополнили бы «Воздвижение Креста» и «Снятие с креста», вероятно, показалось Рембрандту неслыханной удачей, свидетельством официального признания его таланта, ставившим его в один ряд с Рубенсом. Если ему достанется этот заказ, то кто же оспорит его славу – славу первого автора картин на исторические сюжеты? Ливенс в это время находился в Англии. Питер Ластман уже умер, а оставшиеся в живых художники его круга: Ян и Якоб Пейнасы, Клас Муйарт, Ян Тенгнагель и другие – наверняка позеленели от зависти. Даже если его работу ждут привычные похвалы, не более, непростительный жест Рембрандта, изобразившего себя с золотой цепью, почетным даром властителя, будет казаться не столько тщеславной похвальбой, сколько сбывшимся пророчеством.
Рембрандт ван Рейн. Самсон, задающий загадки на свадебном пире. 1638. Холст, масло. 126 175 см. Галерея старых мастеров, Дрезден
Вся сложность заключалась в том, что уроки Рубенса, которые очень помогли Рембрандту при создании рассчитанных на сильный эффект исторических полотен, с их вонзаемыми в грудь мечами и обрушивающимися на жертву злодеями, совершенно не годились для этой работы, где нужно было вернуться к прежней, более сдержанной, созерцательной лейденской манере. Поэтому неудивительно, что самый важный заказ в его жизни обернулся мучительным, трудным творческим процессом и временами даже воспринимался художником как тягостная обязанность. В феврале 1636 года Рембрандт отправил письмо Константину Гюйгенсу, как всегда выступавшему инициатором подобных поручений. В этом послании налет самоуверенности почти не скрывал грусти оттого, что работа неумолимо затягивается. По-видимому, Рембрандт получил заказ в 1633 году, на волне успеха второй картины из цикла «Страсти Христовы», «Воздвижение Креста». Прошло три года, но Рембрандт почти не продвинулся, и в его письме, несмотря на заверения в усердии и упорстве, слышатся нотки самооправдания: он явно защищается от вежливых, но излишне настойчивых вопросов Гюйгенса, когда же ждать окончания его трудов. Рембрандт отвечал, что уже завершил первую заказанную картину, «Вознесение Христа», а что касается двух остальных, «Положения во гроб» и «Воскресения Христа», то они готовы «более чем наполовину»[475]. (Как известно не только медлительным живописцам, но и копушам-писателям, «более чем наполовину» может означать, например, «на девять шестнадцатых».) «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы выполнить волю Его Высочества. Его Высочеству принцу Оранскому достаточно дать мне знать, и я, сообразно его желаниям, перешлю первую законченную картину или, по прошествии времени, все три сразу».
Рембрандт ван Рейн. Самсон, грозящий своему тестю. Ок. 1635. Холст, масло. 158,5 130,5 см. Картинная галерея, Государственные музеи, Берлин
Хочется надеяться, что Гюйгенс избавил себя от хлопот и решил, не вступая в дальнейшие переговоры, посмотреть «Вознесение Христа», ведь оставшиеся две картины Рембрандт передаст сиятельному заказчику только через три года. Последовало зловещее молчание (впрочем, письма Гюйгенса, возможно более частые, чем ответы Рембрандта, не сохранились). Не вовсе лишено логики предположение, что Рембрандт мог намеренно отложить работу над картинами, после того как все его просьбы повысить цену были отклонены. Второе письмо живописца, посланное в 1636 году, тоже отталкивает сочетанием лести и высокомерия. С одной стороны, Рембрандт обещает столь же высокое качество своих новых работ, сколь и первых двух из коллекции штатгальтера, и предлагает приехать в Гаагу, чтобы на месте обеспечить творческое единство цикла. С другой стороны, он просит по двести фламандских фунтов за каждую новую картину, что равняется тысяче двумстам голландских гульденов за одну работу, или в два раза больше, чем он получил за «Снятие с креста» и «Воздвижение Креста». Рембрандт не без оснований полагал, что более высокая оплата соответствует его новому статусу и репутации, весьма и весьма выросшей с 1632–1633 годов, то есть с тех пор, как он закончил первые работы для штатгальтера. Ныне он прославился «Уроком анатомии доктора Тульпа», писал портреты благородных патрициев и почтенных проповедников. Более того, он уже был не партнером в «концерне» ван Эйленбурга, а владельцем собственной мастерской, окруженным талантливыми учениками и создавшим едва ли не самое успешное арт-предприятие того времени.
Но даже его дерзости и безрассудству был положен предел. Вероятно, Рембрандт не был уверен в том, что его просьбу воспримут благосклонно, поэтому добавил, что хотя «я, разумеется, достоин получить двести фунтов за картину, я готов удовольствоваться тем, что соблаговолит пожаловать мне Его Высочество». Может быть, он также не был убежден в том, что Гюйгенс на сей раз согласится требовать от его имени двойную цену. Напоминаю, что, бурно восторгаясь Рембрандтом, Гюйгенс не удержался и написал на него язвительную эпиграмму, когда ему показалось, что Рембрандт недостоверно изобразил на портрете Жака де Гейна III.
Эти исполненные едкого сарказма строки увидели свет лишь в 1644 году, когда Гюйгенс опубликовал некоторые из своих стихв на случай в печатной антологии. Однако не исключено, что его стрелы еще до того попали в цель. Рембрандт всегда вращался в узком кругу, особенно в 1630-е годы, когда был близок ко двору. Этот круг не мог жить без сплетен и насмешек, изысканных и не очень. Вполне возможно, что какой-то не лишенный коварства недоброжелатель поддался искушению и обратил внимание Рембрандта на не слишком лестные для него стихи Гюйгенса. Каковы бы ни были многочисленные достоинства Рембрандта, самоирония, добродушие и сдержанность к ним не принадлежали. Поэтому, хотя он и постарался «подкупить» своего посредника, послав ему в дар «свое последнее произведение» (может быть, офорт), пожалуй, он был не слишком удивлен, когда его просьбу отклонили, подтвердив условленную прежде оплату – шестьсот гульденов за картину и подчеркнув, что она останется неизменной до выполнения заказа.
Возможно, это переполнило чашу. Со своей стороны, Рембрандт, возможно, почувствовал себя униженным отказом и осознал, что в конце концов положение придворного художника предполагает рабскую преданность в куда большей степени, чем это могло прийтись ему по душе, а именно это неоднократно ощущал на себе Рубенс. В свою очередь, Константин Гюйгенс или штатгальтер могли подумать, что живописец, которого они извлекли из безвестности в провинциальном Лейдене, забылся, возгордился и позволяет себе дерзости, на которые не осмелился бы и Рубенс. Их совершенно неизбежно сравнивали снова и снова. Задумывая картины, которые «гармонировали бы», как он выразился в письме, с прежними полотнами из цикла «Страсти Христовы», Рембрандт невольно вспоминал о работах Рубенса, послуживших ему своего рода визуальными претекстами: он совершенно сознательно цитировал их и соперничал с ними, создавая собственные картины на библейские темы. А его навязчивое стремление цитировать работы Рубенса: «Святую Вальбургу», «Прометея», «Жертвоприношение Авраама» – говорит о том, что он еще не окончательно преодолел в себе желание подражать Рубенсу и превзойти свой идеал.
В свою очередь, Гюйгенс не переставал интересоваться творчеством Рубенса в конце 1630-х годов, даже после неудачной попытки пригласить фламандского художника в Голландию в 1635-м. В конце концов в 1638 году в Нидерландах обрела убежище, в том числе и по приглашению Рубенса, самая знаменитая и имеющая самую мрачную политическую репутацию его покровительница, вдовствующая королева Франции Мария Медичи, мать нынешнего короля, изгнанная после попытки государственного переворота с целью свержения кардинала Ришелье. Из южных католических провинций она двинулась на север, в города Голландской республики, и венцом ее путешествия стал торжественный въезд в Амстердам. Куда бы она ни направлялась, за нею неотступно следовал призрак ее прежнего величия в облике гравированных репродукций цикла рубенсовских картин, воспевающих этапы ее жизненного пути. К тому же амстердамские церемониймейстеры не могли не отдавать себе отчет в том, что рубенсовские триумфальные арки, живые картины и праздничные процессии, которыми был отмечен торжественный въезд в Антверпен кардинала-инфанта тремя годами ранее, представляют последнее слово в сфере аллегорических декораций. А значит, нет ничего удивительного в том, что, хотя состав персонажей был другим, а общее настроение – куда более веселым, амстердамские празднества многое заимствовали из старинного, проверенного временем сборника антверпенских сценариев.
К тому же Гюйгенс, с его-то связями при дворах европейских монархов, не мог не слышать об удивительных по уровню мастерства картинах, во множестве выполненных Рубенсом для охотничьего домика Филиппа IV Торре-де-ла-Парада в окрестностях Мадрида. Менее чем за два года Рубенс и его ученики написали для короля Испании более шестидесяти картин на мифологические сюжеты (а его друг Франс Снейдерс – более шестидесяти анималистических и охотничьих сцен). Чтобы успеть выполнить работу в краткие сроки, назначенные нетерпеливым королем, Рубенсу пришлось мобилизовать не менее одиннадцати антверпенских коллег, включая Якоба Йорданса, Корнелиса де Воса и Эразма Квеллина, которым предстояло закончить детали, в особенности потому, что его все чаще мучили приступы подагры и он не всегда мог держать кисти. Однако небольшие эскизы маслом на деревянных досках, размечающие композицию мифологических сцен, в основном заимствованных у Овидия, были от начала до конца выполнены самим Рубенсом и принадлежат к числу самых пленительных его произведений. Этот удивительный всплеск поэтической энергии, продемонстрированный пожилым джентльменом с распухшими подагрическими суставами, видимо, укрепил Гюйгенса во мнении, что, каковы бы ни были его пророчества, Апеллес по-прежнему живет к западу от Шельды и Мааса.
На самом деле Гюйгенс постоянно переписывался с Рубенсом все те годы, что тщетно пытался вырвать у Рембрандта картины из цикла «Страсти Христовы». Желая получить одобрение фламандского живописца, который прославился, построив идеальный дом, приличествующий джентльмену-гуманисту, а также опубликовав сборник зарисовок и чертежей генуэзских палаццо, Гюйгенс послал Рубенсу рисунки, изображающие его собственный новенький городской дом, возведенный в центре Гааги по образцу модных палладианских вилл. В конце письма Гюйгенс почти небрежно добавляет, что Фредерик-Хендрик хотел бы заказать у Рубенса картину, чтобы повесить ее над камином во дворце: сюжет штатгальтер оставляет на усмотрение живописца, однако требует, чтобы на картине наличествовало не более трех, «в крайнем случае четырех» персонажей, прекрасный облик которых надлежит выписать «con amore, studio e diligenza»[476]. Возможно, Фредерик-Хендрик потребовал ограничиться небольшим числом персонажей, потому что не хотел получить очередной «Сад любви» с изобилием обнаженной плоти, написанный в специфической манере, к которой стареющий Рубенс стал питать особое пристрастие и которой в особенности прославился. Поэтому Рубенс в конце концов послал штатгальтеру большое и красочное «Коронование Дианы», на котором к ногам богини ластятся борзые, леопарды и львы и которое как нельзя лучше подходило для украшения пиршественного зала, где штатгальтер и его свита могли провозглашать тосты в честь удачной охоты.
Рембрандт ван Рейн. Святое семейство. Ок. 1634. Холст, масло. 183,5 123 см. Старая Пинакотека, Мюнхен
Рембрандт тоже знал кое-что о том, как писать картины для дворцовых пространств, особенно для галереи Фредерика-Хендрика во дворце Ауде-Хоф (Нордейнде). К тому же он полагал, что хорошо представляет себе картинную галерею Гюйгенса и потому может дать ему совет повесить полотно, которое он ему дарит, так, чтобы на него «падал яркий свет», а значит, его «можно было оценить по достоинству еще издали»[477]. Однако, несмотря на всю свою показную самоуверенность, Рембрандта по-прежнему терзал «страх влияния», и он лихорадочно выискивал среди католических образцов модели для своих картин из цикла «Страсти Христовы», пытаясь угодить заказчику-протестанту. Чаще всего в качестве источника «Вознесения Христа» приводят великую алтарную картину Тициана «Вознесение Девы Марии», выполненную около 1517 года для францисканской церкви Санта-Мария Глориоза деи Фрари в Венеции. Однако, если только Рембрандту не был доступен рисунок с картины Тициана, это произведение никак не могло послужить для него прототипом, поскольку «Вознесение Девы Марии» гравировали лишь спустя немалое время после февраля 1639 года, когда Рембрандт отослал свою работу штатгальтеру. Однако в его распоряжении был ряд копий различных вариантов «Вознесения Христа» и «Вознесения Девы Марии» кисти Рубенса, гравированных Схелте а Болсвертом. Если рассматривать их по отдельности, то ни одна не напоминает композицию рембрандтовского «Вознесения» в большей степени, чем картина Тициана. Но Рембрандт мастерски умел заимствовать элементы различных моделей и создать из них собственный синтез, и именно так он поступил с картинами Рубенса, взяв стайку херувимов с одного холста, жестикулирующих персонажей внизу – с другоо и даже, возможно, образ Святого Духа – еще с одного полотна Рубенса, «Сошествия Святого Духа», гравированного Понтиусом. Впрочем, эта мучительно собранная по крупицам коллекция католических мотивов лишь свидетельствует о том, каких усилий стоило Рембрандту превратить условности католического алтарного образа, выставляемого на всеобщее обозрение и призванного вдохновлять верующих, в протестантскую картину, предназначенную для личной молельни. Самая трудная задача заключалась в том, что, не переставая быть эффектным зрелищем, картина должна была укреплять веру. С точки зрения католиков, картинам надлежало производить сильное впечатление, а зрителю – ощущать физическую причастность страстям, так чтобы граница между его собственной личностью и личностью Спасителя, Девы Марии и апостолов становилась прозрачной и едва ли не исчезала. Однако протестантизм упорно настаивал на сохранении этой границы, полагая, что католическая страсть к не столько символическому, сколько физическому приобщению Святых Тайн есть дерзостное святотатство. И Лютер, и Кальвин отвергли как ложное, а то и вовсе богохульное, мнение о том, что спасение в принципе может зависеть от поступков и поведения христиан. Вместо этого они настаивали, что спасение даруется одной лишь благодатью. Согласно учению святого Павла, вера превращалась в некое пассивное состояние, смиренное приятие греха и несовершенства и надежду, что Господь по своему безмерному милосердию помилует грешника. В таком случае протестантские картины не должны были дерзостно тщиться перенести верующего в пространство материального присутствия Христа. Напротив, протестантская картина должна была превозносить добродетели созерцания, смиренного, богобоязненного ожидания и веры, а также всячески подчеркивать не близость смертного и Сына Божьего, а разделяющую их непреодолимую бездну.
Но дело в том, что во второй половине 1630-х годов Рембрандт сосредоточил свои усилия на картинах, где персонажи и все детали их облика показывались крупным планом: и мускулистые руки Авраама, готового совершить жертвоприношение, и освещенные золотистым блеском груди Данаи, и ноги отлетающего Рафаила, и вылезающие из орбит глаза Валтасара предельно приближены к зрителю, и он поневоле воспринимает их как конкретные и осязаемые. Даже в таких сценах из Нового Завета, как исполненное нежности «Святое семейство» 1634 года, Рембрандт подчеркивает непосредственное, личное физическое присутствие персонажей на холсте и те детали быта, которые позволяют зрителю увидеть в них обычных людей, подобных ему самому. В этой картине Рембрандт по-прежнему демонстрирует очарованность земной красотой, свойственную Караваджо и Рубенсу. Как любая молодая мать, Дева Мария правой рукой перебирает пальчики на ножках Младенца Христа, Ее грудь касается Его лба. Иосиф, одновременно являющий собою часть таинства и исключенный из него, осторожно наклоняется к Младенцу, притрагиваясь рукой лишь к одеялу. Повсюду в комнате лежат его плотничьи инструменты, а еще – сломанная ветка, которые ценители аллюзий могли расшифровать как отсылку к грядущему распятию, финальному смыслу рождения Спасителя, на сей раз воплощенному в простых ремесленных орудиях, загромождающих мастерскую.
На тот момент «Святое семейство» было самой крупной по формату картиной Рембрандта на исторический сюжет. Впрочем, как это ни парадоксально, для «Страстей Христовых» ему предстояло подогнать драматические многофигурные сюжеты под значительно меньший формат двух первых картин цикла, выполненных в 1631–1633 годах. Кроме того, ему предстояло и в новых полотнах сочетать зрелищность и созерцательный характер, объединять бестелесный Святой Дух и его посюсторонних свидетелей, Божественную природу и обреченную земную плоть.
Сейчас довольно трудно понять, сколь мужественно Рембрандт боролся, одновременно пытаясь решить несколько головоломных задач, и виной тому – неуместный энтузиазм реставратора XVIII века Филиппа Иеронима Бринкмана, служившего при дворе курфюрста Мангеймского. Он не только в значительной мере переписал картину, но и нанес ей еще одно оскорбление, наделив себя божественными способностями. Возможно, не случайно именно на обороте «Воскресения» этот художник и реставратор решил объявить всему миру о проделанной работе, начертав на латыни: «Рембрандт создал меня; Ф. И. Бринкман возродил меня к жизни»[478]. Поэтому, хотя Рембрандта несправедливо обвиняли в том, что он небрежно накладывал на холст краску и затягивал окончание работы до тех пор, пока в январе 1639 года ему внезапно не потребовались деньги на новый дом, ответственность за неаккуратное обращение с краской несет почти исключительно Бринкман. Рембрандт действительно не торопился завершить эти картины, и даже если бы они впоследствии не понесли ущерба, вряд ли их можно было бы отнести к числу его неоспоримых достижений. Однако он медлил с окончанием работы потому, что отнесся к ней не легкомысленно, а, напротив, слишком серьезно, потому, что воспринял этот заказ не как возможность без усилий заработать побольше денег, а, напротив, как трудную задачу: примирить множество противоречий, внутренне присущих протестантской религиозной живописи[479]. В конце концов, гризайль «Оплакивание Христа», находящаяся сейчас в Лондонской национальной галерее, тоже свидетельствует о том, что художник изо всех сил тщился показать не только величие Священного предания, но и множество бытовых деталей. Рембрандт начал эту работу в 1637 году, одновременно с циклом «Страсти Христовы», но промучился с ней еще дольше, целых семь лет, добавляя то здесь, то там полоски и квадраты холста к изначальному бумажному центру. Искусствовед Джонатан Ричардсон-младший, хотя ему не стоит доверять безусловно, утверждал, что насчитал вместе со своим отцом семнадцать таких полосок, «вот сколько раз… Рембрандт переписывал эту работу, часто меняя распределение светотени»[480].
Даже в своем нынешнем жалком состоянии цикл «Страсти Христовы» позволяет судить о том, через какие муки и сомнения прошел Рембрандт, опробуя различные, зачастую непоследовательные решения задач, возникших у него при работе над заказом. Глядя на эти картины, мы словно ощущаем, как художник ворочается в постели бессонной ночью с боку на бок, не в силах отделаться от тревожного предчувствия, что у него ничего не выйдет. «Вознесение», в котором многие дилеммы остались неразрешенными, строится вокруг зон света и тени, слишком жестко разграниченных даже на вкус Рембрандта; тем самым он следует принципу протестантизма, согласно которому надобно было разделять небесный и земной миры. Однако в этой картине, в большей степени, чем в любой другой, когда-либо им написанной, Рембрандт осмеливается совершить отступничество и едва ли не впадает в ересь католицизма, создавая упрощенную версию алтарного образа, способного вдохновить католиков на восторженные молитвы и уместного в любой католической церкви. Пальма слева, символ Воскресения, заимствована непосредственно из иконографического набора католической религиозной живописи. Еще более существенными стали результаты рентгеновских снимков, показавших, что изначально Рембрандт намеревался написать Святую Троицу, включая образ Бога Отца, к которому Сын возносится на небеса, а также голубя, символизирующего Дух Святой. В своем «Наставлении в христианской вере» Кальвин особо предостерегал от любых попыток запечатлеть лик Божий, поскольку «недоступное человеческому зрению величие Бога недопустимо искажать выдуманными образами, не имеющими с Ним ничего общего»[481]. Однако на самом деле даже отцы католической Контрреформации, следуя установлениям Тридентского собора, неодобрительно воспринимали попытки изобразить нематериальное с точки зрения богословия Божественное присутствие. А тут вот вам, пожалуйста, Рембрандт не таясь показывает Христа, возносящегося на небо на глазах у собравшейся толпы, на сей раз даже не ослепленной этим видением. Невольно он еще усугубил ситуацию, заметив во втором письме Гюйгенсу, что «Вознесение» «в галерее Его Высочества будет смотреться лучше всего в ярком свете».
Рембрандт ван Рейн. Вознесение Христа. 1636. Холст, масло. 92,7 68,3 см. Старая Пинакотека, Мюнхен
Это было вопиюще бестактно и глупо. В начале своего правления Фредерик-Хендрик проявлял демонстративную снисходительность к христианам, оставшимся вне Реформатской церкви. Однако в 1633 году он решительно и расчетливо склонился в сторону политического альянса с контрремонстрантами, в лице которых надеялся обрести поддержку своего курса на более агрессивную войну. В какой-то момент Рембрандт, очевидно, осознал, что вышел далеко за пределы приемлемой протестантской иконографии, вспомнил о богословских основах работы, совершил поворот на сто восемьдесят градусов, стер лик Бога Отца, заменил его Святым Духом и сделал все элементы картины куда более посюсторонними и земными, чем на самом безудержно католическом алтарном образе. Облик Христа, хотя и более идеализированный, нежели на двух первых картинах цикла (возможно, в соответствии с тактично высказанной конструктивной критикой Гюйгенса), в значительной мере говорит о том, что Он возносится на небо во плоти; достаточно взглянуть на Его крепкие икры и ступни. Да и само Его вознесение предстает не столько левитацией, сколько подъемом на фуникулере, который с усилием вздымает команда херувимов с голубиными крылышками. Они творят чудо, но облака служат крайне неудобной площадкой для их подъемника.
Рембрандт ван Рейн. Положение во гроб. 1639. Холст, масло. 92,5 68,9 см. Старая Пинакотека, Мюнхен
Если картина и пришлась по вкусу Гюйгенсу и штатгальтеру, они явно были не настолько очарованы, чтобы исполнить просьбу Рембрандта и назначить двойной гонорар. Перестав дуться из-за отказа и по-настоящему вернувшись к двум незавершенным холстам, «Положению во гроб» и «Воскресению», Рембрандт вспомнил о тех своих качествах, которые Гюйгенс особо превозносил как его величайший дар: умении передавать человеческие эмоции и поступки. В гризайльном этюде к «Проповеди Иоанна Крестителя» благодаря необычайно искусно выбранному освещению Рембрандт добивается невозможного: он соединяет гигантскую массовку, от турок до фарисеев, лодырей, зевак и испражняющихся собак, и главный драматический элемент – речь Предтечи. Очевидно, он тщился повторить этот прием и в «Положении во гроб», пытаясь создать все многообразие эмоциональных откликов на скорбное зрелище. Поместив трех оплакивающих Христа Марий у Него в ногах (причем одна нога Христа возлежит на окутанном распущенными волосами плече Марии Магдалины, совершенно так же, как это было у Рубенса), Рембрандт удалил их от центральных фрагментов картины, где разворачивается основное действие. На трех скорбящих жен падает слабый свет фонаря справа, тогда как таинственные участники этой сцены, непосредственно окружающие тело Христово, куда сильнее освещены сиянием, исходящим от самого Христа, «lumen Christi», Светоча Мира, нежели одной-единственной свечой, которую защищает от ветра рукой бородатый человек слева. Главные действующие лица в миниатюре представляют всю христианскую вселенную спасенных: это и двое дюжих работников, опускающих тело в могилу, и богато одетый человек, стоящий между ними, возможно Иосиф Аримафейский, и положившая сцепленные ладони на край могилы старуха, силуэт которой выделяется на фоне сияющего савана. За основными участниками этого действа, заполняя все пространство между могилой и входом в пещеру, располагается еще одна многочисленная группа персонажей, лучше различимая на недурной копии, выполненной еще при жизни Рембрандта. В гуще этой толпы, между двумя скорбящими, обращенными спиной друг к другу, виднеется кто-то, строго глядящий прямо на нас, в плоском берете, наделенный узнаваемыми чертами Имярека-художника. За ним открывается вид на Голгофу, который ни с чем не спутал бы ни один современник Рембрандта, с ее орудиями пыток и казней, не только крестами, но и колами и колесами, пятнающими мрачный горизонт.
Именно пытаясь в полной мере передать «естественную подвижность персонажей», как писал Рембрандт Гюйгенсу 12 января 1639 года, он «столь промедлил с отправкой картин». И хотя это единственное сохранившееся высказывание Рембрандта по поводу собственного искусства явно относилось к обоим полотнам, завершавшим цикл «Страсти Христовы», он использует слово «beweechgelickheit», и потому долгое время было принято считать, что он имел в виду лавину тел, низвергающуюся в левом углу «Воскресения». Однако переводить слово «beweechgelickheit» как «подвижность» – весьма спорный выбор, поскольку для современников Рембрандта оно означало не только физическое движение, но и эмоции, оживление не только внешнее, но и внутреннее. На самом деле «die naetureelste beweechgelickheit» предполагало то самое соответствие внутреннего чувства и языка тела, в том числе выражения лица, которое столь виртуозно умел воспроизводить Рембрандт, и могло относиться в равной степени и к согбенной старухе в «Положении во гроб», и к стражнику, отброшенному назад крышкой саркофага и летящему вверх тормашками в «Воскресении»[482].
Рембрандт ван Рейн. Воскресение Христа. Ок. 1639. Холст, масло. 91,9 67 см. Старая Пинакотека, Мюнхен
Поэтому, несмотря на все задержки, перерывы и приступы меланхолии, к началу 1639 года Рембрандт, безусловно в полную меру своих сил и способностей, отдался работе над самым важным в его карьере заказом. Он использовал в этой картине театральное освещение. Он использовал целый набор мимических и физических характеристик, которые исследовал в офортах этого периода, например в переработанной версии «Побиения камнями святого Стефана» и в «Возвращении блудного сына». Он выстраивал пространство, особенно в «Воскресении», так, чтобы на холсте стремительно и бурно разыгралась драма с падающими, низвергающимися телами, подобная «Ослеплению Самсона» и «Пиру Валтасара». Однако картина кажется деланой, нарочитой, искусственной. В особенности те изменения, которые Рембрандт вносил в «Воскресение», свидетельствуют, что временами он приходил в отчаяние. Возможно, изначально, около 1636 года, когда Рембрандт писал Гюйгенсу, что две заключительные картины цикла завершены «более чем наполовину», он сосредоточивался на фигуре призрачного сияющего ангела и на «великом изумлении стражников», как он выразился в письме, то есть на контрасте между спокойствием Божественной силы, неспешно вздымающей крышку гроба, и дикой паникой, сеющей хаос. В соответствии с текстом Евангелия от Матфея (28: 1–6), Рембрандт не стал показывать фигуру Христа. Однако, прежде чем переслать картину в Гаагу, передумал. Не исключено, что ему вспомнилось «Воскресение» кисти его учителя Ластмана, с торжествующим Христом, который в экстатическом порыве, возведши очи горе, раскинув руки, словно на кресте, возносится в небеса сквозь разверзшийся свод гробницы. Однако Ластман был католиком и почти наверняка написал это полотно для единоверца. Рембрандт же, решив во что бы то ни стало изобразить воскресшего Христа, должен был оставаться в рамках предписываемой протестантизмом созерцательности. В результате он совершил автоплагиат, заимствовав с собственной картины «Воскрешение Лазаря» облик медленно поднимающегося, схватившегося пальцами за край гроба Христа, который, как ни странно, предстает смертным. Кто знает, вдруг «Воскрешением Лазаря» и его офортной копией, которую Рембрандт впоследствии изготовил, восхищался Гюйгенс, а это могло подвигнуть Рембрандта внести изменения. Однако композиционное единство картины в итоге было роковым образом разрушено. Фигура Христа, напоминающего Лазаря, вопреки усилиям Рембрандта, не стала своеобразным контрастом к ярко освещенным участкам холста и фрагментам, исполненным лихорадочного, хаотического движения: она лишь нарушает гармонию картины и перегружает ее.
Впрочем, нельзя сказать, что цикл «Страсти Христовы» был полной неудачей. Все мучительные сомнения Рембрандта относительно того, насколько позволено использовать атолическую по своей сути иконографию Откровения, были вознаграждены, ведь в 1640-е годы штатгальтер решил заказать ему еще две картины на религиозные сюжеты – «Поклонение пастухов» и «Обрезание Господне». В целом он справился с этой задачей, однако выполнил самый важный в своей карьере заказ неблестяще и не сумел занять прочное место при дворе. Ему не суждено было сделаться Ван Дейком. Ему не суждено было сделаться Рубенсом. Впоследствии, когда Амалия Сольмская станет искать великий талант, который смог бы увековечить память ее мужа в пышном, украшенном фресками мавзолее, она выберет не Рембрандта.
Трудно вообразить Рембрандта, отправляющего в Гаагу последние картины цикла и испытывающего удовлетворение оттого, что выполнил работу превосходно. Судя по его почерку, он ясно осознавал их недостатки. Если в 1636 году он писал Гюйгенсу с размашистыми росчерками, то теперь испещряет лист мелкими, аккуратными, иногда не совсем разборчивыми строчками. Разумеется, он отдавал себе отчет в том, что на сей раз не сумел заново создать каноны жанры, как делал это в своих ранних шедеврах, «Уроке анатомии доктора Тульпа» и «Сусанне и старцах». В цикле «Страсти Христовы» он бросается из одной крайности в другую, от робкой настороженности к пустой, бессодержательной зрелищности. Картины этого цикла тяжеловесны и искусственны, а не созданы, повинуясь одному вдохновенному порыву. При взгляде на них приходят в голову определения, обычно абсолютно неприменимые к творчеству Рембрандта: деланые, механические, вымученные. Совершенно внезапно, в тот миг карьеры, когда представилась манящая, мучительно близкая возможность сделаться голландским Рубенсом, ему изменили его гений, его оригинальность, его удивительные природные способности, «ingenium». Он жил в собственном доме. Он изобразил себя с золотой цепью, почетным даром властителя. Однако эта роль, эта «личина» подходила ему не больше, чем его «Страсти Христовы», уменьшенные и ухудшенные копии алтарных образов Рубенса, – личным покоям протестантских принцев и патрициев.
Здесь нужны были иные качества и иной тип творческой личности. Но в годы, последовавшие за этой относительной неудачей, Рембрандт откроет для себя совершенно особый, неповторимый вариант религиозной живописи и разработает новую, невиданную прежде концепцию священного зрелища, которую Рубенс не в силах был вообразить и в самых смелых мечтах. Глубочайшим религиозным чувством будут проникнуты у него не исполненные восторга мистические видения и не страдания принимающих муки за веру, а образы тихого, самоуглубленного созерцания: чтения, молитвы, искупления.
Однако пока ему оставалось только не падать духом и в знак «благодарности» за «посредничество», которое тот берет на себя «вот уже второй раз»[483], навязать Гюйгенсу наиболее рубенсовскую из своих работ, «Ослепление Самсона». Этот жест был бы воспринят более благосклонно, если бы Рембрандт немедленно, в следующем же письме, не высказал надежду, что, увидев две его последние картины из цикла «Страсти Христовы», «Его Высочество сочтет их недурными и заплатит мне не менее тысячи гульденов за каждую»[484]. Иными словами, Рембрандт снизил запрашиваемую цену на двести гульденов за картину, но по-прежнему просил на четыреста гульденов больше, чем он получил за первые три полотна. К этому моменту в его вполне почтительном письме стали проскальзывать нотки нетерпения и раздражительности, возможно вызванные сложностью выполняемого заказа: «Если они покажутся Его Высочеству недостойными подобной оплаты, пусть заплатит мне, сколько ему будет угодно»[485].
Однако его высочество отказал художнику, возможно по чьему-то совету. Может быть, такую рекомендацию дал штатгальтеру и не Гюйгенс: в противном случае можно предположить, что ему было свойственно невероятное двуличие, ведь в последующих письмах Рембрандт, словно слегка смущенный собственным приступом негодования, хотя и не до конца преодолевший обиду, просто рассыпался в благодарностях Гюйгенсу за усилия, который тот предпринял, чтобы обеспечить ему повышение гонорара. «Я вижу, сколь Вы расположены ко мне, – писал Рембрандт секретарю штатгальтера, – и потому готов с радостью быть Вам полезным, служить Вам и почту за честь предложить Вам самую преданную дружбу»[486].
Однако, сколь бы любезно или, наоборот, грубо ни вел себя Рембрандт, результат был един: шестьсот гульденов плюс еще сорок четыре за рамы черного дерева и упаковочные ящики. И ни гроша больше. Но спустя две недели после того, как он отослал «Положение во гроб» и «Воскресение» в Гаагу, Рембрандт все еще не получил обещанных денег. Посредником, вызвавшимся примирить живописца, которому потребовалось шесть лет, чтобы завершить три картины, и штатгальтером, запаздывавшим с оплатой на две недели, стал Иоганн Уотенбогарт, не тот проповедник-ремонстрант, портрет которого некогда написал и гравировал Рембрандт, а его племянник и крестник. Весьма вероятно, что Рембрандт познакомился с молодым Уотенбогартом еще в Лейдене в 1626–1631 годах, когда тот учился в Лейденском университете, а Рембрандт слыл чем-то вроде местной знаменитости. Теперь он жил вместе со своим отцом Аугюстейном в доме неподалеку от первого амстердамского адреса Рембрандта, на Синт-Антонисбрестрат. Уотенбогарт мнил себя коллекционером и знатоком живописи и навестил Рембрандта, чтобы взглянуть на две картины из цикла «Страсти Христовы», а возможно, и на полотно, предназначавшееся в дар Гюйгенсу, прежде чем их запакуют в ящики. Однако еще важнее тот факт, что в 1638 году он был назначен главным сборщиком налогов, взимавшихся Генеральными штатами в провинции Голландия.
Рембрандт ван Рейн. Портрет Иоганна Уотенбогарта. 1635. Офорт. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк
Поэтому Уотенбогарт имел достаточно полномочий, чтобы ускорить выплату гонорара, а посетив Рембрандта в конце января 1639 года, предложил художнику впредь получать вознаграждение на месте, прямо в Амстердаме. До этого гонорары приходили со счетов некоего Теймана ван Волбергена, секретаря главной бухгалтерии в Гааге, уверявшего, что ему еще не поступили денежные средства, из которых предстояло выплатить рембрандтовский гонорар. 13 февраля Рембрандт, уже смирившийся с мыслью, что не получит больше тысячи двухсот сорока четырех гульденов, попросил Гюйгенса ходатайствовать от его имени и узнать, нельзя ли, следуя предложению Уотенбогарта, направить ему гонорар в обход ван Волбергена: «Смиреннейше прошу Вашу Милость оказать мне содействие и как можно скорее выплатить причитающийся мне гонорар здесь, в Амстердаме, и тогда благодаря Вашим любезным усилиям я смогу воспользоваться заработанными грошами и навсегда сохраню в душе признательность Вашей Милости за столь дружественное ко мне отношение»[487].
Очевидно, Уотенбогарт смог просветить Рембрандта, открыв ему истинное состояние казны ван Волбергена. А Рембрандт, выслушав Уотенбогарта, снова принялся жаловаться, на сей раз Гюйгенсу. Располагая секретной информацией от Уотенбогарта, Рембрандт смог категорически утверждать, что в контору ван Волбергена было доставлено уже более четырех тысяч гульденов. «Прошу Вас, сударь, – писал он Гюйгенсу, – незамедлительно обналичить мой чек, чтобы я получил наконец заработанные тяжким трудом тысячу двести сорок четыре гульдена. Никогда не забуду Вашей заботы обо мне. Остаюсь навеки преданный Вам, готовый служить Вам и гордящийся дружбой с Вами. Примите мои наилучшие пожелания. Да ниспошлет Вам Господь доброго здравия и всяческих благ»[488].
Таким образом, у Рембрандта были все основания испытывать признательность не только к Гюйгенсу, но и к Иоганну Уотенбогарту. А большой офортный портрет сборщика налогов за рабочим столом, выполненный им в том же 1639 году, обычно рассматривают как знак благодарности живописца чиновнику. Однако, хотя это действительно один из наиболее оригинальных офортов Рембрандта, вряд ли его можно воспринимать как простое изъявление признательности. А даже если так, то к ощущаемой художником благодарности явно примешивалась совершенно естественная жажда славы и богатства, а также досада оттого, что его посредник при дворе штатгальтера не оказал ему должной помощи. В конце концов Уотенбогарт изображен с низкой точки зрения, созерцатель словно глядит на него, униженно преклонив колени. И в самом деле, на портрете слуга покорно стоит на коленях перед Уотенбогартом, красующимся в роскошной накидке с меховой отделкой и в лихо заломленном по тогдашней моде берете, вроде того, в котором Рембрандт вскоре изобразит на офорте себя. Неясно, передает ли он слуге деньги для отправки в гаагские Генеральные штаты или принимает собранные налоги. Однако наличность в сфере налогообложения явно не переводилась, достаточно взглянуть еще на один сверток, лежащий на чаше больших весов, которые доминируют в офорте. Уотенбогарта окружают сундуки, ларцы и мешочки с деньгами. Около 1626 года, в начале своей карьеры, Рембрандт написал маленькую картину на деревянной доске, изображающую старика, который при свете свечи рассматривает монету, а над его кошельком угрожающе нависает готовая вот-вот обрушиться гигантская стопа книг. Эту картину принято интерпретировать как рассказываемую Христом в Евангелии от Луки (12: 16–21) притчу о безумном богаче, который «собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». К тому же Рембрандту, с юных лет обладавшему энциклопедическими познаниями в области искусства, особенно северного, наверняка была знакома нидерландская художественная традиция, противопоставляющая любовь к наживе искуплению благодатью и верой и представленная изображениями «банкиров» кисти Маринуса ван Реймерсвале и Квентина Массейса.
Но если ранняя картина и более поздний офорт так или иначе трактуют тему денег, то они далеко не примитивны. Ведь, в конце концов, не монеты, а именно книги угрожают обрушиться на старика в очках. Да и изображен он не как стандартное воплощение самодовольной алчности, а более нейтрально. И наоборот, можно ли сказать, что, создавая образ вельможного Уотенбогарта, и в самом деле оказавшего Рембрандту важную услугу, художник был движим только желанием польстить и благодарностью? За спиной сборщика налогов виднеется картина на сюжет, чрезвычайно редко встречающийся в голландском искусстве: «Моисей и медный змей». Он излагается в 21-й главе Книги Чисел: когда израильтяне, устав от странствий по пустыне, принялись «малодушествовать», сетуя на свою горькую судьбу в земле Едома, Господь в наказание наслал на них ядовитых змеев. Змеи стали жалить возроптавших, и те умирали. Выжившие раскаялись в своих грехах, и, узрев муки их совести, Господь повелел Моисею «сделать медного змея и выставить его на знамя», и «когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив».
В католической традиции медного змея принято было изображать свисающим с креста в форме греческой буквы «тау» и считать прообразом Распятия. Однако протестантские богословы обратились к другому эпизоду Священного Писания, где царь Езекия приказывает разрушить змея, увидев в нем идола. Не в первый и не в последний раз Рембрандт хитроумно перемещается между различными конфессиональными станами. Если Уотенбогарт захотел, то мог вообразить себя спасителем живописца, ужаленного циклом «Страсти Христовы». Но если зрители, увидевшие гравюру, замечали змея и внезапно осознавали, что подобострастный слуга чуть ли не совершает идолопоклонство, то Рембрандт же здесь ни при чем, ведь правда?
Глава девятая
Переступить порог
Рубенс умирал и знал это. Нелегко было умирать весной, когда в кронах деревьев безумствовали певчие птицы. Однако Господь даровал ему шестьдесят три такие весны, и теперь, если Господу угодно лишить сил его руки и он уже не может удержать пальцами кисти, ему остается только смириться со своей участью. Его уход доставит немалые неудобства кардиналу-инфанту Фердинанду и его брату королю Испанскому, которым его предстоящая смерть внушала больший страх, чем ему самому. Не успел он завершить великий труд, шестьдесят одну картину, предназначавшуюся для охотничьего домика короля, как они поспешили заказать ему еще восемнадцать, на сей раз охотничьих сцен, которым предстояло украсить сводчатый зал королевского дворца в Мадриде. Вероятно, он совершил ошибку, написав картины для Торре-де-ла-Парада всего за год. Теперь властители полагали, что он способен на любой подвиг, и видели в нем второго Тициана, который и в восемьдесят не снимал испачканной красками рабочей блузы и портрет которого в старости висел у Рубенса в доме, одновременно служа ему упреком в недостаточном усердии и вселяя в него уверенность. Что ж, он сделал все возможное, чтобы угодить им, закончив эскизы для дворца примерно за месяц, и его до сих пор переполняли творческие идеи: а что, если добавить это, убрать это, изменить вот это? Бывали дни, когда его пальцы неслись по поверхности деревянной доски, подобно ланям, которых он запечатлел на одной из маленьких панелей[489]. Этот эскиз нисколько не свидетельствует об артритической слабости. Картина исполнена бурного, стремительного движения, оно, несомненно, ощущается по всей ее длине, кисть Рубенса проворно накладывает тень на шею оленя с величественными рогами, прочерчивает выгнувшуюся спину борзой, изо всех сил натягивающей поводок, округлившуюся щеку нимфы, дующей в охотничий рог. Не зная, сколько времени ему еще отпущено, Рубенс научился экономить усилия, нанося легчайшие мазки: чуть-чуть пурпурного или розового, чтобы подчеркнуть блеск, который он хотел сообщить одеяниям охотниц, пятнышко белой пастели, чтобы показать рассеянный свет, падающий на груди этих нимф. Да и память пока служила ему исправно. Из гигантского архива образов, хранившегося под спудом в его мастерской, и из недр собственного сознания он извлек деталь одной из картин Джулио Романо: руку нимфы, обхватившую древесный ствол, в попытке удержать рвущихся за ланями собак. Furia del pennllo до сих пор не покинула Рубенса[490].
Питер Пауль Рубенс. Диана и ее нимфы, охотящиеся на ланей. Ок. 1636. Дерево, масло. 23,5 52,6 см. Частная коллекция
Возможно, памятуя о том, как докучал ему кардинал-инфант, требуя поспешного завершения работы над картинами для Торре-де-ла-Парада, он во что бы то ни стало тщился угодить и надорвался, ведь, когда он закончил новый цикл работ и вернулся в Стен, на него внезапно обрушился приступ подагры: его ступни и запястья словно охватили раскаленные железные клещи, пальцы искривились, точно хрупкие сухие веточки. Послали за лекарями в Мехелен, те засуетились возле постели больного и стали предлагать обычные средства, вроде кровопускания и повязок, толкли в ступках до тончайшей пыли тошнотворные снадобья, наносили на его воспаленные суставы жирные мази. Однако от недугов избавлял один лишь Господь. Много лет тому назад Липсий наставлял братьев Рубенс, что надобно покоряться воле Творца со стойкостью и смирением. И Рубенс неизменно следовал этому совету как мог, особенно когда с ним немилостиво обращались сильные мира сего. Однако бывали времена, когда ветры судьбы дышали смертельным холодом и все благочестие Сенеки казалось лишь тонким рубищем, которому не уберечь от горя. Когда судьба отняла у него его второе «я», Филиппа, и его дорогую Изабеллу, он с трудом совладал с собой и не возроптал на ее жестокость.
Не возропщет он и сейчас. Смерть избавит его от бесконечно требовательных и докучливых властителей надежнее, чем любые попытки затаиться в лесной чаще Стена, в компании одних лишь скрытных барсуков. И мог ли он сетовать на то, что дни его сочтены, видя, как гибнут даже великие королевства? Казалось, сама испанская монархия лежит на смертном одре, а тело ее распадается, точно пораженное проказой. В Каталонии и аристократы, и простолюдины подняли мятеж против королевской власти астильских Габсбургов. А за год до этого, пока король Филипп волновался, нетерпеливо ожидая доставки охотничьих сцен кисти Рубенса, его Великую армаду, надежду католических Нидерландов, у меловых утесов Южной Англии в щепки разнес голландец Мартен Тромп. Король Карл, некогда удостоивший Рубенса золотой цепи в знак признания его усилий, проявленных в деле примирения английской и испанской короны, поклялся, что не потерпит нападения на испанские корабли в его собственных водах. Однако Карл, по-видимому, утрачивал власть даже над собственной монархией и был не в силах навязать свою волю непокорному парламенту, подобно тому как король Филипп – подчинить себе восставших каталонцев. Голландцы нанесли испанцам сокрушительное поражение на море, потопив или захватив семьдесят из семидесяти семи судов, составляющих испанский флот, и теперь уже не испанские солдаты шли на помощь Фландрии, а король умолял кардинала-инфанта спасти его в его же исконных владениях! Англия, казалось, также замерла на грани катастрофы. Английский двор хотел было заказать Рубенсу несколько картин для кабинета королевы в Гринвичском дворце. Но 1640 год мало подходил для исполнения монарших прихотей.
Питер Пауль Рубенс. Автопортрет. Ок. 1638–1639. Бумага, итальянский карандаш, белила. Королевская библиотека, Виндзор
Рубенс постепенно примирялся с мыслью о неизбежности ухода. Однако, когда суровая зима сменилась оттепелью, болезнь разжала острые когти и он начал оживать. Он снова стал писать друзьям и знакомым и смог подписывать письма, а не просил своего старшего сына Альберта ставить на них свою подпись вместо него. Однако художник не питал иллюзий. В этих посланиях он чрезвычайно деликатно, избегая резких формулировок, прощался с теми, кто был ему дорог. Скульптор Франсуа Дюкенуа, теперь живший в Риме, прислал ему макеты выполненных им надгробных изваяний, и Рубенс в ответном письме вознес им хвалы со своей обычной щедростью и великодушием, именуя их «созданиями скорее не искусства, а природы» и добавляя, что если бы он «не был прикован к постели старостью и подагрой, лишившей [его] возможности работать, то лично бы отправился посмотреть своими глазами на столь замечательное творение». В любом случае он надеялся увидеть Дюкенуа, «прекрасные работы» которого по праву знамениты во Фландрии, и молил Господа, чтобы Он сподобил его «взглянуть на чудеса, созданные Вашими руками, пока не закрыл глаза навеки»[491]. За несколько недель до этого он постарался оказать помощь еще одному скульптору, своему любимому ученику Лукасу Файербу, специализировавшемуся на миниатюрах из слоновой кости, дав ему обстоятельную рекомендацию, в которой заявлял, что «он вырезал для меня… несколько статуэток из слоновой кости, весьма и весьма достойных, и справился со своей задачей столь похвально, что, по моему мнению, во всей стране нет скульптора, который бы сделал это лучше. Посему я полагаю, что знатным людям и членам городского совета надлежит покровительствовать ему и оказывать всяческие почести, предоставлять льготы и привилегии, так чтобы он избрал местом жительства их город и украсил их дома своими творениями»[492].
На исходе жизни Лукас Файерб буквально сделался для Рубенса приемным сыном. Его собственные старшие дети от брака с Изабеллой Брант, сыновья Альберт и Николас, обнаруживали немалые дарования, но не в художественной сфере. Альберт особенно походил на своего дядю Филиппа и все время посвящал чтению и переводу классических текстов. Однако ни один из мальчиков не стремился стать художником, в отличие от отца, мечтавшего об этом поприще с юных лет. Рубенс все еще надеялся, что его младшие, Франс (семи лет) и Питер Пауль (трех), с течением времени могут последовать его примеру, и потому категорически запретил разрознивать или продавать его великолепную графическую коллекцию, сокровищницу античной традиции, чая, что когда-нибудь его младшие сыновья возьмут в руки кисть или резец, а может быть, его дочери выйдут за живописцев. По-видимому, ему не приходило в голову, что девочки и сами могут стать художницами, хотя и к северу, и к югу от Альп примеров тому было не так уж мало.
Так Файерб стал для него сыном-художником, которого у него никогда не было, «дорогим и любимым Лукасом», милым домочадцем, которому доверяли присматривать за антверпенским домом и садом, когда Рубенс, Елена и их дети пребывали в поместье. Файерб мог в любое время приезжать в Стен и уезжать, когда ему заблагорассудится, а заодно он частенько привозил живописцу то загрунтованные доски, то фрукты из собственного маленького сада. «Когда будете уходить, – писал ему Рубенс в августе 1638 года, – не забудьте хорошенько запереть двери и проверить, не осталось ли наверху у меня в мастерской каких оригиналов или эскизов. А еще напомните Виллему-садовнику прислать нам груш, когда они созреют, или инжиру, или еще каких-нибудь плодов… Приезжайте к нам, как только сможете… Надеюсь, что Вы, с Божьей помощью, схороните золотую цепь [недавний дар Карла I] в укромном месте»[493]. 9 мая 1640 года Рубенс написал последнее сохранившееся письмо, поздравляя Файерба с женитьбой на Марии Смейерс:
«Сударь,
с большой радостью я услышал, что в день Первого мая Вы посадили майское дерево в саду своей возлюбленной; надеюсь, что оно зацветет и со временем принесет плоды. Мы с супругой и оба наших сына искренне желаем Вам и Вашей возлюбленной радости и долгой, счастливой жизни. Не спешите вырезать младенца из слоновой кости, Вам предстоит дело куда более важное – подарить миру живого младенца. Не сомневайтесь, Вы всегда будете для нас желанным гостем. Полагаю, моя супруга через несколько дней сможет заехать в Мехелен по дороге в Стен и тогда увидится с Вами и лично пожелает Вам счастья. А пока, пожалуйста, передайте мой искренний привет Вашим тестю и теще, которые, я надеюсь, с каждым днем будут все более и более радоваться Вашему союзу и увидят в Вас достойнейшего зятя. Я передаю привет также Вашему отцу и Вашей матери, которая наверняка украдкой посмеивается оттого, что Ваше итальянское путешествие не состоялось и она не утратила надолго общество своего милого сына, а, напротив, обрела дочь, и та вскоре, с Божьей помощью, сделает ее бабушкой. Остаюсь преданный Вам всем сердцем…»[494]
В каждой строке здесь звучит неповторимый голос Рубенса: его такт и заботливость, его искренняя и теплая дружеская привязанность, его подкупающая убежденность в том, что иногда стоит забывать об искусстве и сосредоточиваться на личном (не вырезать фигурку младенца из слоновой кости, а зачинать дитя из плоти и крови), его откровенный восторг перед чадородием. Он и сам так жил. Он хотел, чтобы именно таким его запомнили друзья и близкие.
Он сделает все, чтобы достойно встретить близящийся конец. Он отправил Альберта в книжную лавку Бальтазара Морета за сборником молитв «Litaniae Sacrae» и за часословом «Officium Beatae Mariae», которому предстояло научить его умирать, как подобает доброму христианину, верному сыну Церкви (хотя Рубенс и сам прекрасно это знал). Однако трудно вообразить, что Рубенс так уж легко расставался с этим бренным миром. В конце концов он во второй половине 1630-х годов отринул печальное самосозерцание, по всеобщему мнению свойственное мрачным старцам, и написал серию картин, откровенно воспевающих радости плоти. Как бы то ни было, с годами его способность изображать наслаждение, доставляемое зрением и осязанием, только возросла. Эскизы маслом, выполненные для Торре-де-ла-Парада, исполнены чувственности. Яркий свет играет на кудрях нереиды, прильнувшей к чешуйчатой спине морского бога Тритона. Беспощадное солнце добела опаляет лицо Клитии, превращающейся в цветок подсолнуха. Молния пронзает черные грозовые тучи, на море разражается грозная буря, а Фортуна, под ураганным ветром изгибающая мощное тело, с трудом сохраняет равновесие на своем хрустальном шаре. Великий Вакх, так и стекающий складками изобильной плоти с бортов триумфальной колесницы, проталкивает гроздь винограда в разверстый рот маленького сатира с раздвоенными копытцами.
Питер Пауль Рубенс. Сельский праздник (фрагмент). Середина 1630-х. Дерево, масло. 149 261 см. Лувр, Париж
Нельзя сказать, чтобы Рубенс уходил смиренно и покойно. Почти три года он проработал над «Сельским праздником», изображающим буйный разгул, постепенно словно увеличивая громкость крестьянской музыки, пока она не переросла в оглушительную какофонию, в громогласный рев, который заставил умолкнуть нежные, изящные пасторальные мелодии, раздающиеся на приглаженных и чинных «сельских сценах» в антверпенских гостиных. Он явно пытался передать зловоние, царящее на переполненном гумне, показать налитые кровью глаза и раскрасневшиеся от грубого веселья лица. На картине собаки вылизывают грязную посуду, пьяница дремлет, уронив голову на стол и обратив к зрителю голую поблескивающую жирную спину, младенец причмокивает, взяв в рот сосок матери, юбка неуклюжей плясуньи задирается, открывая немытые бедра, дюжие руки крепко обхватывают в танце талию партнерши, пшеничные снопы, на которых вместо подушек взгромоздились пирующие, покалывают их задницы, плясуньи, тяжело подпрыгнув, всей своей тяжестью приземляются на и так уже примятую траву гумна. Рубенс хотел воссоздать грубую природу.
Однако он дорожил и ее соблазнительной нежностью: не случайно он так часто изображал негромкие, нашептываемые на ушко «conversations la mode» галантных кавалеров в шелках и их утонченных возлюбленных, сопровождаемые томным журчанием фонтана, украшенного статуями сатиров. В сельском уединении Стена он написал восход маслянистой луны, отражающейся в пруду, берега которого заросли ольхой. Сидя у себя в башне и наслаждаясь теплым, напоенным солнцем воздухом в пору сенокоса, он обозревал свой клочок брабантской земли, как будто это был целый мир, осиянный несравненной славой Господнего творения. Он писал заход солнца и радугу, прощания и клятвы любить до могилы. Ему будет недоставать верховой езды, писем, которые он постоянно посылал друзьям. Ему будет недоставать его камей и агатов, его книг и его мраморов. Ему будет недоставать его благожелательных, ученых друзей: Рококса, который переживет Рубенса всего на несколько месяцев, его тестя Бранта, Гевартса, приятеля его школьных лет Морета. В потустороннем мире ему будет недоставать благородной мудрости Пейреска. А более всего ему будет недоставать его близких, его домашних. Давным-давно он поражался тому, как Господь, лишивший его братьев и сестер, вознаграждая его за претерпленную скорбь, ниспослал ему многочисленное потомство: его сыновья от Изабеллы уже подрастали. (Хорошо, что ему не суждено было узнать об ужасном конце Альберта: тот умрет от горя, не в силах смириться с гибелью собственного сына, которого загрызет бешеная собака.) А еще у него было четверо маленьких детей, рожденных плодовитой Еленой. Пятое дитя, Констанция, появится на свет спустя восемь месяцев после смерти Рубенса, а значит, ему наверняка будет недоставать жены, ее пышного, изобильного тела и пшенично-золотистых волос. В последние пять лет жизни Рубенс не мог отвести от Елены глаз. Он не писал ни одной картины на исторический сюжет, за исключением мученичества святых и апостолов, на которой не вывел бы ее в том или ином образе, чаще всего обнаженной. На его картинах она предстает Венерой и Каллисто, Сусанной и Сирингой, Ариадной и Эвридикой, Вирсавией и Агарью. Но чаще, чем в облике любых мифологических героинь, Рубенс изображал ее в образе Андромеды. В последней версии этого сюжета, написанной в 1638 году, она, совершенно нагая, прикована к скале и полностью открыта взору созерцателя, а на ее устах играет едва заметная улыбка, ведь она знает, что ее спаситель Персей уже близко. Рубенс, «cavaliere», избрал своим героем Персея, дитя любви Данаи и золотого дождя – семени Юпитера; воспитанника Минервы и Меркурия, божеств – покровителей живописцев; победителя чудовищ и тиранов; всадника на крылатом коне; обладателя крылатых сандалий, способных унести в заоблачное царство воображения.
Возможно, безудержный восторг мужа, вызванный ее обнаженным телом и его стремление снова и снова запечатлевать ее наготу, внушали Елене неловкость, и она не столько открывалась, сколько позволяла созерцать себя его ненасытному взору. После его смерти она уничтожила несколько картин, на которых в той или иной позе была изображена нагой и которые сочла непристойными, однако в коллекциях принцев и патрициев сохранились бесчисленные образы ее тела, словно Рубенс в качестве дружеского жеста разрешил глазам избранных узреть ее наготу. Один портрет Елены, возможно самый знаменитый и, безусловно, наиболее исполненный чувственности, он намеревался навсегда сохранить в своей личной коллекции, не выставляя напоказ, и после смерти оставил Елене, особо оговорив это в завещании. «Шубка» – в том числе свидетельство творческой и личной страсти Рубенса. Она написана по мотивам «Девушки в меховой накидке» Тициана и даже повторяет жест правой руки, поддерживающей груди; Рубенс вторит венецианскому мастеру, воспроизводя тот же насыщенный пурпур ковра и подушки и, подобно венецианцу, детально выписывая текстуру меха, прозрачного муслина и обнаженной кожи[495]. С точки зрения ученого знатока, эта картина, вероятно, проникнута убеждением великого фламандца, что античные статуи могут использовать в качестве достойной подражания модели только художники, способные превратить хладный камень в теплую плоть. Нетрудно предсказать, что стражи нравственности предпримут немалые усилия, пытаясь вписать «Шубку» в пристойный мифологический контекст и объявив ее очередной «Афродитой». Однако своей трепетной чувственностью картина, конечно, обязана неполному превращению Елены в обнаженную модель. Ее позе свойственна завораживающая нерешительность, героиня словно застигнута жадным взором созерцателя и в смятении не может выбрать, обнажиться или прикрыть свое тело, демонстрируя одновременно невинность и осведомленность. Женщина, уверенная в своей красоте, прочно упирается одной ногой в пол. Застенчивая девушка неловко переступает на месте, приподнимая другую ногу, а ее пятка отбрасывает тень на ковер. Все в ее манере держаться обнаруживает двусмысленное, сокровенное знание, она одновременно тщится утаить и выставить напоказ свое тело: пышные груди с возбужденными сосками, слегка прикрытые и вместе с тем обнаженные, мягкие складки плоти под ними, черный мех, льнущий к ее светлой коже, большие, темные, широко распахнутые глаза с тяжелыми веками, в которых читается и самообладание, и уязвимость. Мы оказываемся на той же неясно различимой границе между наготой и обнаженностью, что стремился нанести на живописную карту и Рембрандт: к ней он вернется в 1650-е годы, расширив охватываемую ею область до размеров целого визуального и экспрессивного континента[496].
Питер Пауль Рубенс. Шубка. Ок. 1638. Дерево, масло. 176 83 см. Музей истории искусств, Вена
Сколь бы смешанные чувства ни испытывала Елена, созерцая образы собственного тела, созданные неутолимой страстью ее мужа-художника, гордость, уважение к его желаниям, а возможно, и нежные воспоминания возобладали над ее чопорностью или стыдливостью, и «Шубка», в отличие от других откровенных картин, избежала гибели. Вероятно, Елене весьма и весьма пришлись по вкусу многочисленные холсты, на которых Рубенс запечатлел ее с детьми, часто в вызывающе декольтированном платье, однако на сей раз явно стремясь воспеть ее материнскую плодовитость. Например, едва ли ее мог смутить упоительно-яркий, написанный широкими эскизными мазками и просто излучающий блаженство портрет, ныне хранящийся в Мюнхене, на котором она предстает крепко обнявшей голенького, пухленького трехлетнего Франса: у обоих темные глаза, розовые щеки и ямочки на подбородке, образующие идеальную зрительную рифму. Нельзя вспомнить ни одного барочного (да и ренессансного) мастера, который бы с таким нескрываемым восторгом запечатлевал жизнь собственных детей, идя в них свое будущее, в то время как его дни омрачал недуг и зловещее приближение смерти. Его семья напоминала его сад: прочная и крепкая, она была окружена столь же любовным уходом, в ней царили столь же буйный рост и столь же умиротворяющая безмятежность. Рубенс был бы рад узнать, что он заронил в плодовитое лоно Елены еще одно семя, хотя, учитывая, что, когда он умер, она находилась лишь на первом месяце беременности, это крайне маловероятно.
Рубенс изо всех сил старался, чтобы эта семейная идиллия продолжалась и после его смерти. 27 мая ему, видимо, стало хуже, поскольку он призвал нотариуса и составил новое завещание. Елена получила максимальную долю наследства, какую только позволяли законы Фландрии и Антверпена: половину всего имущества Рубенса, а замок и земли в Стене были поделены между нею и двумя его старшими сыновьями. Большую часть второй половины он поровну распределил между всеми шестью детьми, выделив также какую-то долю на благотворительность и на антверпенские церкви. Небольшие суммы денег он заботливо оговорил в завещании для простых людей, которые в разное время служили в его доме, например для конюхов. Альберту, многообещающему филологу-классику, он оставил свою библиотеку и завещал ему, поровну с братом Николасом, свою гордость и радость – коллекцию камей, агатов, монет и медалей[497].
В последующие дни его состояние сильно ухудшилось. В его спальне непрерывно толпились лекари, антверпенские доктора Спиноза и Лазарус, а в придачу еще двое хирургов, которым вменялось в обязанность облегчать боль в его ступнях, мучимых неумолимо прогрессировавшей подагрой. Кардинал-инфант прислал из Брюсселя собственных лейб-медиков. Аптекари доставляли новые и новые снадобья, но все было тщетно. Рубенс горел в лихорадке и угасал. Тридцать первого числа Жербье писал одному из своих английских корреспондентов: «Сэр Питер Рубенс смертельно болен», однако, взявшись чуть позже за письмо самому королю Карлу, он узнал, что Рубенс умер накануне «от разрыва сердца, не перенеся нескольких дней горячки и подагры»[498]. Он оставил сей мир в последнюю среду мая, в полдень, в тот час, когда он обыкновенно бывал занят незавершенными картинами в своей мастерской, проверял работу учеников, поправлял детали, немного отойдя, внимательно разглядывал готовые полотна. В обычные дни в это время по всему дому медленно распространялся аромат пекущихся пирогов, предвещая умеренный обед. Небо над его садом окрашивалось в полдень яркими тонами. Цвели фруктовые деревья, а из-за стен доносился равномерный цокот копыт по булыжной мостовой.
А потом зазвонили колокола. Тело Рубенса было положено в дубовый гроб. На вечерне несколько монахов из шести городских монастырей, тех самых, что грабили и опустошали на глазах Яна Рубенса семьдесят четыре года тому назад, проследовали за его катафалком на запад, вдоль всего канала Ваппер, потом через улицу Мейр, где когда-то поселилась после возвращения в Антверпен Мария Рубенс, а потом на Синт-Якобскеркстрат, где Питер Пауль упокоился в фамильном склепе Фоурментов. Три дня спустя, 2 июня, состоялось погребение, во время которого были зажжены шестьдесят свечей, кресты окутаны алым атласом и пропеты мизерере, «Диес ире» и псалмы. Фасад дома Рубенса задрапировали черным сукном, а в стенах его устроили поминки по усопшему, как требовал того фламандский обычай. В память о живописце поднимали бокалы по всему Антверпену: и в ратуше, которую до сих пор украшало рубенсовское «Поклонение волхвов» и в которой теснились пришедшие отдать ему последний долг магистраты, главы гильдий и бургомистры; и в издавна облюбованном членами Общества романистов «Золотом цветке», где Рубенс и его брат вместе с Рококсом, Гевартсом, Моретом и прочими читали друг другу изящные латинские вирши; и в таверне «Олень», где его коллеги и соратники, состоявшие в братстве Левкоя и гильдии Святого Луки, провозглашали признанному мастеру вечную память. Сотни месс были прочитаны доминиканцами, капуцинами, августинцами, монахинями ордена босоногих кармелиток, а за городскими стенами – «черными сестрами»-алексианками Мехелена и иезуитами Гента. В маленькой церкви деревушки Элевейт, где Рубенс молился во время своего пребывания в Стене, за упокой его души отслужили двадцать четыре мессы.
Рубенс не ошибся. И в Англии, и в Брюсселе раздался явственный ропот разочарования: как же, художник покинул этот мир, не успев написать еще картин для галерей этих монархов. Кардинал-инфант обронил в письме брату, королю Филиппу: «Рубенс умер примерно десять дней тому назад, и, уверяю Ваше Величество, я весьма удручен тем, в каком состоянии пребывают картины [предназначавшиеся для сводчатого зала дворца]»[499]. Настоятель аббатства Сен-Жермен-де-Пре, проявив куда больший такт, сказал в письме старому школьному другу Рубенса Бальтазару Морету, что живописец отправился «созерцать оригиналы тех прекрасных полотен, что он оставил нам». Морет ответил, что, «потеряв господина Рубенса, невосполнимую утрату понесли и город, и особенно я сам, ведь он был одним из самых близких моих друзей». Еще лучше удались Александру Форненбергу последние строки стихотворной эпитафии, в которых тот превозносит гений художника, одновременно порицая своих соперников, слагавших посмертные панегирики в честь живописца: «Напыщенные рифмоплеты, которые воспевали Рубенса смелыми стихами / и сочинили в память его ученые поэмы, / воображают, будто им досталась пальма первенства, / однако они лишь тщились нарисовать солнце углем»[500].
Незадолго до смерти кто-то, возможно Лукас Файерб, спросил Рубенса, желает ли он, чтобы на его могиле в церкви Святого Иакова установили памятную часовню. Он отвечал, тщательно выбирая слова, подчеркнуто лаконично, как было ему свойственно, явно стремясь избежать всякой напыщенности и посмертного самовозвеличивания. Если его вдова, его взрослые сыновья и опекуны его детей, еще не достигших совершеннолетия, сочтут это уместным, то, конечно, они вправе воздвигнуть часовню и украсить ее изображением Пресвятой Девы. В ноябре следующего года члены городского совета дали семье разрешение на строительство, и за клиросом церкви была возведена часовня стоимостью пять тысяч флоринов. На полу выложили сочиненную Яном Гевартсом надпись, прославляющую «Питера Пауля Рубенса, лорда Стена, который, наряду со множеством несравненных талантов, отличался глубоким знанием древней истории и посему может быть наречен Апеллесом не только нашего, но и всех времен и который удостоился дружбы королей и властителей»[501]. Над надгробным алтарем, под прекрасным и трогательным мраморным изваянием Пресвятой Девы с пронзенным сердцем, поместили картину Рубенса «Мадонна с Младенцем и святыми», решенную в ярких, насыщенных тонах и воплощающую всю суть личности художника: его энергию и мужественность – в образе святого Георгия, его простоту и суровость – в образе святого Иеронима и прежде всего его нежность, теплоту и мягкость – в любящих взглядах, которыми обмениваются Мать и крохотный Сын.
К середине июля 1640 года был завершен подробный перечень всех произведений искусства, оставшихся в доме Рубенса и никому не завещанных. В нем оказалось около трехсот тридцати наименований, в том числе триста девятнадцать картин. Среди них более ста были написаны самим Рубенсом или скопированы им с оригиналов Тициана и других старых мастеров. Нашлись и подлинные работы Тициана, Тинторетто, Веронезе и таких северных художников, как Ван Дейк. Нет нужды упоминать, что агенты европейских монархов тотчас почуяли благоприятную возможность, и до конца года значительная часть коллекции Рубенса отправилась в Мадрид, Вену и Гаагу.
Сама Елена Фоурмент приобрела девять работ своего покойного мужа, по большей части семейных портретов, а также «Сад любви», чудесно передающий атмосферу утонченной эротики. Как бодро писал Жербье Иниго Джонсу, она была «богатой вдовой с богатыми детьми». На самом деле ее состояние превосходио все, о чем только смела мечтать какая-либо жена художника, ведь ей отошла половина наследства, оцениваемого в двести девяносто тысяч гульденов, колоссальную сумму в глазах любого жителя Антверпена, тем более того, кому при рождении собственный отец не мог передать ничего, кроме основательно запятнанной репутации.
Питер Пауль Рубенс. Распятие святого Петра. Ок. 1637–1639. Холст, масло. 310 170 см. Церковь Святого Петра, Кёльн
А среди множества картин, прислоненных к стене в доме на Ваппере и дожидающихся продажи с аукциона или на торгах, которые непрерывным потоком продолжались все сороковые годы, было и незавершенное «Распятие святого Петра». В свое время его совершенно неожиданно заказал Рубенсу лондонский купец Джордж Гелдорп, уроженец Германии, происходивший из почтенного города Кёльна, архиепископской резиденции. В 1637 году от имени одного из крупных кёльнских коммерсантов, ценителя искусства Эверхарда Ябаха, и его семейства он попросил Рубенса написать картину, которую можно было бы преподнести в дар кёльнской церкви Святого Петра. Рубенс не бывал в Кёльне уже целую вечность и не имел там никаких знакомых, однако отвечал со всей возможной любезностью. Разумеется, он оставляет выбор сюжета за «заказчиком, который берет на себя все издержки», однако ему видится распятие святого, проявившего самое горячее и искреннее раскаяние, его собственного неполного тезки. «Город Кёльн очень дорог мне, – писал Рубенс Гелдорпу, – ведь именно там я воспитывался до десяти лет. Мне часто хотелось увидеть его после столь длительного перерыва. Впрочем, опасаюсь, что подстерегающие на пути опасности и мои собственные занятия лишат меня этого и многих других удовольствий»[502].
Рубенс неизменно оставался джентльменом. Неужели он действительно испытывал хоть малейшее желание вернуться в Рейнскую область? Разумеется, Кёльн – это не Зиген, и, утверждая, будто провел в Кёльне все детство, Рубенс заставлял себя забыть о Зигене, с которым у него были связаны куда более мучительные и тягостные воспоминания. Тем не менее он не только не нашел в себе силы отправиться в Кёльн, но не сумел даже завершить картину. Сохранился выполненный маслом эскиз, на котором Петр принимает мученическую смерть, будучи распятым вверх ногами, а сам холст, законченный кем-то из учеников, не лучший и не худший образец работы мастерской Рубенса, в конце концов добрался до кёльнской церкви, где давным-давно преклонял колени другой кающийся грешник.
Вероятно, в Амстердаме обнаружилось немало тех, кто уверял, будто знал Рубенса, и некоторые и вправду его знали. Например, было достоверно известно, что знакомством с Рубенсом мог похвастаться Антони Тейс. Его отец, торговец драгоценными камнями Йохан Тейс, продал Рубенсу земельный участок на канале Ваппер вместе с заброшенной прачечной, где тот впоследствии выстроил свой особняк. Подобно многим другим семействам, Тейсы были разбросаны по всему миру и принадлежали к различным христианским конфессиям. Некоторые из них, наиболее благочестивые или наиболее осторожные приверженцы кальвинизма, во время беспорядков переселились на север, в Голландию. Однако многих своих близких они предусмотрительно оставили в Антверпене, чтобы избежать конфискации недвижимого имущества. Поэтому, уже обосновавшись в Амстердаме, Йохан Тейс в 1609 году мог продать свою собственность Рубенсу через посредничество собрата по ремеслу, ювелира Христофера Карса[503]. Йохан Тейс не только запросил за участок цену в восемь тысяч девятьсот шестьдесят флоринов, но и поставил Рубенсу еще два условия: одно обычное, другое не очень. От Рубенса требовалось написать для Тейса картину, а кроме того, бесплатно взять в ученики его сына, возможно брата Антони Ханса. В ту пору обучение в мастерской живописца обыкновенно обходилось близким юноши в сто флоринов в год, поэтому Тейс экономил от пятисот до семисот флоринов за весь курс, а заодно гарантировал своему сыну известный статус, ведь отныне Тейс-младший, не важно, обладал он талантом или нет, мог похвастаться тем, что числился в учениках величайшего живописца мира.
Мы не знаем точно, кто из братьев, Антони или Ханс, впоследствии скупщик предметов искусства, обучался в мастерской Рубенса, однако к моменту женитьбы, в 1621 году, Антони поселился на набережной канала Херенграхт, в фешенебельном квартале, который едва ли мог приглянуться художнику. Впрочем, его невеста Лейсбет выросла в доме на Брестрат, улице, где купцы, специализирующиеся на продаже брильянтов, и другие коммерсанты соседствовали с живописцами, например Питером Ластманом, и торговцами картинами. К сожалению, супружеское счастье Антони Тейса продлилось недолго. Спустя всего десять месяцев после венчания Лейсбет родила сына, а еще через четыре дня упокоилась в церкви Аудекерк. Антони Тейс явно не привык искать спутниц жизни вдали от дома. Первая жена приходилась ему племянницей. По прошествии пяти лет он женился на своей воспитаннице, семнадцатилетней Магдалине Белтен. Она также происходила из семьи фламандских купцов-иммигрантов, живущей на Брестрат, в красивом, прочном доме, украшенном ступенчатым щипцом и треугольным фронтоном над входом, втором от угла со шлюзом Синт-Антонислёс. Супружеская чета прожила здесь около шести лет, а потом переехала снова, на сей раз в еще более роскошный квартал на набережной канала Кейзерсграхт. Спустя год, в 1634-м, умер и сам Антони, а его вдова, не достигшая еще и тридцати, по обычаю Белтенов и Тейсов избирать спутников жизни среди близких, не теряя времени, вышла за другого члена своего семейства, племянника своего покойного мужа Христоффела.
Домом на Брестрат Магдалина владела совместно с братом Питером Белтеном, но, вступив в брак, передала право собственности мужу Христоффелу Тейсу. В 1636 году мужчины выставили его на аукцион, однако сняли предложение, когда оказалось, что никто не готов платить за него более двенадцати тысяч гульденов. В течение двух лет дом сдавали внаем, а потом, в 1638 году, решили продать, назначив за него цену в тринадцать тысяч гульденов.
Купил его Рембрандт ван Рейн, вознамерившийся войти в высшее общество. Не случайно, мучительно пытаясь отыскать творческое решение цикла «Страсти Христовы» и тщась превратиться в эдакого голландского Рубенса, он приобрел дом у той же семьи, что продала Рубенсу земельный участок! Семейства, жившие по соседству на Брестрат, не прочь были посплетничать, и потому маловероятно, чтобы Рембрандт об этом не знал. Потому ли сделка показалась ему неотразимо привлекательной? Именно этот дом на Брестрат стал в его глазах чем-то большим, нежели просто кирпичи и строительный раствор. Этот особняк вызывал у него ассоциации со всеми, кто был важен ему как художнику: с Ластманом, с ван Эйленбургом, а теперь еще, как выяснилось, и с Рубенсом. Ну мог ли он не купить этот дом?
Дом-музей Рембрандта на Йоденбрестрат
Может быть, тридцатичетырехлетний Рембрандт воображал, что отныне уподобится Рубенсу, будет разъезжать в собственной карете, а его желания будут предвосхищать домашняя челядь, кухарки, конюхи, ученики и ассистенты, растирающие краски? В любом случае он явно полагал, что достаточно богат, чтобы позволить себе дом, несравненно более роскошный, чем все, где ему случалось жить до сих пор, и потому значительно более дорогой, чем все, о каких смели мечтать его собратья по ремеслу и коллеги. В том же году, когда Рембрандт приобрел дом на Брестрат, Михил ван Миревелт, ветеран придворного портрета, купил в Дельфте дом за каких-нибудь две тысячи гульденов, чуть выше средней цены по городу[504]. С другой стороны, по сравнению с Амстердамом, который в 1639 году мог считаться самым привлекательным и элегантным городом Европы, Дельфт выглядел провинциальным захолустьем, и цены на недвижимость, как и гонорары за портреты, возможно, отражали эту разницу. Даже если так, столь талантливый и популярный портретист, как Николас Элиас Пикеной, в конце концов вынужден бл переехать из жилища на Брестрат, ибо оно оказалось ему не по карману. Примерно в то же время, что и Рембрандт, он приобрел дом по соседству, третий от угла, у бывшего великого пенсионария и члена городского совета Адриана Пау. Спустя пять лет ему пришлось продать этот дом за девять тысяч гульденов португальскому еврею Даниэлю Пинту[505].
Однако Рембрандт чувствовал себя богатым и не боялся заявить об этом вслух перед фрисландским судом, слушавшим дело по его иску к семейству ван Лоо, родственникам мужа Хискии, сестры Саскии. Рембрандт утверждал, будто доктор Альберт ван Лоо и Майке ван Лоо оклеветали его и его жену, распространив слухи, что они-де растратили ее наследство, щеголяя и выставляя напоказ то, что имеют, – «pronken en paerlen»[506]. Разумеется, он мог бы защититься от обвинений в расточительстве, уверив суд, что на самом деле они с Саскией ведут жизнь исключительно скромную и непритязательную. Однако, каковы бы ни были недостатки Рембрандта, сладкоречивое лицемерие к их числу не принадлежало. Поэтому он стал утверждать, что они слишком богаты, чтобы навлечь на себя упреки в мотовстве. «Как подчеркнул истец без всякой похвальбы, он и его жена владеют безмерным и неистощимым богатством, за что не устают благодарить Всемогущего Господа»[507]. Может быть, Рембрандт, сам того не зная, был втянут в давнюю вражду между частью фрисландских ван Эйленбургов и частью семейства ван Лоо, ведь Ульрик ван Эйленбург, адвокат, представлявший интересы художника в суде, однажды уже пытался возбудить процесс против Альберта ван Лоо, хотя и не преуспел. Нетрудно вообразить, что ван Эйленбурги хитроумно вовлекли Рембрандта в свой лагерь, воздействуя на его супружеские чувства и стремясь вызвать его негодование. Он ничего не выиграл. Суд постановил, что, как бы ответчики ни злословили в адрес ван Эйленбургов, о Саскии и ее супруге они ничего не говорили, поэтому Рембрандт не вправе требовать от них опровержения и рассчитывать на возмещение морального ущерба. Обеим сторонам пришлось оплатить судебные издержки.
Возможно, художник воспринял это судебное дело как мелкое досадное недоразумение, не более. В конце концов, он требовал у ответчиков всего лишь шестьдесят четыре гульдена компенсации, а получение или утрата такой суммы едва ли много значит в глазах человека, который через несколько месяцев намерен заплатить тринадцать тысяч гульденов за новый дом. Однако дом он приобретал на условиях не самых благоприятных. Купчая была подписана 5 января, стороны согласились вручить друг другу договоры, соответственно купли и продажи, 1 мая, на тот же день была назначена выплата первого взноса в размере тысячи двухсот гульденов. В таком случае неудивительно, что Рембрандт столь горячо настаивал, чтобы ему выплатили тысячу двести гульденов за две последние картины из цикла «Страсти Христовы». В ноябре 1639 года он внес следующую часть суммы, еще тысячу двести гульденов, а 1 мая 1640 года – еще восемьсот пятьдесят. Оставшиеся три четверти стоимости, девять тысяч шестьсот пятьдесят гульденов, требовалось заплатить в рассрочку любыми взносами на протяжении пяти-шести лет. Однако невыплаченный остаток, в сущности, трактовался как ипотечный кредит, предоставленный прежними владельцами дома со ставкой в пять процентов. Сейчас в Нью-Йорке, в 1999 году, это может показаться выгодной сделкой. Но, учитывая, что коммерческие ставки по кредитам в Голландии середины XVII века обычно не превышали двух-трех процентов, Рембрандт брал на себя очень значительные долговые обязательства.
Впрочем, и самоуверенности ему было не занимать. Возможно, он подсчитал, что если, как его новый сосед Николас Элиас Пикеной, не сможет вовремя выплатить взносы, то всегда сумеет перепродать дом, и даже с прибылью. Недостаток этого спасительного плана заключался в том, что Христоффел Тейс отложил полную передачу прав собственности на проданную недвижимость до своевременной выплаты обещанных платежей. Но в 1639 году неустрашимый Рембрандт и это не принял за дурное предзнаменование, ведь он находился на пике своего таланта и славы. В 1641 году в новое издание истории Лейдена, подготовленное Орлерсом, была включена статья о его карьере, где Рембрандт объявлялся едва ли не преемником Луки Лейденского, а в октябре того же года глава лейденской гильдии художников Филипс Ангел в своей ежегодной речи в честь Дня святого Луки назвал его «всем известным Рембрандтом [wijt-beruchten Rembrant]»[508]. Значит, он безусловно добился высокого признания. А если он был столь востребован в самом богатом городе мира, не должна ли ему вскоре улыбнуться фортуна?
И хотя улица Брестрат менялась на глазах, ведь сюда переезжало множество чужеземцев, особенно португальских евреев, переправлявшихся через мосты с острова Влоинбург, Рембрандт по-прежнему мог ощущать свое возвращение на Брестрат как маленький триумф. Он даже был готов совершать широкие жесты, например вместе с несколькими вкладчиками, в том числе собратьями-художниками, поддержать Хендрика ван Эйленбурга, которому всегда не хватало наличных денег, и одолжить ему некоторую сумму. Саския, возможно, тоже была рада поселиться здесь, в двух шагах от кузена. Хотя от их прежнего жилища на Влоинбурге дом на Брестрат находился всего в нескольких минутах ходьбы, он ознаменовал для Рембрандта и Саскии новое начало: это был элегантный особняк в богатом квартале, быть может не столь модном, как кольцом охватывающие центр города набережные новых каналов, но все же свидетельствующем о достатке и утонченности его обитателей. Спланированный в обычной амстердамской манере рубежа XVI–XVII веков, новый дом был высоким и далеко уходил в глубину, а его обращенный на улицу фасад как раз был довольно узок. Через отделанный камнем вход в классическом вкусе, возможно напоминавший Рембрандту его бывшую латинскую школу, посетитель попадал в «voorhuis», или переднюю, где его встречали гипсовые слепки, которые в описи имущества, составленной во времена его банкротства, впоследствии будут обозначены как «двое нагих детей»[509]. Мебели в этой комнате было немного: всего шесть стульев, в том числе четыре «испанской работы, из русской кожи», да скамеечка, чтобы выглянуть из окна, а потом спрятаться от нежеланных гостей в задних помещениях. Однако в передней висело множество картин, по большей части «кабинетного» формата: маленькие пейзажи кисти самого Рембрандта и Ливенса, изображения животных, несколько голов-«трони», представлявших типы характеров или необычайные гримасы, а также жанровых картин фламандского художника Адриана Броувера, на которых были запечатлены отбросы общества, напивающиеся в клубах табачного дыма в грязных, закопченных тавернах, и которые явно восхищали Рембрандта своей грубоватой приземленностью.
Рядом с передней располагалась боковая комната, «sydelcaemer», убранство которой состояло из стола орехового дерева, мраморной чаши для охлаждения вина, еще семи испанских стульев с сиденьями зеленого бархата и не менее сорока картин, в том числе кисти художников, наиболее высоко ценимых Рембрандтом: Яна Пейнаса, однокашника Рембрандта по мастерской Ластмана, опять-таки Ливенса, чрезвычайно оригинального пейзажиста Геркулеса Сегерса, а также маринистов Симона де Флигера и Яна Порселлиса. Порселлис, которого Самуэль ван Хогстратен позднее описывал как «Рафаэля среди маринистов», одержал победу в знаменитом состязании художников, проходившем в Лейдене в 1630 году, возможно когда Рембрандт еще не уехал оттуда, и посрамил таких пейзажистов, как Ян ван Гойен и Франсуа Книбберген[510]. Поэтому «боковая комната» могла считаться небольшой художественной галереей. За нею располагались еще комнаты, «binnenhaard» и «sael», или гостиная. Хотя «sael» с его «тремя античными статуями» и считался главной приемной, ни одна из комнат в подобных домах не имела строго определенных функций, поэтому в обеих стояли бельевые шкафы и комоды кедрового дерева, столы и стулья, а в гостиной, или «sael», была даже предусмотрена «встроенная спальня» с кроватью-альковом. В целом анфилада комнат, с их медными канделябрами и подсвечниками, с зеркалами в рамах из черного дерева, отражающими прохладный влажный свет, оставляла у посетителя впечатление прочности и удобства, «gezelligheid».
Однако лишь следующий этаж носил на себе несомненный отпечаток личности Рембрандта. Там располагались четыре комнаты, в том числе отдельная прихожая, затем «большая» и «малая» мастерские художника, а в самой глубине, иными словами, над гостиной, «sael», первого этажа, – помещение, именуемое «kunstcaemer»[511]. Пройти по этим комнатам означало увидеть множество тщательно подобранных поразительных предметов, сравнимых с энциклопедическими коллекциями, хранящимися в домах друзей Рубенса в Антверпене и задумывавшимися так, чтобы представлять все богатство мировой культуры прошлого и настоящего, Европы и экзотических стран. В «большой мастерской» Рембрандт, по всей вероятности, и работал. Из описи, подготовленной в 1656 году для комиссии по делам о банкротстве, явствует, что Рембрандт писал уже не в крохотной необставленной студии с дощатым полом, вроде той, что изображена на его лейденском автопортрете 1629 года. Теперь его окружали два костюма южноамериканских индейцев, мужской и женский, со всеми деталями и украшениями, «гигантский шлем», пять кирас, «деревянная труба» и «дитя работы Микеланджело»[512]. Эту комнату художник предпочел не заставлять вещами, чтобы выиграть пространство для работы, зато «малая мастерская» и «kunstcaemer» были забиты всевозможными любопытными предметами, от античного и индейского оружия, в том числе луков, стрел, дротиков и копий, до американских бамбуковых свирелей, яванских теневых кукол, африканских калебасов и фляг из тыквы и японского шлема (возможно, того, что красуется на одном из персонажей гризайли «Проповедь святого Иоанна Крестителя»). Целая полка в «kunstcaemer» была отведена обширной коллекции раковин и кораллов, турецкой пороховнице, двум «обнаженным фигурам, представленным полностью», посмертной маске штатгальтера Морица, двум пистолетам, набору тростей, скульптурам льва и быка[513].
Если посмотреть на этот небрежно составленный перечень, возникает ощущение, что судебные приставы с трудом протискивались сквозь груды хлама, оставшиеся от имущества разорившегося мота, натыкаясь то на слоновий бивень, то на карпатское седло, а коллекция Рембрандта неизбежно предстает чудовищной горой мусора, собранного без всякого разбора, кое-как неряшливо взгроможденной на полки, – вполне в духе его импульсивной, жадной до жизненных впечатлений, всеядной личности. Однако, подобно тому как за внешней свободой и непосредственностью его живописи таится скрупулезность приемов и тщательный расчет, будь то в композиции, будь то в исполнении, этот набор предметов являл нечто большее, нежели сорочье гнездо. Возможно, составляя это собрание, Рембрандт не руководствовался строго научными классификационными принципами, как это делали ученые коллекционеры; тем не менее набор этих объектов свидетельствует о его инстинктивной аристотелевой вере в то, что в бесконечном чудесном разнообразии мира рано или поздно любящему взору откроется замысел Творца.
В любом случае в его «кунсткамере» наличествовали отделы, посвященные античному и современному научному знанию, а также «naturalia» и «artificialia». Античный мир был представлен в коллекции Рембрандта ничуть не хуже, чем в собрании Рубенса, хотя ему пришлось довольствоваться гипсовыми слепками, тогда как Рубенс по временам мог позволить себе подлинные греческие и римские скульптуры, а также знаменитые геммы. Впрочем, именно Рубенс, а не Рембрандт по собственной воле продал большую часть своих скульптур герцогу Бэкингему. Рембрандта же с его предметами античного искусства силой сумели разлучить лишь судебные приставы. А ведь у него были все они – двенадцать цезарей, от Августа, Калигулы и Нерона до Веспасиана, Гальбы и Марка Аврелия. Как и в любом кабинете образованного джентльмена, они соседствовали с блестящими поэтами и философами Древнего мира: Гомером, Сократом и Аристотелем. Рембрандт даже владел бюстом античного героя, более, чем все прочие, повлиявшего на формирование молодого Рубенса, – бородатого Сенеки, скорбного и трагического. В его собрании наличествовали также Лаокоон и несколько головок «античных героинь». Не исключено, что, помимо скульптур, у Рембрандта была также коллекция монет и медалей, хотя явно не столь представительная и изысканная, как у фламандского мастера.
Рембрандт ван Рейн. Два этюда райских птиц. Конец 1630-х. Бумага, перо коричневым тоном, кисть коричневым и белым тоном. Отдел графики, Лувр, Париж
Не стоит судить по внешнему впечатлению. Рембрандт-расточитель, Рембрандт-повеса был также Рембрандтом-ученым, Рембрандтом – обладателем энциклопедических познаний, подобно Рубенсу, стремившимся показать миру, что он не грубый ремесленник, а «pictor doctus», живописец-интеллектуал, философ кисти, способный состязаться с поэтами, обнаруживая безупречный, утонченный вкус.
Хотя глубиной познаний Рембрандт, возможно, уступал Рубенсу, его пытливый ум отличала широта, даже если ему недоставало проницательности. Судя по его земному и небесному глобусам, его интеллектуальное любопытство носило более энциклопедический характер, чем то, что было присуще Рубенсу. Как и многие жители этого города-империи, пораженный и заинтригованный чудесами далекого мира, привозимыми в доки бухты Эй, Рембрандт собирал образцы из глубин океана и тропических джунглей: драгоценные раковины, губки, маленькие кустики кораллов, – но приобрел и чучело райской птицы из Новой Гвинеи. Играющее чудесными, яркими красками, оно предназначалось не только для того, чтобы покоить взор, но и вызывало среди тех, кто был склонен к естественно-научным размышлениям, нешуточные споры: есть ли у этого создания лапки? – ведь те, кто приготовлял чучела птиц в Ост-Индии на экспорт, всегда искусно удаляли нижние конечности. «Заключая двойное пари» и страхуя себя от проигрыша, Рембрандт нарисовал собственный экземпляр на двух разных листах: на одном – с лапками, на другом – без лапок[514]. В разделе «Аrtificialia» нашлось место экзотическим предметам: китайским и японским костюмам и керамике, мечам и шлемам, странным головным уборам с рогами и с башенками, турецким и персидским тканям с узором из дроздов, радостно прыгающих по усыпанным лилиями лугам. В его коллекции были кожи кавказской выделки, музыкальные инструменты, цитры и колокольчики, гонги и носовые флейты, восточные и средневековые.
В этом сказочном великолепии почти нет книг. В описи 1656 года упоминается лишь пятнадцать книг «различного формата». Кроме них, у Рембрандта была «Иудейская война» Иосифа Флавия, иллюстрированная Тобиасом Штиммером, тем самым художником-графиком, который произвел столь глубокое впечатление на молодого Рубенса. Однако тот факт, что Рубенс не мыслил своей жизни без библиотеки, а Рембрандт, очевидно, мало интересовался собиранием книг, отражает кардинальное несходство их творческой личности. Равнодушие Рембрандта к книгам представляется тем более странным, что он испытывал подлинную страсть к их физическому облику и не уставал изображать их на своих полотнах, превращая в некое подобие монументов, массивных, хранящих на себе следы времени, внушающих благоговение. Конечно, пятнадцать книг могли включать в себя только самые любимые, те, что снова и снова привлекали его глубиной, неисчерпаемостью или занимательностью сюжета: Библию, Тацита, разумеется, Овидия, может быть, Горация и Плиния. А если Рембрандт следовал примеру Апеллеса, который, по словам Плиния, ограничил свою палитру четырьмя цветами, посредством которых добивался удивительных композиционных и колористических эффектов, то вполне мог сказать себе, что вряд ли нуждается в огромной библиотеке, чтобы демонстрироватьсвою книжную ученость. Однако в его собрании находилась книга Дюрера о пропорциях и, возможно, учебник Жака де Гейна II по боевой подготовке (в немецкой редакции), откуда он заимствует несколько фигур для «Ночного дозора». К тому же нельзя исключать, что еще до того, как в 1656 году к нему явились судебные приставы, он продал часть изначально куда более обширной библиотеки.
Но если книжные полки в доме Рембрандта не прогибались под тяжестью фолиантов, то его коллекция рисунков и гравюр явно была огромна и отличалась высоким уровнем и разнообразием: от миниатюр эпохи Великих Моголов до величайших мастеров северной графики Луки Лейденского, Питера Брейгеля, Хендрика Гольциуса и Жака Калло[515]. Разумеется, были в его коллекции и работы Рубенса: пробные оттиски с гравированных версий его пейзажей, поправленные рукой фламандца, а также целый том портретных гравюр. Кроме того, в собрании Рембрандта были широко представлены итальянские мастера. Судя по инвентарной описи, на протяжении многих лет Рембрандт методично создавал свой собственный, максимально полный архив ренессансного искусства и потому имел доступ к практически полному корпусу произведений Микеланджело, Рафаэля и Тициана, выполненных в форме гравированных репродукций. В описи упомянута также «драгоценная книга» Мантеньи, в которой, видимо, были собраны его рисунки. Однако Рембрандт не остановился и на этом, ведь в разделе «современной» живописи его коллекции находились и работы всех троих Карраччи (включая печально известное «Сладострастие» Агостино) и Гвидо Рени.
Рембрандт ван Рейн. Набросок с портрета Бальдассаре Кастильоне работы Рафаэля. 1639. Бумага, перо, коричневые чернила, белила. Графическое собрание Альбертина, Вена
В конце 1630-х годов Рембрандт посещал амстердамские распродажи имущества очень и очень часто, со страстью увлеченного коллекционера. Подобная склонность обходилась ему недешево, но он ничего не мог с собой поделать. На аукционе, проходившем на Принсенграхт на протяжении трех недель в марте 1637 года, когда распродавалось наследство Яна Бассе, он приобрел с молотка пятьдесят лотов: гравюр, рисунков и раковин. В феврале 1638 года, во время следующей крупной аукционной распродажи, на сей раз коллекции купца, торговавшего с Россией, Гоммера Шпрангера в его доме на Флювеленбургвал, Рембрандту досталось еще тридцать два лота, в том числе произведения Дюрера, Гольциуса и Луки Лейденского, Полидоро да Караваджо и еще одно собрание редких раковин, до которых он явно был великий охотник. На аукционе он вполне мог столкнуться с ван Эйленбургом и с такими художниками, как Николас Элиас Пикеной и Клас Муйарт, и, видя в них потенциальных соперников, очевидно, стремился не уступить им вожделенные лоты. Впрочем, и он признавал, что всему есть предел и даже он не в состоянии себе кое-что позволить. Подобно собратьям-живописцам, Рембрандту зачастую приходилось довольствоваться недорогими предметами, доступными скромному покупателю на торгах, и приобретать всего за несколько гульденов небольшую папку гравюр. Однако по временам, когда на аукционе выставляли что-то совершенно уникальное, он поддавался искушению и готов был заплатить любую цену. Так, он отдал сто шесть гульденов, примерный эквивалент гонорара за портрет, за три гравюры работы Гольциуса и сто двадцать семь – за редкую гравюру Луки Лейденского, известную как «Уленшпигель», на которой, впрочем, изображено семейство нищих с совой[516].
Тициан. Мужской портрет (ранее считавшийся изображением Ариосто). Ок. 1512. Холст, масло. 81,2 66,3 см. Национальная галерея, Лондон
На аукционах Рембрандт соперничал не только со своими друзьями и коллегами-художниками, но и с утонченными и хорошо образованными коллекционерами из числа богатых купцов и патрициев. Случались торги, на которых особо изысканные и редкостные предметы продавались не за сотни, а за тысячи гульденов, и тогда Рембрандту оставалось лишь признать свое поражение и почувствовать себя в малоприятной роли изнемогающего от неутоленного желания зрителя. Так, на распродаже имущества Лукаса ван Уффелена в апреле 1639 года он лишь с бессильным разочарованием взирал, как знаменитый, прекрасный портрет Бальдассаре Кастильоне работы Рафаэля был продан за три с половиной тысячи гульденов. Рембрандт зарисовал этот недоступный лот, указав его цену и добавив, что вся коллекция ван Уффелена была продана за гигантскую сумму – пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят шесть гульденов. Купил ее португальский еврей Альфонсо Лопеш, который нажил состояние на торговле брильянтами, а кроме того, служил в Амстердаме поставщиком оружия для кардинала Ришелье. Завидуя более состоятельным соперникам, Рембрандт тем не менее удивился, а возможно, испытал досаду, когда его собрат по цеху Иоахим фон Зандрарт (которому вменялось в обязанность показывать Рубенсу Голландию во время визита великого фламандца на север в 1627 году) не смог предложить за портрет Бальдассаре Кастильоне более трех тысяч четырехсот гульденов и уступил его Лопешу! Не исключено, что Зандрарта наняли устроители, чтобы он искусственно взвинтил цену; подобная практика бытовала в те дни, иногда до таких уловок снисходил и сам Рембрандт, но точно мы этого никогда не узнаем.
Рембрандт ван Рейн. Автопортрет (Рембрандт, облокотившийся на каменный подоконник). 1639. Офорт, первое состояние. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк
Весьма вероятно, Рембрандт лично знал Лопеша и бывал в его роскошном доме на канале Сингел, известном под названием «Позолоченное солнце». В конце концов еще прежде, живя на Влоинбурге, Рембрандт познакомился со столь замечательными членами сефардской общины, как Эфраим Буэно и Менаше бен Исраэль, а кроме того, Лопеш слыл страстным собирателем индийского и восточного искусства, привлекавшего Рембрандта как ценителя и коллекционера. В таком случае он наверняка наведался к Лопесу посмотреть другой вызывающий зависть шедевр его коллекции, «Мужской портрет» кисти Тициана. В XVII веке принято было считать, что на нем изображен итальянский поэт Лудовико Ариосто, автор эпической поэмы «Неистовый Роланд», которая приобрела в Голландии немалую известность, после того как была переведена в 1615 году; она изобилует кровавыми сценами, театральными жестами и преувеличенными драматическими эффектами и потому не могла не понравиться Рембрандту.
Обе картины, которые он увидел одновременно, тотчас очаровали Рембрандта не только своим безусловным мастерством, но и тем, что обе они воздавали должное благородству искусства и художников. Портрет Кастильоне кисти Рафаэля считался не просто изображением автора «Придворного». Он был свидетельством дружбы и взаимного уважения, которое писатель и живописец питали друг к другу. В своих сочинениях Кастильоне постарался воздать хвалу художникам, и в частности превозносил Леонардо и Рафаэля наравне с выдающимися поэтами. Рафаэль сам писал стихи, а легендарная утонченность и нежность его стиля, по мнению современников, напоминали характерную манеру Петрарки[517]. Эти черты явственно различимы в портрете Кастильоне, служащем своеобразным подтверждением близости и сходства живописи и поэзии, а не выражением их отчаянного соперничества и стремления непременно превзойти друг друга[518]. Другие художники воспринимали портрет Кастильоне как доказательство того, что Рафаэль, признавая достоинства поэзии, отдает пальму первенства живописи; в том числе такого мнения придерживался Рубенс, который тщился «уравнять в правах» поэзию и живопись и избыть их давний спор и который написал копию портрета Кастильоне в Мантуе. На самом деле Рубенс был одним из немногих художников, которые могли отождествить себя с живописцем и одновременно с его моделью. В конце концов, Рафаэля сравнивали с Апеллесом еще и потому, что он с «непринужденным изяществом» держал себя в обществе принцев, а Рубенсу еще в юности пришлось воспитать в себе это свойство, и он, покрайней мере отчасти, научился ему, тщательно перечитывая книгу Кастильоне о приличествующем придворному поведении. Однако Рубенс знал также о тяжких дипломатических усилиях, которые Кастильоне вынужден был предпринимать по желанию своего повелителя, герцога Урбинского. В конце концов, безмерно устав, Кастильоне удалился в Мантую, где был гостеприимно принят герцогом Гонзага.
Рембрандт ван Рейн. Автопортрет в возрасте тридцати четырех лет. Ок. 1640. Холст, масло. 102 80 см. Национальная галерея, Лондон
Вторая картина, предполагаемый портрет Ариосто кисти Тициана, оказала еще более непосредственное влияние на ту манеру, в которой предпочел изображать себя Рембрандт. В данном случае опять-таки было известно, что поэт и живописец дружили, восхищались друг другом и никогда не соперничали. Их имена ассоциировались с придворной культурой (Ариосто был придворным поэтом семейства д’Эсте, герцогов Феррарских), однако ни Ариосто, ни Тициан никогда не пресмыкались перед своими покровителями. Поэтому в портрете кисти Тициана видели изображение поэта, собрата живописца, который, небрежно положив локоть на каменный парапет, воплощает не только высокое происхождение, но и ренессансную добродетель «непринужденного изящества». Повернувший торс вправо, а голову – непосредственно к созерцателю, Ариосто, по-видимому, являет собою другой важный элемент светского поведения: благожелательную доступность, умеряемую вежливой сдержанностью. С легкостью сочетая соответствие строгим нормам этикета и раскованность, портретируемый олицетворяет свойство, которое поклонники Тициана описывали словом «disinvoltura», то есть умение гармонично двигаться в пространстве, при этом ничем не напоминая неподвижную статую. Кажется, будто человек у каменного парапета на мгновение замер. Однако складки рубашки, сверкающий золотой шнур, стягивающий ворот на шее, блеск густых темных волос и не в последнюю очередь вздувшийся широкий рукав стеганого кафтана-джуббоне говорят об энергии и несокрушимой жизненной силе, о мощной грудной клетке, вздымающейся и опадающей под изящным одеянием.
Рембрандт не только восторгался двумя этими картинами из коллекции Лопеша, но и решил перевоплотиться в них. В 1631 году он уже преображался в Псевдо-Рубенса, присвоив автопортрет великого фламандца. Но столь очаровавший Рембрандта Рубенс, копируя Рафаэля и Кастильоне, уже впитал и растворил их в своей личности, личине и маске. Теперь, когда Рубенс находился при смерти, Рембрандт в свою очередь завладел личностью идеальных героев Высокого Возрождения: и моделей (придворного и поэта), и живописцев (Рафаэля и Тициана). Его эскиз с портрета Бальдассаре Кастильоне не ставит себе целью точно отразить оригинал. У Рембрандта «Кастильоне» слегка наклонил голову и заломил берет, ни дать ни взять юный повеса. Художник словно подбирает позу для своего автопортрета у каменного подоконника, где он предстанет в точно таком же, лихо заломленном, берете. Если локоть, слегка сдвинутый с парапета, явно заимствован у Тициана, то пышные, изящно распределенные складки на рукаве скорее обязаны своим появлением Рафаэлю. Впрочем, облачаясь в мантию гениев Возрождения, Рембрандт в своем автопортрете не проявляет чрезмерной почтительности. Его холодный взор и усмешка не имеют ничего общего с мягкостью черт на итальянских картинах. А расположившись на открытом воздухе, изобразив пучки травы, выросшей между каменными плитами, и собственные кудри, роскошной волной ниспадающие по спине, Рембрандт сознательно лишает себя самообладания и невозмутимости, свойственной классическим персонажам, и превращает себя скорее в некое подобие природной стихии.
Эта жизненная сила, нетерпеливая, порывистая и нервная, отчасти ощущается в «Автопортрете в возрасте тридцати четырех лет», который он напишет годом позднее, в 1640-м. Однако здесь она уже смиряется, уступая место уравновешенности, господствующей в его новом облике придворного, даже принца. Он наконец-то по-настоящему чувствует себя мастером, его положение неоспоримо. Рубенса больше нет в живых. Он сделает все возможное, чтобы не остаться в истории всего лишь Елисеем, преемником пророка Илии. Облаченный в роскошные одеяния по моде XVII века, с прорезными рукавами и отделанным мехом плащом, с золотой цепью на груди и еще одной – на берете, Рембрандт, бесспорный Апеллес Амстердамский, воплощает благородное самообладание. Его художественная манера отражает две великие ренессансные традиции, традицию «disegno» (рисунка) и «colore» (цвета), представленные соответственно Рафаэлем и Тицианом; Рембрандт сознательно объявляет себя наследником обеих. Вазари прославлял Рафаэля, поставив его выше скульпторов, ибо ему удалось удивительно передать в «Портрете папы Льва X» фактуру бархата, камчатного полотна, шелка, и в этом своем «Автопортрете» Рембрандт не упускает случая помериться силами с великим итальянцем, демонстрируя свое собственное несравненное мастерство в визуальной передаче ткани и меха. Однако вместе с тем тональное единство полотна, плавная манера письма и идеальное расположение фигуры в отведенном ей пространстве отчасти подтверждают его право дерзко именоваться наследником Тициана. Рембрандт прежде всего овладел приемом Тициана, позволявшим «оживлять» портретируемых, тщательно отбирая бесчисленные проницательно подмеченные детали. Так, например, Рембрандт проводит белой краской тонкую линию от уголка правого глаза, почти от переносицы, до нижнего края щеки. Эта линия одновременно очерчивает контур скулы и вместе с белым пятнышком на кончике носа придает коже портретируемого словно бы некую влажность, как будто модель покрылась легкой испариной в слишком тяжелых одеяниях. Портрет удивительным образом передает физическое присутствие Рембрандта благодаря целой палитре деталей: тени, которую край обшлага отбрасывает на тыльную сторону его ладони, крошечному пучку рыжеватых волосков на кончике левого уса, отчетливо загнувшемуся вверх на фоне более темных волос, его решению (принятому уже после того, как он завершил картину) изобразить себя с поднятым воротником, так чтобы нежные складки полотна вторили очертанию его челюсти, а накрахмаленная ткань словно представала чуть смятой: ее примял подбородок, когда Рембрандт поворачивал голову. Хотя детали облика модели, вплоть до шелковистого одеяния, напоминающего своим блеском оперение редкой птицы, и таких же «птичьих», поблескивающих глаз, художник подмечает с пристрастностью зоолога, возникающему на холсте созданию не грозит опасность показаться чучелом в руках таксидермиста.
Судя по рентгеновским снимкам, первоначально Рембрандт написал и левую руку, пальцы которой опирались на деревянный парапет. Затем он «записал» левую кисть, скрыв ее черным рукавом, и этим значительно улучшил эффект от картины, ведь теперь правая рука, с ее показанными в перспективном сокращении большим пальцем и костяшками, всецело доминировала на балюстраде, а широкий пышный рукав словно вторгался сквозь поверхность холста в пространство зрителя. Тем самым он усилил впечатление властности, создаваемое этим автопортретом в большей степени, чем всеми прежними, ведь ныне Рембрандт изображал себя как равного не только своим блестящим предшественникам, художникам эпохи Ренессанса, но и своим заказчикам и покровителям. За десять лет до этого Гюйгенс со смешанными чувствами заметил и в Ливенсе, и в Рембрандте некую самоуверенность, ощущение «природного» аристократизма. Ныне Рембрандт уже не тщился скрыть собственную надменность.
Тем не менее так заявить о себе в 1640 году означало обнаружить немалую долю безрассудства, ведь теперь его заказчики не просто происходили из состоятельных буржуазных семей, а принадлежали к цвету амстердамского общества. Существовала огромная разница между такими купцами, как Николас Рютс, склонный идти на неоправданный риск и неоднократно оказывавшийся на грани банкротства, и представителями великих плутократических династий: Трипами, де Граффами, Витсенами: состояние подобных семей исчислялось сотнями тысяч гульденов, они принадлежали к правящей элите города и считались настолько богатыми и могущественными, что могли принимать в своих домах иностранных принев. Эти патриции являлись позировать художнику не иначе как в сопровождении целой свиты служанок, секретарей и чернокожих пажей в атласе. Хотя, например, невозможно однозначно установить, кто изображен на «Портрете мужчины со шляпой в руках», написанном около 1640 года, роскошный костюм модели, а также тот факт, что художник отказался от обычной доски в пользу дорогой панели из красного дерева, свидетельствуют о том, что портретируемый либо принадлежал к этим слоям общества, либо стремился в них войти. Разумеется, великолепная тафта его кафтана, такой же тафтяной плащ, ниспадающий с плеч, обшитый по швам тисненой плетеной тесьмой, заставляют предположить, что это не обычный, заурядный бюргер, из тех, что позируют в простой черной шерсти.
Рембрандт ван Рейн. Портрет мужчины со шляпой в руках. Ок. 1639. Дерево, масло. 81,4 71,4 см. Коллекция Арманда Хаммера, Лос-Анджелес
В задачи Рембрандта – светского портретиста входило подражать не столько Рубенсу, сколько Ван Дейку, то есть воспевать уверенную, непринужденную элегантность этих молодых патрициев, делающих карьеру. Для этого он еще более усовершенствовал свое и без того впечатляющее мастерство в передаче фактуры тканей, добившись удивительного глянца, блеска и лоска, еще более полной и убедительной иллюзии, которая как нельзя более льстила самолюбию его моделей. На кончике его кисти лен, кружево и шелк уподоблялись своему владельцу, они оживали, ниспадали, кружились, вились, клубились, льнули, словно исполняя какой-то изящный медленный танец вдоль линий тела. Впрочем, в отличие от Ван Дейка и его аристократических персонажей, Рембрандту и «принцам» великих торговых династий приходилось остерегаться, как бы не пасть жертвой тщеславия, ведь они жили не в английских графствах и не в палладианских особняках, украшавших Лондон. В сороковые годы XVII века мотовство и пристрастие к роскоши высших классов, предпочитающих пышные наряды и свободные, не сдерживаемые головным убором локоны, синоды Кальвинистской церкви разоблачали особенно яростно. Поэтому, изо всех сил стараясь сделать великолепные детали костюма материальными, выпуклыми, осязаемыми, Рембрандт, вероятно, не забывал о том, что обязан передать общее впечатление скромности и сдержанности. Поэтому он и изображает шляпу. Персонаж держит ее обеими руками, и потому кажется, будто он замер на границе частной и публичной сферы (либо вот-вот выйдет из какого-то помещения, либо только что вошел), и безыскусность его жеста составляет привлекательный, почти домашний контраст к героическому блеску его костюма.
Рембрандт ван Рейн. Портрет Алейдт Адрианс. Дерево, масло. 64,7 55,3 см. Музей Бойманса ван Бёнингена, Роттердам
Некоторые из этих приемов Рембрандт использовал в сороковые годы, достигая максимального эффекта в портретах состоятельных заказчиков. Алейдт Адрианс была вдовой наиболее богатого и могущественного амстердамского предпринимателя, уроженца Дордрехта Элиаса Трипа, который во время непрекращающейся войны создал колоссальную международную сталелитейную и оружейную империю, охватывающую всю Европу. От Рембрандта требовалось запечатлеть истинное благочестие и скромность вдовы, так чтобы она показалась зрителю сошедшей со страниц одного из душеспасительных, морализаторских руководств Якоба Катса, посвященных «Возрастам женщины». При этом важно было передать подробности. Поэтому, подчеркивая старомодность наряда и старательно выписывая воротник фасона «мельничный жернов», непременный атрибут костюма добродетельной матроны, Рембрандт одновременно наслаждается передачей его фактуры, превращая в главную деталь портрета. Художник наделяет его столь безмятежной, глубокой, незапятнанной чистотой, что он словно освещает невзрачное худощавое лицо портретируемой, сообщая ему приглушенное сияние праведности.
Как полагалось вдове, занимающей столь высокое положение, Алейдт Адрианс жила в одном из наиболее импозантных домов на Херенграхт, где ее портрет, возможно, соседствовал с изображением ее дочери Марии Трип. Незамужняя девица, которой ко времени написания портрета было около двадцати лет, Мария запечатлена в наряде намного более роскошном, свидетельствующем, что его обладательница сознательно следует моде. Она облачена в платье с эффектным отложным воротником из многослойного, украшенного фестонами кружева, которое так и хочется потрогать. Однако Рембрандт демонстрирует здесь технику, которая не имеет ничего общего с рабским подражанием реальности. Напротив, мастерство, с которым Рембрандт передает трехмерное ощущение поверхности, уже обязано смелым прерывистым или широким мазкам, обильно наносимой краске. Гладкость и плавность исчезают, уступая место бурной энергии. Кроме того, Рембрандт все свободнее экспериментирует с цветом, создавая ровное золотистое сияние, исходящее от платья Марии Трип, легкими мазками и отдельными каплями серого, зеленого, оранжево-коричневого и охры. Тем не менее Рембрандт осознавал, что не должен представить ее всего-навсего пустой, расфранченной модницей. Согласно правилам плутократии, надлежало не преувеличивать, а преуменьшать, лишь намекая на статус, власть и богатство изображаемого. На портрете Мария Трип стоит под классической аркой, свидетельствующей о ее патрицианском происхождении. Однако лицо ее столь же безыскусно, сколь пышны и роскошны одежды. Она демонстрирует свое состояние, но истинное ее золото – добродетель. Пусть она носит драгоценный убор и изысканные вышивки, на самом-то деле она – дочь своей матери, достойная христианская девица.
Рембрандт ван Рейн. Портрет Марии Трип. 1639. Дерево, масло. 107 82 см. Рейксмюзеум, Амстердам
Рембрандт ван Рейн. Портрет Николаса ван Бамбека. 1641. Холст, масло. 105,5 84 см. Королевские музеи изящных искусств, Брюссель
Рембрандт ван Рейн. Портрет Агаты Бас. 1641. Холст, масло. 105,2 83,9 см. Букингемский дворец, королевская коллекция, Лондон
Как же заставить этих людей ожить, как заставить их двигаться, если они хотят лишь величественно восседать на портретах в креслах с жесткими спинками или с важным видом замереть, не спуская властного взора с живописца? Рембрандт поневоле стал все чаще экспериментировать с различными типами рам, которые позволяли не заключать персонажа в условном пространстве картины, а создать иллюзию проникновения персонажа из двухмерного визуального мира в реальное пространство созерцателя. Разумеется, не он изобрел подобные оптические иллюзии. В ренессансной портретной живописи этот прием стал расхожей банальностью, а в Нидерландах, добиваясь блестящего эффекта, к нему прибегали Геррит Питерс Свелинк (в портрете брата, композитора и органиста Яна Питерса Свелинка), Вернер ван ден Валкерт и Франс Хальс[519]. Однако большинство предшественников Рембрандта помещали персонажей в окне или в нише, на балконе или за балюстрадой, откуда те и пытались перейти в реальный мир. Рембрандт выводит этот процесс на качественно иной уровень, он отказывается рассматривать раму картины как нерушимый объект вне изображения и перемещает ее в пространство картины. Вместо того чтобы служить ясно различимой границей между осязаемым миром зрителя и миром образов, рама, сбивая нас с толку, превращается в исчезающий у нас на глазах, вроде зеркала Алисы, порог, который не без испуга могут пересечь и созерцатель, и созерцаемый[520].
Рембрандт ван Рейн. Портрет Германа Домера. 1640. Дерево, масло. 75,2 55,2 см. Музей Метрополитен, Нью-Йорк
Рембрандт уже прибегал к подобному приему с целью разрушения границ между реальным и визуальным миром, «положив» руку Алейдт Адрианс на нижний край картины. Однако это была всего лишь несколько неловкая «проба кисти» по сравнению с парными портретами супружеской четы – Николаса ван Бамбека и Агаты Бас. Бамбек был довольно состоятельным торговцем сукном, продававшим преимущественно испанскую шерсть, он тоже жил на Брестрат и мог познакомиться с Рембрандтом в 1640 год, когда они оба в очередной раз ссужали деньги ван Эйленбургу. Впрочем, его жена происходила из совершенно иного слоя общества: она была старшей дочерью Дирка Баса, одного из самых влиятельных политиков среди членов городского совета Амстердама, неоднократно избиравшегося бургомистром, членом правления Ост-Индской компании. В 1634 году Бас заказал семейный портрет Дирку Сандворту, и тот в сухой, торжественной манере изобразил все семейство с семерыми детьми, поневоле избрав горизонтально ориентированный, сильно удлиненный, наподобие фриза, формат; бледная, бескровная Агата на этой картине послушно стоит рядом с матерью. Исключительное положение клана Басов в верхних эшелонах власти создавало Рембрандту некоторые проблемы: каким-то образом уравновесить демонстрацию роскоши и сдержанность в портретах этой супружеской четы было еще сложнее, чем обычно. Наделять властью следовало супруга, однако блестящее происхождение Агаты Бас требовало, чтобы она показывала зрителю свое состояние и высокий статус, при этом не переставая играть роль покорной жены.
Рембрандт ван Рейн. Портрет Германа Домера (фрагмент)
Как всегда, Рембрандт нашел прекрасный выход. Взяв за образец Ариосто с картины Тициана, он «положил» правую руку ван Бамбека на опору, но вместо каменной стены или деревянной балюстрады избрал для этого саму раму картины. Перчатка, которую тот сжимает в руке, традиционный символ супружеской верности, виднеется над краем рамы, а пальцы, которые Рембрандт «записал» на своем собственном автопортрете, возлежат на раме, как будто ван Бамбек вот-вот взмахнет рукой, приветствуя приятеля, зашедшего в гости. Ван Бамбек находится в пределах ограниченного рамой пространства, однако за его спиной различима еще одна деревянная дверь, и потому у зрителя возникает ощущение, что ван Бамбек стремится предстать не просто хозяином дома, но хозяином гостеприимным и радушным.
То же впечатление, что персонаж находится на границе домашнего и публичного пространства, оставляет и портрет его жены, одно из безусловных достижений Рембрандта и свидетельство его небывалого мастерства. Подобно Марии Трип, Агата Бас взирает прямо на созерцателя, не отворачиваясь, словно отказываясь от жеманного притворства в пользу обезоруживающей откровенности. Она нехороша собой, но необычайно изысканна и нарядна. Ее платье отличается театральной роскошью, вытканные золотом цветы ее корсажа сверкают на фоне белого шелка, черных перекрещивающихся шнуров лифа и узорного черного атласа. Увы, ее лицо со слабым подбородком и длинным носом проигрывает великолепию наряда. Однако художник направляет на ее невзрачные черты лучи трепещущего света, проходящие сквозь филигранно выписанные пряди ее тонких волос и создающие игру нежных теней и полутеней. Молочно-бледное лицо Агаты перестает восприниматься как досадное недоразумение и превращается в олицетворение безыскусности и бесхитростности, качеств, которые непритязательно и незаметно заставляют забыть о ее богатстве. Ее руки, как и руки ее мужа, Рембрандт помещает вне пределов рамы, они тоже призваны продемонстрировать одновременно ее скромность и ее высокий статус. Золотисто-синий веер, ярко освещенный, даже сияющий вверху и затененный ниже, открыт, словно хвост павлина. Однако он выполняет функцию создания декорума и не позволяет зрителю фамильярно разглядывать изображенную, отчасти скрывая ее от взоров. Еще сильнее приковывает внимание большой палец ее левой руки, которым она держится за раму картины и каждый сустав которого Рембрандт тщательно выписал и оттенил, тогда как ее левая кисть остается в скрытом от взоров пространстве, одновременно за краем картины и вне ее пределов. Этот плоский, толстый большой палец – одно из самых удивительных художественных достижений Рембрандта, ведь он, во всей его убедительной осязаемости, таинственным образом делает свою обладательницу трехмерной, присутствующей во плоти в некоем загадочном месте на границе действительности и вымысла, реальности и иллюзии.
Возможно, на игры с рамами Рембрандта вдохновило знакомство с настоящим изготовителем рам, Германом Домером, портрет которого он написал в 1640 году вместе с портретом его жены Бартье Мартенс. Домер родился в Германии, но в 1611 году переехал в Амстердам, где стал вырезать рамы для картин из твердого черного дерева, а также из китового уса, «крашенные под эбеновое дерево», служившие более дешевой заменой первым. Вероятно, он нажил немалое состояние, но едва ли мог сравниться с богачами, которые в большинстве заказывали картины Рембрандту в 1640-е годы. Впрочем, Рембрандт взял к себе в ученики сына Домера Ламберта, и потому нельзя исключать, что он написал парные портреты четы в знак дружеского расположения. Когда Бартье, пережив супруга на двадцать восемь лет, составляла завещание, то особо оговорила, что эти картины должны остаться у членов их семьи, а безыскусность и прямодушие, свойственные изображенным на портретах, свидетельствуют о теплых отношениях, связывавших художника и его моделей.
Однако Рембрандт не был бы Рембрандтом, если бы избегал скрытых смыслов и визуальных аллюзий, в особенности в портрете Домера. Ведь, подчеркивая скромность и непритязательность костюма и поведения заказчика, возможно по его желанию, Рембрандт тем не менее изобразил его в той же позе, что и себя самого на автопортрете, навеянном Тицианом. Так Домер оказывается в изысканной компании, и это тем более ему пристало, что он и не помышлял войти в столь утонченное общество. И разумеется, Рембрандт умеет придать величие даже самому смиренному персонажу. В целом лицо Домера написано ровными мазками, краска наложена тонким, почти прозрачным слоем, каждая морщинка в уголках его глаз или под глазами, каждый пучок тонких неприглаженных волос в бороде изображены необычайно тщательно и сочувственно. Однако, дойдя до воротника, Рембрандт совершает нечто фантастическое: окунув кисть в краску и обильно увлажнив, он густой липкой массой прорисовывает слои ткани на нижнем крае воротника и, «расплющив» кисть, «пронзает» отдельными ее волосками влажный пигмент, чтобы передать мягкие складки и изящную отделку присборенного полотна.
Ни один современник не мог сравниться с Рембрандтом в умении инстинктивно наделять драматизмом, казалось бы, примитивный сюжет, нисколько не повредив доброму имени изображенного. И это нигде не удалось ему лучше, чем в двойном портрете меннонитского проповедника из мирян Корнелиса Класа Ансло и его жены. Торговец сукном и судовладелец, он неоднократно переезжал, с каждым разом выбирая все более фешенебельный квартал, пока наконец не поселился в новом доме на Аудезейдс-Ахтербургвал, который был выстроен специально для него в 1641 году. У Ансло нашлись средства, чтобы заплатить гигантские долги одного из своих сыновей, едва ли образцового меннонита, – шестьдесят тысяч гульденов, однако после смерти в 1646 году он тем не менее оставил близким круглое состояние в восемьдесят тысяч. Меховая оторочка на верхнем платье его и его жены призвана напомнить об этом богатстве, впрочем очень сдержанно, как полагается меннонитам, не склонным к показной роскоши.
Двойной портрет, без сомнения, предназначался для нового дома. Однако он задумывался как прославление не богатства Ансло, а его благочестия, в особенности славы, которую он снискал как проповедник церкви Гроте-Спейкер ватерландских меннонитов, наиболее почитающих Священное Писание и приверженных его дословному толкованию. Одновременно Ансло потребовал гравированный одиночный портрет, чтобы впоследствии раздавать его пастве, и Рембрандт представил заказчику для одобрения рисунок-«modello», на котором проповедник был изображен за столом, с пером в перстах (ведь он, помимо прочего, был еще и автором богословских трактатов), положившим правую руку на страницы книги, а левой рукой многозначительно указывающим на другую книгу, возможно Библию. Этот рисунок был перенесен на офортную доску с двумя важными изменениями, которые, вероятно, предложил сам Ансло. На офорте виднеется гвоздь, вбитый в голую стену, а под ним – картина с полукруглым завершением, очевидно снятая с гвоздя и повернутая лицом к стене.
Рембрандт ван Рейн. Портрет Корнелиса Класа Ансло. 1640. Бумага, итальянский карандаш, перо, кисть коричневым тоном. Лувр, Париж