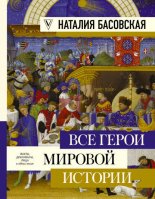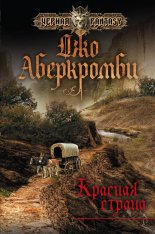Американха Адичи Чимаманда

— У меня тесные туфли.
— Танцевать можно и в тесных туфлях, — сказала Ифемелу.
Мальчишки подошли. Обинзе чересчур наряден — в толстом вельветовом пиджаке, а на Кайоде футболка и джинсы.
— Эй, девчонки! — сказал Кайоде. Он был высокий и поджарый, с непринужденными манерами привилегированного. — Гиника, знакомься, это мой друг Обинзе. Зед, это Гиника, королева, которую Бог сотворил для тебя, если ты готов за это потрудиться! — Он ухмыльнулся, уже слегка пьяный, — золотой мальчик, творящий золотую пару.
— Привет, — сказал Обинзе Гинике.
— Это Ифемелу, — сказал Кайоде, — также известная как Ифемско. Подручная Гиники. Будешь плохо себя вести — она тебя выпорет.
Все рассмеялись, как по команде.
— Привет, — сказал Обинзе. Встретился взглядом с Ифемелу и не отвел его, удержал.
Кайоде светски трепался, рассказывая Обинзе, что родители Гиники — тоже университетская профессура.
— Короче, вы оба — книжная публика, — сказал Кайоде. Обинзе пора было уже взять беседу на себя и заговорить с Гиникой, и Кайоде бы отвалил, Ифемелу — следом, и воля богов свершилась бы. Но Обинзе почти ничего не говорил, и Кайоде пришлось тащить разговор на себе, голос у него делался все бойчее, он время от времени поглядывал на Обинзе, словно понукая его. Ифемелу не уловила, когда это произошло, но, пока Кайоде говорил, произошло все же что-то странное. Что-то внутри нее зародилось, затлело. Она осознала — вполне внезапно, — что хочет дышать с Обинзе одним воздухом. Остро осознала она и прочее, в тот самый миг: голос Тони Брэкстон из кассетника — «быстро или нет, оно не отпускает, трясет»,[45] — запах оставленного отцом Кайоде бренди, украдкой вынесенного из главного дома, тугая белая сорочка трет ей под мышками. Тетя Уджу заставила завязать ее рыхлым бантом на уровне пупа, и Ифемелу размышляла, действительно это стильно или же смотрится глупо.
Музыка резко прервалась. Кайоде сказал:
— Иду-иду. — И умчал выяснять, что случилось, и в возникшей тишине Гиника теребила металлический браслет на запястье.
Обинзе вновь поймал взгляд Ифемелу.
— Тебе в этом пиджаке не жарко? — спросила она. Вопрос выскочил прежде, чем она успела остановить себя, — уж так она привыкла затачивать слова, наблюдать страх в глазах мальчишек. Но он улыбался. Ему было весело. Он ее не боялся.
— Очень жарко, — ответил он. — Но я сельский пентюх, и это моя первая городская гулянка, уж прости. — Он медленно стянул с себя пиджак, зеленый, с заплатками на локтях, а под ним оказалась рубашка с длинным рукавом. — Теперь придется таскать его с собой.
— Могу подержать, — предложила Гиника. — И не обращай внимания на Ифем, нормально и в пиджаке.
— Спасибо, ничего страшного. Сам буду носить, в наказание за то, что вообще его надел. — Он поглядел на Ифемелу, в глазах — искра.
— Я не в том смысле, — сказала Ифемелу. — Просто тут так жарко, а пиджак на вид тяжелый.
— Мне нравится твой голос, — сказал он, едва не перебив ее.
Ифемелу никогда не терялась — прокаркала:
— Мой голос?
— Да.
Музыка заиграла опять.
— Потанцуем? — спросил он.
Она кивнула.
Он взял ее за руку и улыбнулся Гинике, словно милой дуэнье, чей долг исполнен. Ифемелу считала, что любовные романы «Миллза и Буна»[46] — глупые, они с подругами, бывало, разыгрывали сценки оттуда: Ифемелу или Раньинудо изображали мужчину, а Гиника или Прийе — женщину, мужчина хватал женщину, женщина вяло сопротивлялась, а затем падала ему на грудь с пронзительными стонами, после чего все ржали. Но на оживлявшемся танцполе у Кайоде ее вдруг пронзило маленькой правдой этих романов. И впрямь все так, потому что из-за мужчины живот напрягается и узел в нем не желает расслабляться, все суставы в теле разбалтываются, конечности отказываются двигаться в такт музыке, а все, что обычно не требует усилий, вдруг делается свинцовым. Одеревенело двигаясь, Ифемелу видела краем глаза, как Гиника наблюдает за ними растерянно, рот чуть приоткрыт, будто она не до конца верит в происходящее.
— Ты сказал вот прям «сельский пентюх», — проговорила Ифемелу, перекрикивая музыку.
— Что?
— Никто так не говорит — «сельский пентюх». Так только в книжках пишут.
— Расскажи мне, какие книжки ты читаешь, — отозвался он.
Он ее подначивал, а она не уловила шутку, однако все равно посмеялась. Потом-то она пожалела, что не запомнила каждое слово, сказанное ими друг другу, пока танцевали. Она запомнила лишь, что ее несло. Когда погасили свет и начался блюзовый танец, она хотела оказаться где-нибудь в темном углу у него в объятиях, но он сказал:
— Пойдем наружу, поболтаем.
Они сели на бетонные блоки за гостевым флигелем, рядом с чем-то похожим на туалет привратника — узким сарайчиком, откуда ветер доносил застойную вонь. Они говорили и говорили, жадно узнавая друг друга. Он рассказал, что отец у него умер, когда ему было семь, и он отчетливо помнит, как отец учил его кататься на трехколесном велосипеде на трехрядной улице рядом с их домом в студгородке, но иногда с ужасом понимал, что не в силах вспомнить отцово лицо, и как его переполняло ощущение предательства, и как он бросался всматриваться в фотографию в рамке на стене у них в гостиной.
— Твоя мама никогда не хотела снова замуж?
— Даже если б хотела, вряд ли пошла бы — из-за меня. Я хочу, чтобы она была счастлива, но не чтобы повторно выходила замуж.
— Я бы тоже этого хотела. А она правда подралась с другим преподавателем?
— Ты, значит, слышала эту байку.
— Говорят, ей поэтому пришлось уйти из Нсуккского университета.
— Нет, не дралась она. Она состояла в комиссии, и они выяснили, что тот профессор злоупотреблял фондами, и моя мама публично его обвинила, он рассердился, ударил ее и сказал, что не потерпит, чтобы с ним женщина так разговаривала. Ну, моя мама встала, заперла дверь в зале заседаний и спрятала ключ у себя в лифчике. Сказала ему, что бить его не может, потому что он сильнее, но ему придется перед ней извиниться публично, при всех, кто видел, как он ее ударил. И он извинился. Но она понимала, что он не от души. Она сказала, что он извинился типа «ну ладно, извините, если вам так хочется, давайте ключ». Она в тот день вернулась домой злая не на шутку и говорила, как все изменилось и что это значит, раз теперь кто-то может просто взять и стукнуть другого человека. Она писала об этом служебные записки и статьи, и студсоюз в это втянулся. Люди говорили, дескать, как он мог ее ударить, она же вдова, и это ее раздражало еще больше. Она говорила, бить ее нельзя, потому что она полноценный человек, а не потому, что у нее нет мужа, чтоб за нее постоял. Некоторые ее студентки заказали себе футболки с надписью «Полноценный человек». Похоже, это ее прославило. Она обычно очень тихая, и друзей у нее немного.
— И она поэтому приехала в Лагос?
— Нет. Она планировала этот академический отпуск уже давно. Помню, первый раз она мне сказала, что мы на пару лет уедем, и я встал на уши — подумал, что мы в Америку, но потом она сказала, что поедем в Лагос, и я спросил: в чем смысл? С тем же успехом можно остаться и в Нсукке.
Ифемелу рассмеялась.
— Но хоть можно прилететь сюда на самолете из Нсукки.
— Да, но мы приехали по земле, — отозвался Обинзе, смеясь. — Зато теперь я счастлив, что мама выбрала Лагос, иначе мы бы с тобой не встретились.
— Или с Гиникой, — подначила она.
— Перестань.
— Твои пацаны тебя убьют. Тебе положено бегать за ней.
— Я бегаю за тобой.
Этот миг она запомнит навсегда — эти слова. Я бегаю за тобой.
— Я тебя недавно в школе видел. Даже спрашивал Кая о тебе, — сказал он.
— Что, правда?
— Видел тебя с Джеймзом Хедли Чейзом, у лаборатории. И сказал, во, точно, есть надежда. Она читает.
— Кажется, я их все читала.
— Я тоже. Какой у тебя любимый?
— «Мисс Шамвей машет волшебной палочкой».
— А у меня — «Хотите остаться в живых?».[47] Я однажды всю ночь не спал, лишь бы дочитать.
— Да, этот мне тоже нравится.
— А другие книги? Тебе какая классика нравится?
— Классика, ква?[48] Мне нравятся только детективы и остросюжетка. Шелдон, Ладлэм, Арчер.
— Но и настоящие книги тоже читать надо.
Она глянула на него, его пыл ее позабавил.
— Ну ты и масложуй![49] Университетская цаца! Вот чему тебя мамаша-профессорша учит.
— Я серьезно. — Он умолк. — Я тебе дам попробовать. Мне американцы нравятся.
— Но и настоящие книги тоже читать надо, — передразнила она.
— А поэзия тебе как?
— Какое мы там последнее в классе разбирали? «Старый мореход»?[50] Скукотища.
Обинзе рассмеялся, и Ифемелу, не увлекшись темой поэзии, спросила:
— И что же Кайоде тебе сказал про меня?
— Ничего плохого. Ты ему нравишься.
— Не хочешь говорить, что он сказал.
— Он сказал: «Ифемелу — клевая девчонка, но с ней хлопот не оберешься. Она умеет спорить. Говорить умеет. Никогда не соглашается. А вот Гиника — просто милая девочка». — Он примолк, а затем добавил: — Он не знал, что именно я надеялся услышать. Мне девчонки, которые слишком милые, неинтересны.
— А, а! Ты меня оскорбляешь? — Ифемелу толкнула его в притворном негодовании. Ей всегда нравился собственный образ «хлопот не оберешься», образ не такой, как все, и иногда он представлялся ей панцирем, под которым безопасно.
— Сама понимаешь же, что я тебя не оскорбляю. — Он обнял ее за плечи и мягко притянул к себе, их тела впервые соприкоснулись, и она ощутила, как деревенеет. — Я думал, ты такая отличная, но дело не только в этом. Ты похожа на человека, который будет делать что-нибудь, только если сам хочет, а не потому что кто-то так делает.
Она оперлась головой о его голову и почувствовала — впервые — то, что часто будет с ним чувствовать: любовь к себе. Из-за него она себе нравилась. С ним ей было легко, словно ее кожа становилась ей по размеру. Она сказала ему, как хотела бы, чтобы Бог существовал, но боялась, что Его нет, как тревожилась о том, что ей пора понимать, чем заниматься в жизни, но пока не понимала даже, что хочет изучать в университете. Говорить с ним о странном представлялось таким естественным. Раньше так никогда не было. Ее пугало доверие, такое внезапное и при этом такое полное, — и близость. Всего несколько часов назад они друг о друге не знали совсем ничего, и все же было меж ними в те мгновения перед танцем некое знание, и сейчас ей в голову лезло только то, что она хочет ему рассказать, сделать с ним вместе. Похожие черты их жизней — добрый знак: они оба — единственные дети в семье, между днями их рождений всего двое суток, городки, где они родились, в штате Анамбра. Он из Аббы, она — из Умунначи, а сами города в нескольких минутах друг от друга.
— А, а! Один мой дядя постоянно к вам в деревню ездит! — сказал он ей. — Я там с ним был несколько раз. У вас там жуткие дороги.
— Я знаю Аббу. Там дороги хуже некуда.
— Ты в свою деревню часто ездишь?
— Каждое Рождество.
— Всего раз в год! Я с мамой часто езжу, по крайней мере пять раз в год.
— Зато я лучше на игбо говорю, чем ты, спорим?
— Быть того не может, — сказал он и перешел на игбо: — Ама м ату ину. Я даже поговорки знаю.
— Да. Основные-то всем известны. Лягушка после обеда просто так не запрыгает.
— Нет. Я и серьезные знаю. Акота ифе ка уби, э леэ оба. Коли выкопали шире фермы, амбар продан.
— Ха, ты меня проверяешь, что ли? — переспросила она, смеясь. Ачо афу ади ако н’акпа дибиа. Чего только нет в мешке у шамана.
— Неплохо, — отозвался он. — Э гбуо дике н’огу уно, е луо на огу агу, э лоте я. Если убил воина в домашней драке, вспомнишь его, когда на врага пойдешь.
Они поперебрасывались поговорками. Она вспомнила еще две и сдалась, а он все рвался вперед.
— Откуда ты все это знаешь? — спросила она, под большим впечатлением. — Многие ребята и на игбо-то не говорят, какое там поговорки.
— Я просто слушаю, когда дядья разговаривают. Думаю, отец бы одобрил.
Помолчали. Из гостевого флигеля, где собрались пацаны, плыл сигаретный дым. В воздухе висел шум вечеринки: громкая музыка, надсадные голоса, высокий смех ребят и девчонок, все куда расслабленнее и свободнее, чем будут назавтра.
— Мы не поцелуемся разве? — спросила она.
Он с виду оторопел.
— А это еще с чего?
— Просто спросила. Мы тут же давно сидим.
— Я не хочу, чтобы ты считала, будто мне только этого и надо.
— А как же то, чего я хочу?
— А чего ты хочешь?
— Сам-то как думаешь?
— Мой пиджак?
Она рассмеялась:
— Да, твой знаменитый пиджак.
— Ты меня смущаешь, — сказал он.
— Ты серьезно? Это ты смущаешь меня.
— Вряд ли что-то способно тебя смутить, — сказал он.
Они поцеловались, прижавшись лбами, держась за руки. Поцелуй его был упоителен, едва ли не головокружителен, совсем не как у ее бывшего дружка Мофе, у которого поцелуи, по ее мнению, были слишком слюнявые.
Когда она через несколько недель рассказала об этом Обинзе — «Где ты так целоваться научился? Совсем другое дело, не то что слюнявая возня с моим бывшим», — он расхохотался и повторил ее слова «слюнявая возня!», а затем объяснил, что дело не в методе, а в чувстве. Он делал то же самое, что и ее бывший, но разница в данном случае — в любви.
— Ты же понимаешь, что это была любовь с первого взгляда, для нас обоих, — сказал он.
— Для нас обоих? Навязываешься? Чего это ты говоришь за меня?
— Я просто объявляю факт. Перестань бузить.
Они сидели рядышком на парте на задах в его почти пустом классе. Задребезжал расстроенный звонок конца переменки.
— Да, это факт, — согласилась она.
— Что?
— Я тебя люблю. — Как легко эти слова выскочили, как громко. Она хотела, чтобы он слышал, — и чтобы слышал мальчишка, сидевший впереди, очкастый, задумчивый, и чтобы слышали девицы в коридоре у класса.
— Факт, — сказал Обинзе с улыбкой.
Из-за нее он вступил в дискуссионный клуб, а когда она заканчивала выступать, хлопал громче и дольше всех, пока друзья не говорили ему: «Обинзе, ну хватит уже». Из-за него она вступила в спортивную секцию и, сидя на трибуне с его бутылочкой воды, смотрела, как он играет в футбол. Но любил он настольный теннис, потел и вопил за игрой, блестел от энергии, лупил по белому шарику, а она любовалась его мастерством, как он вставал вроде бы далеко от стола и все же ухитрялся дотянуться до шарика. Он уже был непобедимым чемпионом школы — как и в предыдущей школе, по его словам. Когда она играла с ним, он смеялся и приговаривал: «Если бить по шарику со злостью, не выиграешь-о!» Из-за нее друзья стали звать Обинзе «женская шаль». Однажды они с друзьями болтали о встрече после школы — поиграть в футбол, и кто-то сказал: «А Ифемелу тебе разрешила?» И Обинзе тут же ответил: «Да, но сказала, что у меня всего час». Ей нравилось, как смело он ни от кого не прячет их отношения, носит их на себе, как яркую рубашку. Иногда она боялась, что слишком счастлива. Погружалась в угрюмость, огрызалась на Обинзе или отдалялась от него. И ее радость металась в ней, хлопала крыльями внутри, словно ища, как бы вылететь наружу.
Глава 5
После вечеринки у Кайоде между Ифемелу и Гиникой все стало натянуто, возникла непривычная неловкость.
— Ты же понимаешь, я не знала, что оно вот так сложится, — говорила ей Ифемелу.
— Ифем, он смотрел на тебя с самого начала, — сказала Гиника и, показывая, что ей не обидно, подначила Ифемелу — дескать, вот, увела у меня парня без всяких усилий. Ее живость была напускной, чрезмерной, и Ифемелу обременило виной — и желанием возместить сторицей. Неправильно это вроде бы: близкой подруге Гинике, пригожей, приятной, любимой всеми Гинике, с которой никаких ссор, пришлось снизойти и изображать, что ей все равно, хотя, когда б речь ни заходила об Обинзе, в ее тоне сквозила обида. «Ифем, у тебя на нас время-то найдется? Или сплошной Обинзе?» — спрашивала она.
И вот, когда однажды Гиника явилась в школу с темными кругами под покрасневшими глазами и сказала: «Папуля объявил, что мы в следующем месяце уезжаем в Америку», Ифемелу чуть не вздохнула с облегчением. Она будет скучать по своей подруге, но отъезд Гиники вынудил обеих отжать их дружбу насухо и выложить, освеженную, на солнышко, вернуться к тому, как оно прежде бывало.
Родители Гиники уже некоторое время обсуждали, как уйдут из университета и начнут все заново в Америке. Однажды, навещая Гинику у нее дома, Ифемелу услышала слова ее отца:
— Мы не бараны. Этот режим обращается с нами как с баранами, и мы уже ведем себя, словно мы стадо. Я уже много лет не могу заняться никаким серьезным исследованием, потому что каждый день организую забастовки и вещаю о невыплаченных зарплатах, а в классах даже мела нет. — Он был низкорослый и темный, а рядом с крупной пепельновласой мамой Гиники смотрелся еще мельче и темнее, нерешительнее, словно колебался, что же выбрать.
Когда Ифемелу доложила родителям, что семья Гиники наконец уезжает, отец вздохнул и сказал:
— Им повезло, хоть такой выбор есть.
А мама добавила:
— Благословенны они.
Но Гиника ныла и плакала, воображая картины печальной жизни в чужой Америке, без друзей.
— Лучше б я тут с вами жила, а они пусть едут, — сказала она Ифемелу. Они все собрались дома у Гиники — Ифемелу, Раньинудо, Прийе и Точи — и сидели у нее в спальне, копаясь в одежде, которую Гиника с собой не брала.
— Ты, Гиника, главное, нос не задирай, когда вернешься, — сказала Прийе.
— Она вернется и будет серьезной американхой, как Биси, — сказала Раньинудо.
Все заржали — над словом «американха», пропитанным ехидством, надставленным против правил, и над Биси, девчонкой на класс младше. Та из короткой поездки в Америку вернулась со странным акцентом, делала вид, что больше не понимает йоруба, и принялась добавлять в конце любого английского слова смазанное «р».
— Ну, Гиника, серьезно, я бы что угодно отдала, лишь бы на твоем месте оказаться, — сказала Прийе. — Не понимаю, чего ты не хочешь ехать. Всегда же сможешь вернуться.
В школе все вились вокруг Гиники. Все хотели сходить с ней в буфет, повидаться после занятий, словно ее грядущий отъезд сделал ее еще более желанной. Ифемелу с Гиникой ошивались на переменке в коридоре, к ним прибились Большие Пацаны — Кайоде, Обинзе, Ахмед, Эменике и Осахон.
— Гиника, а куда именно в Америке ты едешь? — спросил Эменике. Он благоговел перед людьми, уезжавшими за рубеж. После того как Кайоде вернулся с родителями из поездки в Швейцарию, Эменике склонился перед ним — потрогать ботинки Кайоде, и проговорил: «Хочу к ним прикоснуться — они ходили по снегу».
— В Миссури, — сказала Гиника. — Отец нашел там работу.
— Твоя мать — американка, аби?[51] У тебя, значит, американский паспорт?
— Да. Но мы туда не ездили с моего третьего класса.
— Американский паспорт — крутейшая штука, — сказал Кайоде. — Я бы хоть завтра свой британский на него обменял.
— Я б тоже, — сказала Йинка.
— Мне он чуть не достался-о, — сказал Обинзе. — Мне восемь месяцев было, когда родители свозили меня в Америку. Я все повторяю маме, что надо было ехать раньше и рожать меня там!
— Невезука, чувак, — сказал Кайоде.
— А у меня нет паспорта. Мы когда последний раз ездили, я к матери в паспорт был вписан, — сказал Ахмед.
— Я у матери в паспорте значился до третьего класса, когда отец сказал, что пора нам уже отдельные паспорта, — сказал Осахон.
— А я за рубеж вообще не выезжал, но отец обещал меня в университет отправить за границу. Подать бы прямо сейчас на визу, не дожидаясь, пока школу окончу, — сказал Эменике. Следом воцарилась полная тишина.
— Не бросай нас сейчас, погоди до окончания, — произнесла наконец Йинка, и они с Кайоде прыснули. Остальные тоже расхохотались, даже сам Эменике, но было за этим смехом колючее эхо. Они знали, что он врет: Эменике сочинял байки про своих богатых родителей, которых, всем известно, у него не было, — он совершенно утонул в нужде изобретать себе не свою жизнь. Разговор заглох, переключился на учителя математики, не знавшего, как решать системы уравнений.
Обинзе взял Ифемелу за руку, и они тихонько оставили компанию. Они это проделывали часто — незаметно уходили от друзей, садились в уголке в библиотеке или отправлялись гулять на улицу, за лаборатории. Они шли, и Ифемелу хотелось рассказать Обинзе, что она не понимает, как это — «вписан в паспорт к матери», что у ее матери и паспорта не было. Но Ифемелу ничего не сказала, шла рядом молча. Он в этой школе устроился даже лучше, чем она. Она была популярна, всегда во всех вечериночных списках, и на собраниях ее всегда называли в числе «первых трех» учеников у них в классе, и все же Ифемелу чувствовала, что окутана прозрачной дымкой чужеродности. Ее бы тут не было, если бы она не сдала так здорово вступительные экзамены, если бы ее отец не был упорно настроен отдать ее в школу, где «укрепляется и характер, и будущее». В начальной школе все было по-другому, полно детей вроде нее, чьи родители — учителя и госслужащие, ездившие на автобусе, и никаких шоферов в тех семьях не было. Ифемелу вспомнила удивление на лице Обинзе — удивление, которое он быстро скрыл, когда спросил: «Какой у тебя номер телефона?» — а Ифемелу ответила: «У нас нет телефона».
Сейчас он нежно сжимал ее руку. Восхищался ее прямолинейностью и тем, что она не такая, как все, но глубже увидеть, кажется, не мог. Находиться среди людей, ездивших за рубеж, для него было естественным. Обинзе свободно владел знаниями о всяких заграничных штуках, особенно американских. Все тут смотрели американские фильмы и обменивались выцветшими американскими журналами, а он знал подробности жизней американских президентов столетней давности. Все смотрели американские сериалы, а он знал, что Лиза Боне уходит из «Шоу Козби» и будет сниматься в «Сердце ангела», и о том, что у Уилла Смита были громадные долги, прежде чем тот согласился сниматься в «Новоявленном принце Бель-Эйра».[52] «Ты смотришься черной американкой» — таков был его высший комплимент, каким Обинзе одарил Ифемелу, когда она наряжалась в какое-нибудь миленькое платье или заплетала волосы в толстые косы. Манхэттен для него — вершина. Он часто повторял: «Это нам не Манхэттен» или «Съезди на Манхэттен, глянь, как там». Он дал ей «Гекльберри Финна», страницы помяты перелистыванием, она взялась читать прямо в автобусе, но через несколько глав бросила. Наутро с решительным стуком положила книгу ему на парту.
— Нечитаемый бред, — сказала она.
— Книга написана на разных американских диалектах, — сказал Обинзе.
— И что? Я все равно не понимаю.
— Нужно терпение, Ифем. Если правда разберешься, там интересно, не захочешь бросить.
— Я уже бросила. Пожалуйста, держи при себе свои «настоящие книжки» и предоставь мне читать то, что мне нравится. И кстати, я по-прежнему выигрываю в скрэбл, мистер Читай-настоящие-книжки.
Сейчас они входили в класс, и она высвободила ладонь из его пальцев. Когда б ни возникало у нее такое настроение, ее пронзало паникой из-за любой мелочи, и обыденные события становились судьбоносными. На сей раз детонатором оказалась Гиника: она стояла у лестницы с рюкзаком на плече, лицо позолочено солнцем, и Ифемелу внезапно подумала, сколько у Гиники и Обинзе общего. Дом Гиники при университете Лагоса, тихий коттедж, сад, заросший бугенвиллеей, возможно, походил на дом Обинзе в Нсукке, и она представила, как Обинзе вдруг осознает, до чего лучше ему подходит Гиника, и радость, это хрупкое, сверкающее нечто между Ифемелу и Обинзе, исчезнет.
* * *
Как-то раз утром после собрания Обинзе сказал ей, что его мама приглашает ее в гости.
— Твоя мама? — переспросила ошарашенная Ифемелу.
— Думаю, она хочет познакомиться со своей будущей невесткой.
— Обинзе, давай серьезно!
— Помню, в шестом классе я привел одну девушку на прощальную вечеринку, мама нас подвозила и подарила той девушке носовой платок. Сказала: «Леди носовой платок нужен всегда». Мама у меня бывает странной, ша.[53] Может, хочет и тебе носовой платок выдать.
— Обинзе Мадуевеси!
— Она раньше никогда такого не предлагала, но у меня и серьезной подруги раньше не было. Думаю, просто хочет познакомиться. Сказала, чтоб ты приходила на обед.
Ифемелу уставилась на него. Какая мать в своем уме пригласит девушку сына в гости? Странное дело. Само выражение «приходить на обед» — оно книжное. Если вы Парень и Девушка, в дом друг к другу вы не ходите, а записываетесь на продленку, во Французский клуб, куда угодно — чтобы видеться после школы. Ее родители, само собой, об Обинзе ничего не знали. Приглашение мамы Обинзе ее напугало и взволновало, она дни напролет ломала голову, как лучше одеться.
— Да просто будь собой, — сказала тетя Уджу, а Ифемелу ответила:
— Как же мне просто быть собой? Что это вообще значит?
И вот в один прекрасный день она все же отправилась в эти гости, простояла у двери квартиры сколько-то, пока собралась с духом и позвонила, внезапно пылко понадеявшись, что никого не окажется дома. Обинзе открыл.
— Привет. Мама только что пришла с работы.
В гостиной было просторно, на стенах никаких фотографий, одна лазоревая картина — портрет длинношеей женщины в тюрбане.
— Только это и наше. Остальное досталось вместе с квартирой.
— Мило, — промямлила Ифемелу.
— Не нервничай. Помни: она тебя сама позвала, — прошептал Обинзе, и тут появилась его мама.
Она походила на Оньеку Онвену, и сходство оказалось потрясающим: крупноносая, полногубая красавица, круглое лицо обрамлено коротким афро, безупречная кожа глубокого коричневого тона какао. Музыка Оньеки Онвену была для Ифемелу в детстве источником светящейся радости, который не померк и позднее. Ифемелу навсегда запомнила день, когда отец пришел домой с новым альбомом «В свете зари»:[54] лицо Оньеки Онвену на обложке стало откровением, и Ифемелу потом долго еще водила пальцем по этим чертам. Песни, когда б отец ни ставил эту пластинку, придавали квартире дух праздника, делали из отца человека более расслабленного, он подпевал этим песням, пропитанным женственностью, и Ифемелу виновато воображала, как отец женат на Оньеке Онвену, а не на ее матери. Приветствуя мать Обинзе словами «Добрый вечер, ма», Ифемелу почти готова была, что та запоет в ответ — голосом столь же несравненным, как у Оньеки Онвену. Но голос оказался низким, глухим.
— До чего красивое у тебя имя. Ифемелунамма, — сказала она.
Ифемелу несколько секунд стояла язык проглотив.
— Спасибо, ма.
— Переведи, — сказала она.
— Перевести?
— Да, как бы ты перевела свое имя? Обинзе говорил тебе, что я немного перевожу? С французского. Я преподаю литературу — не английскую, между прочим, а другие литературы на английском, а переводы — это у меня увлечение. Так вот, твое имя в переводе с игбо на английский означает примерно «Сделано в славные времена» или «Сделанное красиво» — или как ты думаешь?
Ифемелу думать не могла. Было в этой женщине что-то, понуждавшее Ифемелу говорить что-нибудь умное, а в голове — пусто.
— Мама, она пришла с тобой познакомиться, а не переводить свое имя, — сказал Обинзе с шутливым отчаянием.
— У нас есть что-нибудь попить для гостьи? Ты суп вынул из морозилки? Пойдемте в кухню, — сказала мама. Она протянула руку и извлекла какую-то пылинку у него из волос, а затем отвесила ему легкий подзатыльник. От их привольной игривой манеры общения Ифемелу стало неловко. Все между ними было свободно, без страха последствий, совсем не такие у нее отношения с родителями.
Они готовили вместе: мама помешивала суп, Обинзе делал гарри,[55] а Ифемелу подпирала стенку, потягивая колу. Она предложила помочь, но мама сказала:
— Нет, дорогая моя, может, в следующий раз, — словно не позволяла кому попало помогать на ее кухне. Она была милой и откровенной, даже радушной, но имелась в ней некая закрытость, нежелание обнажаться перед миром — то же и в Обинзе. Она научила сына уметь уютно пребывать внутри себя самого даже в толпе. — Какие у тебя любимые романы, Ифемелунамма? — спросила мама. — Обинзе читает сплошь американские, знаешь, да? Надеюсь, ты не такая опрометчивая.
— Мамочка, ты просто пытаешься заставить меня полюбить эту книгу. — Он махнул рукой на лежавшее на столе издание — «Суть дела» Грэма Грина.[56] — Моя мама перечитывает эту книгу дважды в год. Не знаю почему, — обратился он к Ифемелу.
— Это мудрая книга. Истории человеческих жизней лишь тогда имеют значение, когда выдерживают проверку временем. Американские книжки, которые ты читаешь, — они легковесные. — Обернулась к Ифемелу: — Этот юноша слишком влюблен в Америку.
— Я читаю американские книжки, потому что за Америкой будущее, мамочка. И не забывай: твой супруг получил там образование.
— В те поры в Америку ездили учиться одни болваны. Считалось, что американские университеты на том же уровне, что британские старшие классы. Я того мужчину изрядно пообтесала, с тех пор как мы поженились.
— И несмотря на это ты оставляла свои вещи у него в квартире, чтобы отвадить других девушек?
— Я тебе говорила пропускать мимо ушей, что тебе там твой дядя плетет.
Ифемелу слушала завороженно. Мать Обинзе, ее прекрасное лицо, ее ученость, белый фартук в кухне — ничего общего ни с одной известной Ифемелу матерью. По сравнению с ней ее отец — неуч, со всеми его чересчур громоздкими словами, а мама — мелкая провинциалка.
— Руки можешь помыть над раковиной, — сказала ей мама Обинзе. — Кажется, вода еще есть.
Все сели за обеденный стол, поели гарри с супом, Ифемелу изо всех сил старалась, следуя заветам тети Уджу, «быть собой», хотя все еще не понимала, что это «собой» означает. Она казалась себе недостойной, не способной проникнуться вместе с Обинзе и его матерью духом этого дома.
— Суп очень славный, ма, — сказала она вежливо.
— О, это Обинзе готовил, — сказала мама. — Он тебе говорил, что умеет готовить?
— Да, но я не думала, что он способен сварить суп, ма, — отозвалась Ифемелу.
Обинзе ухмылялся.
— А ты дома готовишь? — спросила мама.
Ифемелу хотела соврать, сказать, что готовит и любит это занятие, но вспомнила слова тети Уджу.
— Нет, ма, — выговорила она. — Мне не нравится готовить. Я бы «Индоми»[57] ела круглосуточно.
Мама рассмеялась, словно очарованная прямотой Ифемелу, и, когда смеялась, походила на Обинзе, только лицом помягче. Ифемелу ела поданное медленно, размышляя, как желала бы остаться тут с ними, в этом их обаянии, навеки.
* * *
По выходным, когда мать Обинзе пекла, в их квартире пахло ванилью. На пироге поблескивали кусочки манго, маленькие бурые кексы полнились изюмом. Ифемелу разводила масло и чистила фрукты. У нее дома мама не пекла, а духовку обжили тараканы.
— Обинзе только что сказал «задок», ма. Он сказал, оно лежит в задке вашей машины, — сказала Ифемелу. В их американо-британских стычках она всегда была на стороне его мамы.
— Задок — это у тапочек, а не у автомобиля, мой дорогой сын, — отозвалась его мама. Когда Обинзе произносил «коришневый» с «ш», его мама обращалась к Ифемелу: «Ифемелунамма, прошу тебя, передай моему сыну, что я не говорю по-американски. Пусть он, пожалуйста, скажет все то же самое по-английски».