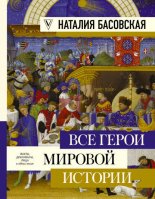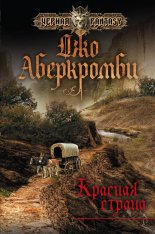Американха Адичи Чимаманда

AMERICANAH by Chimamanda Ngozi Adichie
Copyright © 2013 by Chimamanda Ngozi Adichie
© Шаши Мартынова, перевод, 2017
© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2018
Часть первая
Глава 1
Принстон летом не пах ничем, и хотя Ифемелу нравилась спокойная зелень множества деревьев, чистые улицы и величавые дома, магазины с ненавязчиво завышенными ценами и безмолвный, неизменный дух заслуженного благоденствия, именно это отсутствие запаха привлекало ее более всего, поскольку все прочие хорошо известные ей американские города пахли отчетливо. У Филадельфии имелся затхлый аромат истории. Нью-Хейвен пах заброшенностью. Балтимор — рассолом, а Бруклин — разогретым на солнце мусором. У Принстона же запаха не было. Ей нравилось дышать здесь глубоко. Нравилось смотреть на местных, водивших машины с подчеркнутой любезностью и оставлявших свои автомобили свежайших моделей рядом с магазином экологических продуктов на Нассо-стрит, или же у ресторана суси, или у лавочки с пятьюдесятью сортами мороженого, включая красный перец, или у почтового отделения, где безудержно приветливый персонал устремлялся встречать их у самого входа. Ей нравился студгородок, насупленный от знаний, готические постройки с кружевными от вьюна стенами и как в полусвете вечера все преображалось в пространство призраков. Но более прочего ей нравилось, что в этом месте изобильной непринужденности ей удавалось прикидываться другим человеком, тем, кого лично приняли в освященный американский клуб, кого осенили определенностью.
А вот ездить в Трентон заплетать волосы ей как раз не нравилось. Требовать от Принстона парикмахерскую, где плетут косы, неразумно: те немногие черные местные, каких она тут видела, были такие светлокожие и висловолосые, что их с косичками и не вообразить, но все же, пока Ифемелу в палящую послеобеденную жару ждала на станции Принстон-узловая своего поезда, она задумалась, почему все же тут негде заплести волосы. Плитка шоколада в сумке растаяла. Немногие прочие, ожидавшие вместе с ней на платформе, — все до единого белые, тощие, в короткой воздушной одежде. Стоявший рядом с ней мужчина ел рожок мороженого, что ей всегда казалось несколько безответственным: взрослый мужчина-американец ест рожок мороженого, в особенности если взрослый мужчина-американец ест рожок мороженого у всех на виду. Поезд догромыхал до станции, и мужчина обернулся к Ифемелу.
— Ну наконец-то, — произнес он с фамильярностью, какая возникает между незнакомцами, разделяющими недовольство той или иной общественной услугой. Она ему улыбнулась. Седеющие волосы зачесаны с затылка вперед — потешное ухищрение скрыть лысину. Наверняка ученый, но не из гуманитариев, иначе был бы застенчивее. Крепкая наука вроде химии небось. Прежде она бы сказала: «Знамо дело» — примечательное американское выражение согласия, а не знания, и затем завела бы с ним беседу — разведать, не скажет ли он что-нибудь полезное для ее блога.
Людям льстит, когда их расспрашивают о них самих, а если она помалкивает в ответ, их это подталкивает рассказывать дальше. Их приучили заполнять паузы. Если интересовались, чем она занимается, Ифемелу отвечала расплывчато: «Веду блог о стиле жизни», потому что от реплики «Я веду анонимный блог под названием “Расемнадцатое,[1] или Разнообразные наблюдения черной неамериканки за черными американцами (прежде известными как негры)”» им становилось неловко. Впрочем, она все же произносила это несколько раз. Однажды — в беседе с белым мужчиной в дредах, который сидел рядом с ней в поезде, волосы как старые крученые веревки, косматые на концах, потасканная рубашка — знак благонадежности, убедивший ее, что перед ней боец-общественник и, возможно, окажется славным гостем в ее блоге. «Вокруг расы нынче перебор шумихи, чернокожим пора бы уже расслабиться, теперь все сводится к классовости, к имущим и неимущим», — сказал он невозмутимо, и с этой фразы она начала пост под названием «Не все белые американцы в дредах — свои в доску». А еще был человек из Огайо, втиснувшийся рядом с ней на каком-то авиаперелете. Явно менеджер среднего звена: костюм-футляр, контрастный воротничок. Уточнил, что это значит — «блог о стиле жизни», и она объяснила, ожидая, что он тут же замкнется или в конце разговора брякнет что-нибудь хмуро-пошлое вроде «Единственная подлинная раса — человечество». Но он сказал: «Никогда про усыновление не писали? В этой стране черные детишки никому не нужны, и я не про межрасовых, а именно про черных. Даже черные семьи их не берут».
Доложил, что они с женой усыновили черного ребенка и соседи смотрели так, будто эта пара решила податься в мученики во имя невесть чего. Ее пост об этом: «Не так-то просты они, скверно одетые белые менеджеры среднего звена из Огайо», на него она получила в тот месяц больше всего комментариев. До сих пор гадала, читал он тот ее текст или нет. Надеялась, что читал. Она частенько, сидя в кафе, или в аэропортах, или на вокзалах, наблюдала за незнакомыми людьми, воображала себе их жизнь, раздумывала, кто из них, вероятно, следит за ее блогом. Теперь уже бывшим. Она выложила последний пост всего несколько дней назад, за ним потянулся хвост из двухсот семидесяти четырех комментариев — пока. Ее читателей прибывало что ни месяц, они ставили на нее ссылки, публиковали у себя ее посты, знали гораздо больше, чем она сама, — вечно пугали и вдохновляли Ифемелу. СафическийДеррида, один из самых частых комментаторов, написал: «Удивительно, до чего близко к сердцу я это все принимаю. Удачи вам с неведомыми “переменами в жизни”, но вы, уж пожалуйста, возвращайтесь в блогосферу поскорее. Своим дерзким, хулиганским, потешным и наводящим на размышления тоном вы создали пространство настоящего разговора на важную тему». Читатели, подобные СафическомуДерриде, вываливавшие статистические данные и употреблявшие в комментариях слова вроде «овеществлять», нервировали Ифемелу, которая рвалась быть свежей, впечатлять и потому со временем начала ощущать себя стервятником, что обдирает остовы людских историй себе на пользу. Иногда с трудом увязывая сказанное с расовыми вопросами. Иногда не доверяя самой себе. Чем больше писала, тем меньше в ней было уверенности. Каждый следующий пост слущивал с нее очередную чешуйку самости, пока она не показалась себе голой и фальшивой.
Мужчина-с-мороженым уселся в поезде рядом с ней, и, чтобы избежать разговора, она упорно глядела на бурое пятно у себя под ногами — разлитый фраппучино — вплоть до самого Трентона. На платформе толпились черные, многие — жирные, в короткой воздушной одежде. Ее по-прежнему изумляла разница, возникавшая за несколько минут езды на поезде. В первый свой год в Америке она съездила нью-джерсийским транзитным до Пенсильванского вокзала, а дальше на метро, в гости к тете Уджу во Флэтлендз,[2] и ее поразило, что преимущественно щуплые белые сходили на манхэттенских остановках, а поезд катился дальше в Бруклин, и оставались в вагоне почти исключительно жирные черные. Но Ифемелу тогда не думала о них как о «жирных». Думала о них как о «крупных», потому что ее подруга Гиника чуть ли не первым делом сообщила ей: «жирный» в Америке — ругательное слово, в нем уйма осуждения, как в словах «тупой» или «ублюдок», это не просто описание человека вроде «низенький» или «рослый». Ифемелу исключила «жирный» из словаря. Но прошлой зимой это слово вернулось к ней — почти через тринадцать лет, когда человек за ее спиной в очереди в супермаркете пробормотал: «Жирным это барахло есть не стоит», когда она платила за громадный пакет «Тоститос». Ифемелу глянула на него изумленно, чуть обиженно и подумала, что вот он, идеальный пост для блога: чужой человек решил, что она жирная. Тэги к посту — «раса, пол, телесные размеры». Но, вернувшись домой, она встала перед зеркалом и приняла от него правду — осознала, что не обращала внимания, слишком долго, как туго теперь сидит на ней одежда, как трутся внутренние поверхности бедер, как подрагивают при движении ее мягкие округлости. Она и впрямь жирная.
Слово «жирная» она произнесла медленно, гоняя его туда-обратно, и задумалась обо всем прочем, что выучилась не произносить в Америке вслух. Она была жирной. Не фигуристой и не ширококостной — жирной, и лишь это слово казалось правдивым. Не обращала она внимания и на бетонную тяжесть на душе. Дела у ее блога шли хорошо, тысячи новых посетителей в месяц, ей прилично платили за выступления, имелась стипендия в Принстоне и отношения с Блейном. «Ты абсолютная любовь моей жизни», — написал он ей в открытке на прошлый день рождения, и все же лежал у нее на душе бетон. Он там копился уже какое-то время — утренняя хворь усталости, унылое отсутствие границ. Возникли вместе с этим бетоном и рыхлое томление, бесформенная жажда, краткие воображаемые отблески других жизней, какие она могла бы вести, и за несколько месяцев они сплавились в пронзительную тоску по дому. Она рыскала по нигерийским сайтам, по нигерийским профилям в «Фейсбуке», по нигерийским блогам, и каждый щелчок мыши приносил ей очередную байку о юнцах, вернувшихся домой облеченными американскими и британскими учеными степенями, и там эти молодые ребята основывали инвестиционные компании, музыкальные лейблы, запускали линейки модной одежды, журналы, франшизы общепита. Она смотрела на фотографии этих мужчин и женщин и чувствовала тупую боль утраты, словно они разжали ей пальцы и забрали что-то у нее самой. Они жили ее жизнью. Нигерия стала местом, где Ифемелу полагалось быть, единственным, где она могла бы пустить корни без постоянного позыва выдернуть их оттуда и отрясти почву. И конечно, там же был Обинзе. Ее первая любовь, первый любовник, единственный человек, которому никогда не нужно было ничего растолковывать. Теперь он уже и муж, и отец, они не общались много лет, и все же не могла она сделать вид, что его нет в ее тоске по дому или что она о нем не думает, часто, перебирая их прошлое, ища знаки того, что ей не удавалось назвать.
Незнакомец-хам в супермаркете — кто знает, с чем ему, изможденному, тонкогубому, приходилось сражаться, — стремился обидеть ее, а на деле разбудил.
Она принялась планировать и мечтать, искать работу в Лагосе. Блейну поначалу ничего не говорила — хотела завершить стипендиальную работу в Принстоне, а затем, когда та завершилась, не сказала, поскольку хотела повременить — чтобы уж не сомневаться. Однако шли недели, а не сомневаться все не получалось. И потому Ифемелу сказала ему, что возвращается домой, и добавила:
— Мне надо, — зная, что он распознает в ее словах необратимость.
— Почему? — спросил Блейн, едва ли не машинально, ошарашенный ее объявлением. Они сидели у него в гостиной в Нью-Хейвене, в волнах тихого джаза и дневного света, она смотрела на него, своего доброго оторопелого мужчину, и ощущала, как этот день приобретает печальное, эпохальное свойство. Они прожили вместе три года, три года вдоль отутюженной складки, вплоть до единственной ссоры, несколько месяцев назад, когда взгляд у Блейна заиндевел от осуждения и он отказался с ней разговаривать. Но ту ссору они пережили в основном благодаря Бараку Обаме, воссоединились вновь — общей на двоих страстью. В ночь выборов, перед тем как Блейн с мокрым от слез лицом поцеловал Ифемелу, он ее крепко обнял, словно победа Обамы была их личной победой. А теперь она говорила ему, что все кончено. «Почему?» — спросил он. У себя на занятиях он рассказывал об оттенках и сложности, а тут затребовал единое объяснение, причину. Однако прямого озарения у нее не случилось, причины не было, просто оседала слой за слоем неудовлетворенность, из нее сложился груз, он-то и двигал Ифемелу. Этого она Блейну не сказала: ему было бы обидно узнать, что все это началось у нее не вчера, что их отношения — все равно что радоваться своему дому, но вечно сидеть у окна и смотреть наружу.
— Возьми растение, — сказал он ей в тот день, когда они виделись в последний раз, когда она собирала вещи, что держала у него в квартире. Вид у него был побитый, он стоял на кухне, поникнув плечами. Растение было его, из этого дома, бодрые зеленые листочки на трех бамбуковых стеблях, и когда она приняла его, внезапное сокрушительное одиночество пронзило Ифемелу и застряло у нее внутри на многие недели. Время от времени она ощущала это одиночество до сих пор. Как можно скучать по чему-то, чего уже не хочешь? Блейну было нужно то, чего она не могла ему дать, ей — то, что не мог дать он, вот это она оплакивала: утрату чего-то, что было лишь в принципе возможно.
И вот она, в день, исполненный летнего великолепия, собралась перед отъездом домой заплести волосы. Липкий жар оседал на коже. На платформе в Трентоне стояли люди, втрое громаднее Ифемелу, и она восхищенно разглядывала одну женщину в очень короткой юбке. Эта женщина плевать хотела на стройные ноги в мини-юбках — в конце концов, показывать ноги, которые одобряет весь белый свет, безопасно и легко, но жест толстухи — молчаливая убежденность, какую человек разделяет лишь с самим собой, чувство правоты, не явное для окружающих. Решение Ифемелу вернуться домой — похожей природы: когда б ни одолевали ее сомнения, она считала себя отважной одиночкой, чуть ли не героем, и так изничтожала неуверенность. Толстуха опекала группу подростков, на вид — лет по шестнадцать-семнадцать. Они столпились вокруг нее, смеясь и болтая, на груди и на спине их желтых футболок значилась реклама некоей летней программы. Они напомнили Ифемелу ее двоюродного брата Дике. Один мальчишка, темный, высокий, по-спортивному поджарый и мускулистый, очень смахивал на Дике. Тот, правда, ни за что бы не нацепил тапки, похожие на эспадрильи. «Квелые корки» — так бы он их назвал. Что-то новенькое: первый раз он этот оборот употребил несколько дней назад, когда рассказывал ей, как они с тетей Уджу ходили за покупками. «Мама хотела купить мне эти чокнутые тапки. Ну не, куз, ты ж знаешь, я квелые корки не могу носить!»
Ифемелу встала в очередь на такси у вокзала. Надеялась, что шофер окажется не нигерийцем: стоит им услыхать ее акцент, как они либо принимаются рьяно докладывать, что у них мастерская степень, такси — подработка, а дочка у них в деканском списке в Ратгерзе,[3] либо ведут, надувшись, молча, дают сдачу и им до лампочки ее «спасибо», всю дорогу лелея унижение, что их собрат-нигериец — девчонка к тому же, может, медсестра, или бухгалтерша, или даже врач — смотрит на них сверху вниз. Таксисты-нигерийцы в Америке поголовно убеждены, что на самом деле они не таксисты. Ифемелу была следующей в очереди. Ее таксист оказался черным, средних лет. Она открыла дверцу и глянула на спинку водительского кресла. «Мервин Смит». Не нигериец, но поди знай наверняка. Нигерийцы тут берут себе какие угодно имена. Даже сама она была тут кое-кем другим.
— Как жизнь? — спросил водитель.
Она тут же с облегчением опознала акцент: карибский.
— Все хорошо. Спасибо. — Выдала ему адрес «Африканских причесок Мариамы». В этот салон она ехала впервые — привычный закрылся, потому что хозяйка отбыла обратно в Кот-д’Ивуар выходить замуж, — но Ифемелу знала, что этот салон будет выглядеть так же, как любой другой: все они размещались в той части города, где граффити, сырые здания и никаких белых, вывески яркие, названия — что-нибудь вроде «Африканские косички Аиши и Фатимы», батареи зимой топят слишком сильно, кондиционеры летом не охлаждают, и там битком франкоязычных женщин-плетельщиц из Западной Африки, одна из них — хозяйка, по-английски говорит лучше всех, отвечает на звонки, и прочие к ней относятся почтительно. Частенько имелся ребенок, привязанный к чьей-нибудь спине тряпичным лоскутом. Или детсадовец, спящий на шали, расстеленной поверх видавшего виды дивана. Время от времени заглядывали дети постарше. Разговоры шумные, стремительные, на французском, волоф или мандинка, а в обращении с клиентами на английском получался ломаный любопытный язык, будто здешние, не погрузившись в сам английский, сразу переняли жаргонный американский. Слова оборваны вполовину. Как-то раз гвинейская плетельщица в Филадельфии сказала Ифемелу: «Ятьп, божмой, ж збес-сь». Неоднократно пришлось повторить, пока Ифемелу не поняла, что эта женщина говорит: «Я, типа, боже мой, аж взбесилась».
Мервин Смит оказался задорным и болтливым. Вел машину и толковал о том, как жарко и что как пить дать начнутся повальные обмороки.
— Такая вот жара приканчивает стариков. Если у них кондиционера нет, приходится топать в торговые центры, ну. Торговый центр — бесплатный кондиционер. Но иногда их и отвезти некому. О стариках заботиться надо, — говорил он, и молчание Ифемелу никак не портило ему бодрого настроения. — Ну вот, приехали! — объявил он, останавливаясь в обшарпанном квартале.
Салон был посередине, между китайским рестораном под названием «Веселая радость» и круглосуточным магазинчиком, торговавшим лотерейными билетами. Внутри все источало запустение, краска шелушилась, стены уклеены громадными плакатами с вариантами плетеных причесок и плакатами поменьше с надписью: «Быстрый возврат налогов». Три женщины, все в шортах по колено и футболках, трудились над прическами клиенток. Маленький телевизор в углу на стене с громкостью выше необходимой показывал какой-то нигерийский фильм: мужчина лупцует жену, жена съежилась, кричит, скверный звук режет уши.
— Здрасьте! — сказала Ифемелу.
Все повернулись к ней, но лишь одна — видимо, одноименная салону Мариама — ответила:
— Здрасьте. Пожалте.
— Я бы хотела заплестись.
— Какие хотите косички?
Ифемелу сказала, что хочет средние твисты, и спросила, сколько это будет стоить.
— Двести, — ответила Мариама.
— Я в прошлом месяце отдала сто шестьдесят. — Волосы она заплетала последний раз три месяца назад.
Мариама помолчала, уперев взгляд в заплетаемые косички.
— Все же сто шестьдесят? — спросила Ифемелу.
Мариама пожала плечами и улыбнулась:
— Ладно, но в другой раз придете к нам же. Садитесь. Ждите Аишу. Она скоро закончит. — Мариама указала на самую маленькую плетельщицу с дефектами кожи — розовато-кремовыми кляксами обесцвеченности на руках и шее, что смотрелись тревожно заразными.
— Здрасьте, Аиша, — сказала Ифемелу.
Аиша глянула на Ифемелу, едва-едва кивнув, лицо безучастное, чуть ли не грозное от невыразительности. Было в ней что-то странное.
Ифемелу села у двери; вентилятор на щербатом столике работал на полной мощности, но от духоты в зале не спасал. Рядом с вентилятором лежали расчески, упаковки с накладными волосами, журналы, распухшие от выпавших страниц, стопки разноцветных футляров с видеодисками. В углу прислонилась метла, рядом с конфетным автоматом и ржавой сушилкой для волос, которой не пользовались лет сто. На телеэкране папаша бил двоих детей, одеревенелые тумаки сыпались в воздух над детскими головами.
— Нет! Плохой отец! Плохой человек! — произнесла другая плетельщица, вперяясь в экран и отшатываясь.
— Вы из Нигерии? — спросила Мариама.
— Да, — сказала Ифемелу. — А вы откуда?
— Мы с сестрой Халимой из Мали. Аиша — из Сенегала, — ответила Мариама.
Аиша не откликнулась, а Халима улыбнулась Ифемелу — улыбка теплой многозначительности, приветствие собрату-африканцу, американке она бы так улыбаться не стала. У нее было лютое косоглазие, зрачки в разные стороны, и Ифемелу растерялась, не понимая, какой глаз Халимы уставился на нее.
Ифемелу обмахнулась журналом.
— Ну и жарища, — сказала она. Эти женщины, по крайней мере, не скажут: «Это вам-то жарко? Вы же из Африки!»
— Очень плохая эта жара. Простите, кондиционер вчера сломался, — сказала Мариама.
Ифемелу знала, что кондиционер сломался не вчера, что сломан он существенно дольше, возможно, был сломан всегда, но все же кивнула и сказала, что, наверное, накрылся из-за перегрузки. Зазвонил телефон. Мариама сняла трубку и через минуту ответила:
— Сейчас приходите.
Именно из-за этих слов Ифемелу бросила назначать время в салонах африканских причесок. «Сейчас приходите», — говорят они всякий раз, приезжаешь к ним, а тут два человека ждут в очереди на микрокосички, но хозяйка все равно говорит: «Погодите, сейчас сестра моя подсобит». Телефон зазвонил вновь, Мариама заговорила по-французски, голос возвысился, она бросила плести — чтобы размахивать руками, завопила в трубку. Затем вытащила из кармана и развернула желтый бланк «Вестерн Юниона» и начала читать цифры.
— Труа! Санк! Нон, нон, санк![4]
Женщина, которой заплетали волосы — крошечными, мучительными на вид грядками, — резко встряла:
— Эй! Я сюда не на весь день пришла!
— Простите, простите, — сказала Мариама. Но «вестерн-юнионовские» цифры все же договорила и лишь затем продолжила плести, зажав телефон между ухом и плечом.
Ифемелу раскрыла роман — «Тростник» Джина Тумера[5] — и пролистала сколько-то страниц. Уже некоторое время собиралась она его почитать и предполагала, что роман ей понравится, поскольку он не понравился Блейну. «Ценное высказывание» — так Блейн назвал его, этим своим трепетно-зловещим тоном, каким толковал, когда речь заходила о романах, будто был уверен, что Ифемелу, чуть погодя и с чуть большей мудростью, научится принимать, что романы, которые ему нравятся, — лучше, романы, написанные молодыми и моложавыми мужчинами, напичканные штуками, поразительными, завораживающими собраниями торговых марок, музыки, комиксов и идолов, где эмоций через край, где каждая фраза изящно осознает свое изящество. Ифемелу прочла много их, потому что Блейн рекомендовал, но все они, как сахарная вата, легко испарялись с языка ее памяти.
Она закрыла книгу: слишком жарко, не сосредоточишься. Поела растаявший шоколад, отправила Дике эсэмэску, чтобы позвонил, когда закончится баскетбольная тренировка, и принялась обмахиваться. Прочитала надписи на стене напротив: ЛЮБЫЕ ПЕРЕДЕЛКИ КОСИЧЕК — В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ЗАПЛЕТАНИЯ; ЧЕКИ НЕ ПРИНИМАЕМ; ДЕНЬГИ НЕ ВОЗВРАЩАЕМ, но старательно не приглядывалась к углам, потому что знала: под трубами, грязью и давно сгнившим барахлом напиханы комья плесневелых газет.
Наконец Аиша закончила со своей клиенткой и спросила, какого цвета накладные волосы Ифемелу желает.
— Номер четыре.
— Нехороший цвет, — поспешно откликнулась Аиша.
— Я такой себе делаю.
— Смотрится грязным. Номер один не хотите?
— Номер один слишком темный, смотрится фальшиво, — сказала Ифемелу, стаскивая с волос резинку. — Иногда делаю номер два, но четвертый ближе всего к моему природному тону.
Аиша дернула плечом, высокомерно, дескать, ей-то что, если у клиента дурной вкус. Полезла в шкаф, вытащила две упаковки накладок, проверила, одного ли они цвета.
Потрогала волосы Ифемелу:
— А чего не выпрямляете?
— Мне мои волосы нравятся такими, какими их Бог дал.
— Но как же вы их расчесываете? Трудно же, — сказала Аиша.
Ифемелу принесла с собой свою расческу. Осторожно расчесала волосы, густые, мягкие, туго курчавые, пока вокруг головы не образовался нимб.
— Если увлажнять хорошенько, расчесать нетрудно, — заговорила она тоном улещивающего проповедника, какой применяла всякий раз в беседах с другими черными женщинами о достоинствах естественных причесок. Аиша фыркнула: она явно не понимала, зачем нужно страдать, расчесывая естественные волосы, а не выпрямлять их. Она поделила шевелюру Ифемелу пробором, вытащила накладную прядь из кучки на столе и принялась умело плести.
— Слишком туго, — сказала Ифемелу. — Туго не надо. — Аиша продолжала крутить до конца, и Ифемелу подумала, что, может, та не поняла ее, коснулась болезненной косички и сказала: — Туго, туго.
Аиша отпихнула ее руку.
— Нет. Нет. Пусть. Хорошо.
— Туго! — настаивала Ифемелу. — Прошу вас, ослабьте.
Мариама наблюдала за ними. Полился поток французского. Аиша ослабила косичку.
— Простите, — сказала Мариама. — Она не очень понимает.
Но Ифемелу видела по лицу Аиши, что поняла она все очень хорошо. Аиша попросту настоящая базарная тетка, не восприимчивая к косметическим любезностям американского клиентского обслуживания. Ифемелу вообразила Аишу на базаре в Дакаре — так же и плетельщицы в Лагосе, что сморкались в пятерню и вытирали руки о халаты, грубо дергали клиентов за головы, чтоб повернуть их поудобнее, жаловались на густоту, жесткость или длину волос, орали проходившим мимо женщинам, попутно слишком громко разговаривая и плетя слишком туго.
— Знаете ее? — спросила Аиша, глянув в телевизор.
— Что?
Аиша повторила вопрос, показав на актрису на экране.
— Нет, — ответила Ифемелу.
— Но вы же нигерийка.
— Да, но я ее не знаю.
Аиша махнула рукой на стопку видеодисков на столе.
— Раньше — слишком много вуду. Очень плохо. Теперь фильм в Нигерии очень хороший. Большой хороший дом!
Ифемелу нолливудские[6] фильмы ни в грош не ставила — сплошная чрезмерная наигранность, недостоверные сюжеты, — но кивнула, соглашаясь, потому что «Нигерия» и «хорошо» в одной фразе — роскошь, даже от посторонней сенегалки, и Ифемелу решила отнестись к этому как к благому предвестию ее возвращения домой.
Все, кому она говорила, что возвращается, вроде бы удивлялись, ждали объяснений, а когда она сообщала, что ей просто хочется, на лбах возникали складки растерянности.
— Ты закрываешь блог и продаешь квартиру, чтобы вернуться в Лагос и работать в журнале, где платят так себе, — сказала тетя Уджу и следом повторила все это еще раз, словно пытаясь показать глубину глупости Ифемелу. И лишь Раньинудо, ее старая подруга в Лагосе, придала ее возвращению нормальность.
— В Лагосе навалом возвращенцев из Штатов, так что давай-ка и ты с ними. Каждый день видишь их — они с собой бутылки воды таскают, будто помрут от жары, если поминутно пить не будут, — сказала Раньинудо. Они с Раньинудо держали связь все эти годы. Поначалу писали друг другу изредка, но потом открылись интернет-кафе, возникли мобильные телефоны, расцвел «Фейсбук», и общаться они стали чаще. Именно Раньинудо сказала ей несколько лет назад, что Обинзе женится. «Кстати-о,[7] у него теперь серьезные деньги водятся. Ты глянь, что пропустила!» — сказала Раньинудо. Ифемелу прикинулась безразличной к этой новости. В конце концов, связь с Обинзе пресекла она сама, и столько уже времени прошло, и совсем недавно возникли отношения с Блейном, и она счастливо погрузилась в совместную жизнь. Но, повесив трубку, начала думать об Обинзе — постоянно. Представила его на свадьбе, и от этого осталось в ней чувство, похожее на грусть, смутную грусть. Но ей было за него радостно, говорила она себе, и, чтобы это доказать, она решила написать ему. Не уверенная, по-прежнему ли у него старый адрес, она отправила электронное сообщение, почти готовая к тому, что он не ответит, но ответ пришел. Больше она не писала, потому что осознала в себе к тому времени маленький, еще тлевший огонек. Лучше оставить все как есть. В прошлом декабре, когда Раньинудо сказала ей, что наткнулась на Обинзе в торговом центре «Палмз», при нем была малышка-дочка (и Ифемелу все никак не удавалось представить себе этот новый роскошный современный торговый центр в Лагосе — на ум шла только памятная ей тесная «Мега-Плаза»). «Он такой чистенький был, и дочурка такая милая», — сказала Раньинудо, и Ифемелу чувствовала, как ее ранят все эти перемены в его жизни.
— Фильм в Нигерии теперь очень хороший, — повторила Аиша.
— Да, — воодушевленно согласилась Ифемелу. Вот во что она превратилась — в искателя знаков. Нигерийские фильмы хороши, следовательно, возвращаться домой — хорошо.
— Вы из нигерийских йоруба, — сказала Аиша.
— Нет. Я игбо.
— Вы игбо? — На лице Аиши впервые появилась улыбка — улыбка, явившая в равной мере и мелкие зубы, и темные десны. — Я думаю, вы йоруба, потому что темная, а игбо светлые. У меня два мужчины-игбо. Очень хорошие. Мужчины-игбо заботятся о женщинах ой хорошо.
Аиша почти шептала, в голосе томный намек, а в зеркале пятна у нее на руках и шее сделались кошмарными болячками. Ифемелу вообразила, как некоторые лопаются и сочатся, а некоторые шелушатся. Отвела взгляд.
— Мужчины-игбо заботятся о женщинах ой хорошо, — повторила Аиша. — Я хочу жениться. Они меня любят, но говори, что семья надо с женщиной-игбо. Потому что игбо женись на игбо только.
Ифемелу подавилась смехом.
— Хотите за обоих замуж?
— Нет. — Аиша нетерпеливо отмахнулась. — Я хочу женись один. Но это правда? Игбо женись на игбо только?
— Игбо женятся на ком угодно. Муж моей двоюродной сестры — йоруба. Жена моего дяди — из Шотландии.
Аиша перестала заплетать и всмотрелась в отражение Ифемелу в зеркале, словно решая, верить ей или нет.
— Моя сестра говори, это правда. Игбо женись на игбо только, — сказала она.
— Откуда вашей сестре знать?
— Она в Африке знай много игбо. Она продай ткань.
— Где она?
— В Африке.
— Где? В Сенегале?
— Бенин.
— Почему вы говорите «Африка», а не называете страну, о которой речь? — спросила Ифемелу.
Аиша хихикнула.
— Вы не знаешь Америка. Вы скажи «Сенегал», и американские, они говорят: «Это где?» Моя друг из Буркина-Фасо, они ее спрашивай: ваша страна Латинская Америка? — Аиша продолжила крутить, на лице — лукавая улыбка, а затем спросила, будто Ифемелу совсем невдомек, как тут вообще все устроено: — Вы долго в Америке?
Ифемелу решила, что Аиша не нравится ей совсем. Захотелось покончить с этой беседой, чтобы далее, в те шесть часов, что ее будут заплетать, говорить только необходимое, и потому сделала вид, что не услышала вопроса, и вытащила мобильный. Дике на ее эсэмэску пока не ответил. Всегда отвечает за минуту-другую, но, может, он все еще на тренировке или с друзьями, смотрит какой-нибудь дурацкий ролик на Ю-Тьюбе. Ифемелу позвонила ему и оставила длинное сообщение на автоответчике, говорила погромче, болтала и болтала о его баскетбольной тренировке, о том, как же в Массачусетсе жарко, и пойдет ли он сегодня с Пейдж в кино. Все равно неймется — сочинила электронное письмо Обинзе и, не дав себе перечитать его, отправила. Написала, что собирается вернуться в Нигерию. И пусть ее уже ждет там работа, пусть автомобиль ее уже плывет кораблем в Лагос, Ифемелу впервые по-настоящему это прочувствовала. Я недавно решила вернуться в Нигерию.
Аиша не угомонилась. Как только Ифемелу оторвала взгляд от телефона, Аиша спросила вновь:
— Вы долго в Америке?
Ифемелу неспешно убрала телефон в сумочку. Много лет назад, когда на свадьбе одной подружки тети Уджу возник подобный вопрос, Ифемелу сказала «два года», и так оно и было, но насмешка на лице нигерийца выучила ее: чтобы заработать награду серьезного отношения среди нигерийцев в Америке, среди африканцев в Америке и, уж конечно, среди иммигрантов в Америке, лет должно быть больше. «Шесть», стала говорить она, когда их было три с поло виной. «Восемь» — когда их было пять. Теперь уже тринадцать, врать вроде бы нет нужды, но она все равно соврала.
— Пятнадцать лет, — ответила Ифемелу.
— Пятнадцать? Так долго. — Во взгляде Аиши возникло почтение. — Живете тут, в Трентоне?
— В Принстоне.
— В Принстоне. — Аиша примолкла. — Студент?
— Только что завершила стипендиальный проект, — сказала она, отдавая себе отчет, что Аиша не поймет, что такое «стипендиальный проект», в тот редкий миг вид у нее был оробелый, и Ифемелу ощутила извращенное удовольствие. Да, в Принстоне. Да, такие вот места Аиша только воображать себе может, в таких вот местах не найдешь объявлений «БЫСТРЫЙ ВОЗВРАТ НАЛОГОВ»: людям из Принстона нет необходимости быстро возвращать налоги.
— Но я уезжаю обратно в Нигерию, — добавила Ифемелу, внезапно раскаиваясь. — На следующей неделе.
— Повидать семью.
— Нет, переезжаю насовсем. Жить в Нигерии.
— Почему?
— В каком смысле — почему? Чего бы и нет?
— Лучше шлите туда деньги. Или у вас отец Большой Человек? У вас связи?
— Я там работу нашла, — отозвалась Ифемелу.
— Вы долго в Америке пятнадцать лет и просто возвращайся работать? — Аиша хмыкнула. — Можете там быть?
Аиша напомнила ей слова тети Уджу, когда та наконец свыклась с тем, что Ифемелу и впрямь возвращается: «Ты справишься?» — и от предположения, что Ифемелу неким манером необратимо изменила Америка, у той на коже прорезались шипы. Ее родители тоже, кажется, считали, что Ифемелу, вероятно, не «справится» с Нигерией.
— Ты, во всяком случае, теперь американская гражданка, всегда сможешь вернуться в Америку, — сказал ее отец. И он, и мама спрашивали, поедет ли с ней Блейн, — набрякший надеждой вопрос. Ее умиляло, что теперь они спрашивают о Блейне; понадобилось некоторое время, пока они освоились с существованием ее черного друга-американца. Она воображала, как они втихаря вынашивают планы ее свадьбы: мать раздумывает о заказе банкета, об оттенках нарядов, отец — о каком-нибудь влиятельном друге, чтоб выступил спонсором. Сокрушать их надежды ей не хотелось: надеялись они от самой малости, радовались, и потому Ифемелу сказала отцу:
— Решили, что я приеду первой, а через несколько недель и Блейн подтянется.
— Великолепно, — сказал отец, и она больше ничего не добавляла. Пусть все остается великолепным.
Аиша несколько чересчур сильно дернула ее за волосы.
— Пятнадцать лет в Америке очень долго, — сказала она, словно осмысляла это. — У вас друг? Женись?
— В Нигерию я возвращаюсь еще и повидать своего мужчину, — проговорила Ифемелу, удивив себя саму. «Своего мужчину». Легко же врать чужим людям, создавать с чужими воображаемые варианты собственной жизни.
— Ой! Ладно! — сказала Аиша воодушевленно: Ифемелу наконец-то выдала разумную причину возвращения. — Женись?
— Может быть. Поглядим.
— Ой! — Аиша бросила плести и уставилась на нее в зеркало окаменелым взглядом, и Ифемелу убоялась на миг, что у этой женщины имеются силы ясновидения и она прозревает, что Ифемелу врет.
— Хочу вам посмотри моих мужчин. Зову их. Они идут, и вы их посмотри. Сначала зову Чиджоке. Он работай таксист. А потом Эмеку. Он работай охранник. Посмотри их.
— Не стоит вызывать их только ради того, чтобы мы познакомились.
— Нет. Я зову их. Скажи им, что игбо женись не игбо. Они вас слушай.
— Нет, ну что вы. Я так не могу.
Аиша продолжила говорить, словно не услышала:
— Скажи им. Они вас слушают, потому что вы их сестра игбо. Любой хорошо. Я хочу жениться.
Ифемелу глянула на Аишу — маленькую непримечательную сенегалку, кожа лоскутная, два друга-игбо, не очень убедительно, и вот она теперь настаивает на их знакомстве с Ифемелу, чтобы та убедила их жениться на Аише. Хороший бы пост в блоге получился: «Примечательный случай неамериканской черной, или Как давление иммигрантской жизни способно вынудить на чокнутые поступки».
Глава 2
Обинзе увидел ее электронное письмо, сидя в «лендровере» посреди лагосской пробки; пиджак бросил на переднее сиденье, к окну приклеился лицом ребенок-попрошайка с выгоревшими волосами, к другому прижимал пестрые аудиодиски лоточник, радио, настроенное на «Вазобия ФМ», тихо выдавало новости на пиджине, вокруг — серая хмарь надвигавшегося дождя. Обинзе уставился в свой «блэкберри», тело внезапно напряглось. Сперва он промотал письмо, поневоле жалея, что оно не такое уж длинное. «Потолок, кеду?[8] Надеюсь, на работе и в семье все в порядке. Раньинудо сказала, что столкнулась с тобой недавно и что при тебе был ребенок! Гордый папочка. Поздравляю. Я недавно решила вернуться в Нигерию. В Лагосе буду через неделю. Было б здорово не терять связи. Всего доброго тебе. Ифемелу».
Он перечитал сообщение еще раз, медленно, и ощутил порыв огладить — брюки, гладковыбритую голову. Она называла его Потолком. В последней депеше от нее, присланной незадолго до его женитьбы, она именовала его Обинзе, извинилась за многолетнее молчание, в солнечных словах пожелала ему счастья и упомянула черного американца, с которым жила. Любезное письмо. Оно ему люто не понравилось. До того не понравилось, что он погуглил этого черного американца, — с чего бы ей иначе указывать полное имя этого человека, если не для того, чтобы Обинзе его погуглил? Лектор из Йеля; Обинзе взбесило, что она живет с человеком, который у себя в блоге называет друзей «кошаками», но добила Обинзе фотокарточка черного американца — потрепанными джинсами и очками в черной оправе она источала интеллектуальную крутизну, — и Обинзе ответил Ифемелу холодно. «Спасибо за теплые пожелания, я счастлив как никогда», — написал он. Понадеялся, что она ответит насмешливо, — так не похоже на нее, что она даже смутно не ехидничала в первом письме, — но Ифемелу не ответила вовсе, а когда Обинзе после медового месяца в Марокко написал вновь, дескать, хочет поддерживать связь и как-нибудь поболтать, она и тут промолчала.
Пробка сдвинулась. Заморосило. Ребенок-попрошайка побежал следом, волоокий взгляд еще более театрален, жесты заполошны: подносил руку ко рту, вновь и вновь, пальцы сложены щепотью. Обинзе опустил окно, выдал стонайровую[9] купюру. Его шофер Гэбриел поглядел на него в зеркало заднего вида с суровым осуждением.
— Благослови вас Бог, ога![10] — сказал ребенок-попрошайка.
— Не давайте вы денег этим побирушкам, сэр, — сказал Гэбриел. — Они все богатеи. Они попрошайничеством большие деньги делают. Я слыхал об одном таком — он в Икедже[11] дом на шесть квартир построил!
— Чего же ты тогда шофером работаешь, а не нищим, Гэбриел? — спросил Обинзе и рассмеялся, немножко слишком заливисто. Захотел рассказать Гэбриелу, что вот сейчас ему написала университетская подружка, — не только университетская, но и школьная. Когда впервые позволила ему снять с нее лифчик, она лежала на спине и тихонько постанывала, распластав ладони у него на голове, а потом сказала: «Глаза я не закрывала, но потолка не видела. Такого раньше никогда не случалось». Другие девчонки сделали бы вид, что к ним ни один парень сроду не прикасался, но эта — нет, ни за что. Была в ней живая искренность. Она стала называть то, чем они вместе занимались, «потолковать», — когда они уютно сплетались, пока его матери не было дома, у него на кровати, в одном белье, целовались, трогали друг друга, облизывали, понарошку двигали бедрами. «Мечтаю потолковать», — написала она однажды на обороте его тетрадки по географии, и он потом долго не мог смотреть на эту тетрадку и не ощущать при этом трепета, потаенного волнения. В университете, когда они наконец прекратили играть понарошку, она стала называть Потолком его самого, игриво, с намеком, — но, когда они ссорились или же когда дулась, она именовала его Обинзе. Зедом она его не называла никогда — в отличие от его друзей.
— Почему ты зовешь его Потолком? — спросил у нее Оквудиба, друг Обинзе, в один из разморенных дней после экзаменов первого семестра. Она подсела к компании, прохлаждавшейся вокруг замызганного пластикового стола в пивбаре рядом со студгородком. Ифемелу отпила из бутылки «Молтины»,[12] сглотнула, глянула на Обинзе и ответила:
— Потому что он такой высокий, что до потолка достает, что тут непонятного?
Ее нарочитая неспешность, улыбочка, что растянула ей губы, дала всем понять, что Потолком она зовет его вовсе не поэтому. Да и высоким он не был. Она пнула его под столом, он пнул ее в ответ, оглядывая хохотавших друзей: они все ее немножко боялись и были в нее немножко влюблены. Видела ли она потолок, когда к ней прикасался черный американец? Применяет ли слово «потолковать» с другими мужчинами? Мысль, что, в общем, может, его сейчас огорчила. Зазвонил телефон, и на одно растерянное мгновение он подумал, что это из Америки звонит Ифемелу.
— Милый, кеду эбе и но? — Его жена Коси всегда начинала разговор с этих слов: ты где? Обинзе никогда не спрашивал по телефону, где она, но Коси все равно докладывала: «Я захожу в салон», «Я на Третьем материковом мосту».[13] Словно ей нужно убеждаться в физическом существовании их обоих, когда они не рядом. У нее был высокий девчачий голос. На вечеринку у Шефа им полагалось добраться к семи тридцати, а сейчас уже перевалило за шесть.
Он сообщил ей, что стоит в пробке.
— Но она движется, мы только что повернули на Озумба Мбадиве.[14] Подъезжаю.
На шоссе Лекки[15] автомобильный поток под редеющим дождиком двигался ходко, и вскоре Гэбриел уже сигналил перед высокими черными воротами их дома. Жилистый привратник Мохаммед в обтерханном белом халате распахнул створки и приветственно вскинул руку. Обинзе оглядел рыжеватый дом с колоннадой. Внутри все обставлено мебелью, которую он привез из Италии, жена, двухгодовалая дочка Бучи, няня Кристиана, сестра жены Чиома на вынужденных каникулах, поскольку университетские преподаватели вновь устроили забастовку, и новая домработница Мари, которую выписали из Республики Бенин, после того как жена решила, что нигерийские домработницы не годятся. В комнатах повсюду прохладно, тихонько трепещут клапаны в отдушинах кондиционеров, а кухня благоухает карри и тимьяном, внизу включен Си-эн-эн, а наверху телевизор настроен на «Мультяшную сеть»,[16] и все это пропитывает невозмутимый дух благоденствия. Обинзе выбрался из машины. Походка у него была одеревеневшая, он с трудом поднимал ноги. В последние месяцы из-за всего, что обрел, он почувствовал себя раздувшимся — из-за семьи, домов, автомобилей, банковских счетов, — и время от времени его одолевало желание проткнуть все это булавкой, сдуть, освободиться. Он уже не был уверен — да и вообще-то никогда уверен не был, — доволен ли своей жизнью, потому что действительно доволен, или же доволен, потому что так полагается.
— Милый, — сказала Коси, открывая дверь прежде, чем он успел до нее добраться. Она уже накрасилась, лицо у нее сияло, и он подумал, как это частенько бывало, какая же она красавица: глаза — безупречный миндаль, поразительная симметрия черт. Платье из жатого шелка туго обхватывало талию, и фигурка выглядела совершенно как песочные часы. Он обнял ее, тщательно избегая губ, накрашенных розовым и обведенных розовым чуть темнее.
— Солнышко вечернее! Аса! Уго![17] — сказал он. — Шефу незачем включать на вечеринке свет, раз ты приедешь.
Она рассмеялась. Так же смеялась она — с открытым приемлющим удовольствием от собственной красоты, — когда люди спрашивали: «Не белая ли у вас мать? Вы метиска?» — такая она была светлокожая. Его это вечно расстраивало — радость, с какой она относилась к тому, что ее держат за полукровку.
— Папа-папа! — воскликнула Бучи, подбегая к нему чуть косолапо, как все малыши. Свеженькая после вечерней ванны, в цветастой пижаме, сладко пахнет детским кремом.
— Буч-буч! Папина Буч! — Он подхватил ее, поцеловал, потерся носом о дочкину шею и, поскольку это всегда смешило малышку, прикинулся, что роняет ее.
— Ополоснешься или просто переоденешься? — спросила Коси, поднимаясь вслед за ним по лестнице, где уже выложила для него на кровати синий кафтан. Он бы предпочел сорочку или кафтан попроще, не такой, чрезмерно украшенный вышивкой. Коси купила его за возмутительную сумму у одного из претенциозных дизайнеров с Острова. Но наденет — чтобы сделать ей приятно.
— Просто переоденусь, — сказал он.
— Как на работе? — спросила она неопределенно и любезно, как спрашивала всегда. Он сказал, что размышлял о новом многоквартирнике в Парквью,[18] который только что завершил. Надеялся, что его снимет «Шелл»: нефтяные компании — всегда лучшие съемщики, никогда не жалуются на резкое повышение цен, запросто платят в американских долларах, чтобы никому не возиться с плавающей найрой.
— Не волнуйся, — сказала она, коснувшись его плеча. — Бог приведет «Шелл». Все у нас будет хорошо, милый.
Квартиры на самом деле уже сняла некая нефтяная компания, но Обинзе иногда бессмысленно врал ей, вот как сейчас, — что-то в нем надеялось, что она спросит что-нибудь или надерзит, хотя знал, что такому не бывать: ей хотелось лишь, чтобы условия их жизни никак не менялись, а добиваться этого она полностью предоставила ему самому.
* * *
На вечеринке у Шефа ему, по обыкновению, будет скучно, но он все равно посещал все вечеринки у Шефа и всякий раз, когда ставил машину у обширных Шефовых владений, вспоминал, как впервые приехал сюда с двоюродной сестрой Ннеомой. Он только что вернулся из Англии, пробыл в Лагосе всего неделю, но Ннеома уже бурчала, дескать, сколько можно валяться на диване у нее в квартире, читать и кукситься.
— А, а! О гини?[19] У тебя у первого, что ли, такая беда? Надо шевелиться, хлопотать. Все хлопочут. Лагос, он хлопотливый, — говорила Ннеома. У нее были умелые руки с толстыми ладонями и многочисленные деловые интересы: в Дубай она ездила закупать золото, в Китай — женскую одежду, а недавно стала распространителем для одной компании, торгующей мороженой курятиной. — Я б сказала, помог бы ты мне по бизнесу, но нет, ты слишком мягкий, слишком много по-английски разговариваешь. Мне нужен человек гра-гра.[20]
Обинзе все еще потряхивало от того, что с ним случилось в Англии, он по-прежнему окукливался в слои жалости к себе, и вопрос Ннеомы «У тебя у первого, что ли, такая беда?» расстроил его. Ничего-то она не понимала, эта его сестрица, выросшая в деревне и смотревшая на мир простецки и черство. Но постепенно он осознал ее правоту: он не первый и не последний. Обинзе принялся устраиваться на работы, добытые по газетным объявлениям, но на собеседования его никто не звал, а школьные друзья, ныне трудившиеся в банках и компаниях мобильной связи, стали избегать его, боясь, что он начнет пихать им в руки свое резюме.
Однажды Ннеома сказала:
— Я знаю одного очень богатого человека — Шефа. Гонялся он за мной, гонялся, э, но я ему отказала. Бедовый он в смысле женщин, кого-нибудь СПИДом заразит. Ты ж знаешь таких: им женщина если скажет «нет», ее-то они как раз не забудут. Ну и вот он время от времени звонит мне, и я к нему приезжаю повидаться. Помог мне с капиталом даже, начать свое дело, после того как те бесовы дети украли у меня деньги в прошлом году. Все еще думает, я на него соглашусь когда-нибудь. Ха, о ди егву,[21] на кого? Я тебя к нему свожу. Дядя этот, когда в хорошем настроении, бывает очень щедрый. Всех в этой стране знает. Может, записочку даст какому-нибудь директору.
Дворецкий проводил их внутрь; Шеф сидел в позолоченном кресле, похожем на трон, потягивал коньяк, а вокруг толпились гости. Шеф, некрупный мужчина, жизнерадостный и бурливый, вскочил на ноги.
— Ннеома! Ты? Вспомнила сегодня обо мне! — воскликнул он. Обнял Ннеому, отстранился беспардонно оглядеть ее бедра, очерченные юбкой в обтяжку, волны наращенных локонов до плеч. — Хочешь мне инфаркт устроить, э?
— Как же я вам инфаркт устрою? Что мне без вас делать? — игриво отозвалась Ннеома.
— Сама знаешь, что делать, — сказал Шеф, и трое гостей, прожженных мужчин, заржали.
— Шеф, это мой двоюродный брат Обинзе. Его мать — сестра моего отца, профессорша, — сказала Ннеома. — Она платила за мою учебу в школе от начала до конца. Если б не она, я б неизвестно где нынче была.
— Чудесно, чудесно! — сказал Шеф, оглядывая Обинзе так, будто он как-то отвечает за подобную щедрость.
— Добрый вечер, сэр, — сказал Обинзе. Его поразило, что Шеф, оказывается, эдакий хлыщ, весь из себя привередливо ухоженный: ногти наманикюрены, блестят, черные бархатные туфли, крест с брильянтами на шее. Обинзе предполагал увидеть мужчину покрупнее, с внешностью посуровее.
— Присаживайся. Чего желаешь?
Большие Мужчины и Большие Женщины, как позднее выяснил Обинзе, разговаривали не с людьми — они разговаривали при людях, и в тот вечер Шеф говорил и говорил, проповедуя о политике, а гости его подпевали: «Точно! Вы правы, Шеф! Спасибо!» Все носили форменную одежду лагосских моложавых и франтоватых: кожаные мокасины, джинсы и рубашки с раскрытым воротом, сплошь знакомых модных марок, однако была в их манере настырная рьяность нуждающихся людей.
После того как гости отбыли, Шеф обратился к Ннеоме:
— Слыхала песню «Никто не знает, что там завтра?» — И продолжил петь с ребячливым смаком: — «Никто не знает, что там завтра! Что зав-тра! Никто не знает, что там завтра!»[22] — Очередной плюх коньяка в бокал. — На одном этом принципе живет вся страна. Это главный принцип. Никто не знает, что там завтра. Помнишь тех больших банкиров, при правительстве Абачи?[23] Думали, поимели себе эту страну, а потом раз — и в тюрьму их. Глянь на нищего, который за квартиру себе заплатить не мог, а потом Бабангида[24] дал ему нефтяную скважину, и у него теперь частный самолет! — Шеф вещал торжествующим тоном, пошлые обобщения предлагал как великие откровения, а Ннеома слушала, улыбалась и соглашалась. Оживлена она была понарошку, будто улыбка пошире и смешок пошустрее наводили на это эго все больший лоск и гарантировали, что Шеф им с Обинзе поможет. Обинзе веселило, насколько это вроде бы очевидно, до чего откровенна Ннеома в своих заигрываниях. Но Шеф всего лишь выдал им в подарок ящик вина и расплывчато сказал Обинзе:
— Заходи на той неделе.
Обинзе навестил Шефа на той неделе, а затем и на следующей: Ннеома велела болтаться рядом, пока Шеф что-нибудь для него не сделает. Дворецкий Шефа всегда подавал свежий перечный суп, остро душистые куски рыбы в бульоне, от которого у Обинзе текло из носа, прояснялась голова и как-то развиднялось будущее, он преисполнялся надежд и потому сидел себе довольный, слушал Шефа и его гостей. Они его завораживали — неприкрытый трепет почти богатых перед очень богатыми: иметь деньги, похоже, означало быть ими поглощенным. Обинзе это отвращало, он томился: жалел их, но и представлял, каково это — быть ими. Однажды Шеф выпил коньяка больше обычного и болтал без разбору о людях, что всаживают тебе нож в спину, и о маленьких мальчиках, у которых хвосты отрастают, и о неблагодарных дураках, которые вдруг начинают думать, что шибко умные. Обинзе не очень понимал, что именно произошло, но кто-то расстроил Шефа, возникла брешь, и, когда все ушли, он сказал:
— Шеф, если я могу чем-то помочь — вы, пожалуйста, скажите. На меня можете полагаться.
Эти слова поразили его самого. Он был сам не своей. Перебрал перечного супа. Вот что это означает — хлопотать. Обинзе — в Лагосе, тут приходится хлопотать.
Шеф глядел на него долго, проницательно.
— Нам таких, как ты, в этой стране нужно побольше. Людей из приличных семей, с хорошим воспитанием. Ты джентльмен, по глазам вижу. И мать у тебя профессорша. Нелегкое это дело.
Обинзе полуулыбнулся, изображая робость перед такой вот странной похвалой.
— Ты голодный и честный, в этой стране — большая редкость. Разве не так? — спросил Шеф.
— Так, — сказал Обинзе, хотя не был уверен, согласен он с тем, что в нем есть это качество, или же с тем, что качество это редкое. Но неважно: Шеф, похоже, не сомневался.
— Все в этой стране голодные, даже богатые люди, но честных нету.
Обинзе кивнул, и Шеф оделил его еще одним долгим взглядом, после чего молча вернулся к своему коньяку. В следующее посещение Шеф вновь был в своем болтливом настроении.
— Я дружил с Бабангидой. Дружил с Абачей. Теперь военных нету, я дружу с Обасанджо,[25] — сказал он. — Знаешь почему? Потому что я глупый?
— Разумеется, нет, Шеф, — сказал Обинзе.
— Говорят, Национальный союз поддержки сельского хозяйства разорился, приватизировать будут. Слыхал? Нет. А я откуда знаю? Потому что у меня друзья. Когда ты об этом узнаешь, я уже займу какой надо пост и наварюсь на арбитраже. Такой у нас свободный рынок! — Шеф рассмеялся. — Союз учредили в шестидесятых, у него собственность повсюду. Дома сплошь гнилье, термиты пожрали все перекрытия. Но оно продается. Я собираюсь купить семь владений по пять миллионов за каждое. Знаешь, почем они, если по-белому? Миллион. А чего они стоят на деле — знаешь? Пятьдесят миллионов. — Шеф умолк, уставился на один из зазвонивших мобильников — перед ним на столе их лежало четыре штуки, — пренебрег входящим вызовом и откинулся на спинку дивана. — Мне нужен кто-нибудь, чтоб вести эту сделку.