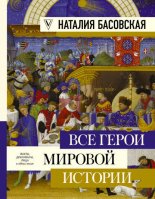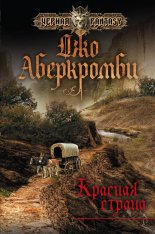Американха Адичи Чимаманда

— Они невкусные.
— Они по вкусу такие же, как обычные хлопья, Дике.
— Нет. — Дике снял с полки синюю коробку и поспешил к кассе.
— Эй, мальчуган! — Кассирша была дебелая и радушная, щеки красные, шелушившиеся от солнца. — Помогаешь мамочке?
— Дике, положи на место, — сказала тетя Уджу с гнусавым скользящим акцентом, какой она применяла в разговорах с белыми американцами, в присутствии белых американцев, заслышав белых американцев. «Па-ажи на-а-места». И с этим акцентом проступала и новая личина — виноватая и застенчивая. С кассиршей она вела себя чрезмерно подобострастно. — Простите, простите, — сказала она, копаясь в поисках дебетовой карты в кошельке.
Поскольку кассирша наблюдала за ними, тетя Уджу разрешила Дике взять ту коробку с хлопьями, но в машине схватила его за левое ухо, крутнула, дернула.
— Я тебе говорила никогда ничего в продуктовом не брать? Ты меня слышишь? Или хочешь, чтоб я тебя шлепнула, и тогда услышишь?
Дике прижал ухо рукой.
Тетя Уджу обратилась к Ифемелу:
— Вот как в этой стране плохо ведут себя дети. Джейн даже говорила мне, что ее дочка угрожает позвонить в полицию, когда Джейн ее бьет. Вообрази. Девочка не виновата, ее привезли в Америку, и ее тут научили, что можно звонить в полицию.
Ифемелу погладила Дике по коленке. Он не посмотрел на нее. Тетя Уджу вела машину чуточку слишком быстро.
* * *
Дике позвал из ванной, куда его отправили чистить зубы.
— Дике, и мечаго?[85] — спросила Ифемелу.
— Прошу тебя, не разговаривай с ним на игбо, — сказала тетя Уджу. — Он в двух языках запутается.
— Ты о чем вообще, тетя Уджу? Мы росли на двух языках.
— Тут Америка. Другое дело.
Ифемелу промолчала. Тетя Уджу закрыла учебник и уставилась в пустоту перед собой. Телевизор выключили, из ванной доносился звук бегущей воды.
— Тетя, что такое? — спросила Ифемелу. — Что стряслось?
— В смысле? Ничего не стряслось. — Тетя Уджу вздохнула. — Я провалила последний экзамен. Результаты получила как раз перед твоим приездом.
— Ох.
— Ни единого экзамена за всю жизнь не провалила. Но они не знания проверяли, а способность отвечать на хитрые вопросы с тремя вариантами ответов, которые не имеют никакого отношения к врачебным знаниям. — Она встала и ушла в кухню. — Я устала. Я так устала. Думала, что теперь-то все для нас с Дике станет получше. Мне тут никто не помогал, а деньги кончились так быстро, уму не постижимо. Я училась и пахала на трех работах. И продавщицей в магазине, и лаборанткой, даже в «Бургер Кинге» по нескольку часов.
— Все наладится, — беспомощно проговорила Ифемелу. И понимала, насколько это пустые слова. Все незнакомое. Она не могла утешить тетю Уджу, потому что не знала как. Когда тетя Уджу заговорила о своих подругах, приехавших в Америку раньше и сдавших экзамены, — Нкечи из Мэриленда прислала ей обеденный сервиз, Кеми из Индианы купила для нее кровать, Озависа из Хартфорда собрала для нее посуду и одежду, — Ифемелу произнесла «Боже, благослови их», но и эти слова показались неуклюжими и бестолковыми у нее во рту.
По разговорам с тетей Уджу по телефону Ифемелу решила, что тут все неплохо, но теперь осознала, до чего расплывчато тетя Уджу всегда говорила о «работе» и «экзаменах», без всяких подробностей. Или, может, потому что Ифемелу и не спрашивала о подробностях, считая, что ничего в них не поймет. И подумала, глядя на тетю Уджу, что прежняя тетя Уджу никогда бы не стала носить такие неопрятные косы. Никогда б не потерпела вросших волос, торчавших теперь у нее на подбородке, или затасканных брюк, что мешком висели у нее между ног. Америка усмирила ее.
Глава 10
То первое лето оказалось для Ифемелу летом ожидания: она чувствовала, что настоящая Америка — сразу за углом, осталось свернуть. Казалось, чего-то ждут даже дни, соскальзывавшие один в другой, вялые и прозрачные, с долгим вечерним солнцем. У жизни Ифемелу появилось это свойство оголенности, тлеющей пустоты, ни родителей, ни друзей, ни дома, ни знакомых предметов пейзажа, делавших ее тем, что она есть. И она ждала, писала Обинзе длинные, подробные письма, время от времени звонила — звонки, впрочем, были кратки, поскольку тетя Уджу предупредила, что тратиться на телефонные карточки не может, — и сидела с Дике. Он всего лишь ребенок, но с ним она чувствовала родство, близкое к дружбе. Они вместе смотрели его любимые мультсериалы — «Спиногрызов» и «Фрэнклина»,[86] вместе читали книги, и она приглядывала за ним, пока он играл с детьми Джейн. Джейн жила в соседней квартире. Они с мужем Марлоном происходили из Гренады и говорили с лирическим акцентом, словно того и гляди запоют.
— Они — как мы: у него хорошая работа, он целеустремленный — и они своих детей шлепают, — одобрительно сказала тетя Уджу.
Ифемелу с Джейн посмеялись, когда обнаружили, до чего похоже сложилось у них детство в Гренаде и в Нигерии, с книгами Энид Блайтон,[87] учителями и отцами-англофилами, боготворившими «Всемирную службу Би-би-си». Джейн была старше Ифемелу всего на несколько лет.
— Я очень рано вышла замуж. Марлона все хотели, как тут откажешь? — рассказала она полушутя.
Они сидели на крыльце их дома, смотрели, как Дике и дети Джейн, Элизабет и Джуниор, катаются по улице на велосипедах туда-сюда, Ифемелу покрикивала Дике не уезжать дальше, дети вопили, бетонные тротуары сияли на жарком солнце, а летнюю тишь прерывали лишь всплески музыки из проезжавших машин.
— Тебе все тут, должно быть, пока еще чужое, — сказала Джейн.
Ифемелу кивнула.
— Да.
На улицу выкатился фургон мороженщика, а с ним — бубенцы мелодийки.
— Знаешь, я тут уже десятый год, а все равно будто обживаюсь только, — продолжила Джейн. — Самое трудное — растить детей. Ты посмотри на Элизабет, с ней приходится очень осторожно. Если в этой стране не осторожничать, дети становятся невесть кем. Дома все иначе, над ними там власть имеешь. А тут — нет. — У Джейн был безобидный вид, лицо простое, руки тряские, но под легко возникавшей улыбкой таилась льдистая бдительность.
— Сколько ей? Десять? — спросила Ифемелу.
— Девять, а она уже пытается изображать истеричку. Мы платим приличные деньги, чтобы она ходила в частную школу, потому что от государственных тут никакого проку. Марлон говорит, что скоро переедем в пригород, чтобы дети ходили в школу получше. Иначе она начнет вести себя как черные американцы.
— В смысле?
— Не волнуйся, со временем поймешь, — сказала Джейн и встала — сходить за деньгами, детям на мороженое.
Ифемелу с радостью ждала таких посиделок с Джейн на крыльце, пока однажды вечером Марлон не явился с работы и не сказал Ифемелу торопливым шепотом, после того как Джейн ушла за лимонадом для детворы:
— Я думаю о тебе. Хочу поговорить.
Джейн она ничего не сказала. Та считать виноватым Марлона не станет ни в какую — ее светлокожего Марлона со светло-карими глазами, которого все хотели, и Ифемелу стала избегать их обоих, придумывать затейливые настольные игры, в которые они с Дике могли играть дома.
Как-то раз она спросила у Дике, чем он занимался в школе до лета, и он ответил:
— Кругами.
Их усаживали на пол в круг, и они рассказывали друг другу про то, что кому нравится.
Ифемелу ужаснулась.
— А ты делить умеешь?
Он посмотрел на нее странно:
— Я в первом классе, куз.
— Когда мне было как тебе, я уже знала простое деление.
У нее в уме засело убеждение, что американские дети в начальной школе ничему не учатся, и оно закрепилось, когда Дике рассказал ей, что их учитель иногда раздавал купоны на домашнюю работу: если тебе достался такой купон, можно в этот день домашку не делать. Круги, купоны на домашку — о каких еще глупостях она услышит? И Ифемелу взялась учить его математике — она именовала ее «матема», Дике говорил «мат», и они решили, что сокращать это слово не будут. Теперь она и не могла представить себе то лето, не вспоминая деление в столбик, наморщенный от растерянности лоб Дике, когда они сидели рядышком за обеденным столом, о своих колебаниях — подкупить его или наорать. Ладно, давай еще раз — и будет тебе мороженое. Не пойдешь играть, пока не сделаешь все без ошибок. Позднее, когда подрос, Дике сказал ей, что математика далась ему легко из-за того лета, в которое Ифемелу его мучила.
— Ты хочешь сказать — учила, — откликалась она, и это стало постоянной шуткой, к которой они время от времени прибегали как к лакомству.
То было и лето еды. Ифемелу привлекало незнакомое: гамбургеры в «Макдоналдсе» с отрывистым кислым хрустом огурчиков, этот новый вкус, который ей нынче нравился, а завтра — нет, рапы, которые тетя Уджу притаскивала домой, мокрые от острого соуса, вареная колбаса и пеперони, от которых во рту оставалась соленая пленка. Она терялась от пресности фруктов, словно природа забыла приправить покрепче апельсины и бананы, но было приятно на них смотреть, трогать их. Бананы такие здоровенные, такие равномерно желтые, что она прощала им травянистость. Однажды Дике сказал:
— А ты почему так делаешь? Ешь бананы с арахисом?
— Так едят в Нигерии. Хочешь попробовать?
— Нет, — ответил он решительно. — По-моему, Нигерия мне не нравится, куз.
Мороженое, к счастью, — неизменный вкус. Ифемелу загребала прямо из громадных лоханок «купи-одну-получи-вторую-даром» в морозилке, плюхи ванильного и шоколадного, и таращилась в телевизор. Она смотрела те же сериалы, что и в Нигерии, — «Новоявленного принца из Бель-Эйра», «Другой мир»,[88] и обнаружила новые, неведомые — «Друзья», «Симпсоны», но завораживала ее реклама. Она тосковала по жизни, которую там показывали, жизни, полной блаженства, где любой беде находился блестящий ответ в виде шампуней, автомобилей и полуфабрикатов, и у нее в голове они стали настоящей Америкой, — Америкой, которую она увидит, лишь когда осенью отправится учиться. Вечерние новости — этот поток пожаров и перестрелок — поначалу ошарашивали: она привыкла к новостям НТВ, где самодовольные военные перерезали ленточки или произносили речи. Но Ифемелу смотрела новости день за днем, на мужчин, уводимых прочь в наручниках, на несчастные семьи перед обугленными дымящимися домами, на обломки машин, разбитых в полицейских погонях, размытые записи магазинных ограблений, и тревога ее крепла. Она запаниковала из-за какого-то звука у окна, когда Дике укатился на велосипеде слишком далеко. Перестала выносить мусор в темноте — потому что снаружи мог притаиться человек с пистолетом. Тетя Уджу сказала, хохотнув:
— Будешь и дальше смотреть телевизор — решишь, что такое происходит постоянно. Ты знаешь, какая преступность в Нигерии? Может, потому, что мы не докладываем о ней так, как они тут?
Глава 11
Тетя Уджу возвращалась домой с сушеным лицом, напряженная, когда улицы были темны, а Дике — уже в постели, и спрашивала: «Почты мне не было? Почты мне не было?» Вопрос всегда повторялся, все ее существо — на опасной кромке, вот-вот опрокинется. Вечерами она иногда подолгу разговаривала по телефону, приглушенно, будто защищая что-то от пытливого внешнего мира. Наконец она рассказала Ифемелу о Бартоломью.
— Он бухгалтер, разведенный, хочет остепениться. Родом из Эзиовелле,[89] совсем рядом.
Ифемелу, потрясенная словами тети Уджу, смогла лишь выдавить:
— О, хорошо, — и ничего больше.
«Чем он занимается?» и «Откуда родом?» — такие вопросы задала бы ее мама, но когда это имело для тети Уджу значение — что родной город мужчины соседствует с ее?
Однажды в субботу Бартоломью приехал к ним из Массачусетса. Тетя Уджу приготовила потроха с перцем, припудрила лицо и встала к окну в гостиной — ждать, когда подъедет его машина. Дике наблюдал за ней, без настроения возясь с солдатиками, растерянный, но и взбудораженный — чувствовал ее предвкушение. Когда в дверь позвонили, она взволнованно велела Дике:
— Веди себя хорошо!
На Бартоломью были высоко поддернутые штаны-хаки, говорил он с американским акцентом, в котором зияли бреши, а слова путались так, что невозможно было разобрать. Ифемелу по его повадкам уловила жалкое провинциальное воспитание, которое он пытался уравновесить американским выговором, всеми этими «каэцца» и «хоцца».
Он глянул на Дике и проговорил почти безразлично:
— А, да, твой мальчик. Как дела?
— Хорошо, — промямлил Дике.
Ифемелу раздражало, что сын женщины, за которой Бартоломью ухаживает, ему совершенно не интересен, Бартоломью даже не прикидывается, что это не так. Он убийственно не подходил тете Уджу — и не был достоин ее. Человек поумнее осознал бы это и держался сдержаннее — но не Бартоломью. Гость вел себя чванливо, будто он — особый подарок, который тете Уджу повезло отхватить, а тетя Уджу ему потакала. Прежде чем отведать потроха, он сказал:
— Ну-ка поглядим, на что это годится.
Тетя Уджу рассмеялась, и у ее смеха был оттенок согласия, поскольку эти его слова: «Ну-ка поглядим, на что это годится» — были о том, хорошая ли она повариха, а значит, хорошая ли жена. Она вписалась в ритуалы, цвела улыбкой, какая обещала покорность ему, но не миру, бросилась подобрать его вилку, когда та выскользнула у него из рук, подала ему еще пива. Дике, сидя за столом, молча наблюдал, забросив игрушки. Бартоломью ел потроха и пил пиво. Говорил о нигерийской политике со страстью и пылом человека, наблюдавшего за ней издали, читавшего и перечитывавшего статьи в интернете.
— Смерть Кудират[90] — не зряшная, она подтолкнет демократическое движение так, как и жизнь-то не смогла! Я только что написал на эту тему статью в «Нигерийскую деревню».[91]
Он говорил, а тетя Уджу кивала, соглашаясь со всем. Между ними часто зияло молчание. Они сели смотреть телевизор — теледраму, предсказуемую, со множеством ярко отснятых кадров, в одном из них — девушка в коротком платье.
— В Нигерии девушки такие вот платья ни за что не наденут, — сказал Бартоломью. — Ты глянь. В этой стране никаких нравственных ориентиров.
Не стоило Ифемелу открывать рот, но имелось в Бартоломью что-то, делавшее молчание невозможным, такой он был чрезмерной карикатурой — с этим его забритым затылком, неизменным с тех пор, как он приехал в Америку тридцать лет назад, с этой его воспаленной нравственностью. Из тех людей, о ком у него в деревне, дома, сказали бы — «пропал». «Уехал в Америку и пропал, — говорили бы люди. — Уехал в Америку и отказался возвращаться».
— Девушки в Нигерии носят платья куда короче это-го-о, — сказала Ифемелу. — В средней школе кое-кто из нас переодевался у подруг дома, чтобы родители не знали.
Тетя Уджу повернулась к ней, глаза предостерегающе сощурены. Бартоломью глянул на нее и пожал плечами, словно ей и отвечать-то не стоило. Неприязнь бурлила меж ними. До конца вечера Бартоломью не обращал на нее внимания. Не обращал он на нее внимания и в будущем. Она потом почитала его публикации в «Нигерийской деревне», все в кислом тоне, нахрапистые, все под псевдонимом Массачусетский бухгалтер-игбо, и ее удивило, как безудержно он пишет, как настоятельно проталкивает затхлые свои доводы.
В Нигерию он не ездил много лет и, вероятно, нуждался в утешении онлайн-сообществ, где и малые замечания перерастали в нападки, где люди бросались личными оскорблениями. Ифемелу представляла себе тех пишущих — в невзрачных домах по всей Америке, жизни их омертвели от работы, — их прилежные сбережения в течение года, чтобы в декабре можно было сгонять домой на недельку, и приезжали они туда с полными чемоданами обуви, одежды и дешевых часов и наблюдали в глазах родственников собственные сияющие образы. Потом они вернутся в Америку и продолжат воевать в интернете за свои мифы о доме, потому что дом теперь стал размытым местом, между «здесь» и «там», но хотя бы в Сети можно пренебрегать осознанием, до чего незначительными они теперь стали.
Нигерийские женщины приезжают в Америку и срываются с цепи, писал Массачусетский бухгалтер-игбо в одном из своих постов; неприятная истина, однако необходимо ее признать. Иначе как еще объяснить высокий уровень разводов среди нигерийцев в Америке и низкий — среди нигерийцев в Нигерии? Русалка-из-Дельты ответила, что для женщин в Америке попросту имеются законы, защищающие их интересы, и будь такие же законы в Нигерии, уровень разводов сравнялся бы со здешним. Отклик Массачусетского бухгалтера-игбо: «Тебе Запад мозги промыл. Постыдилась бы называться нигерийкой». Отвечая Эзе Хаустон, написавшей, что нигерийские мужчины — циники, они возвращаются в Нигерию и стремятся жениться там на медсестрах и врачах только для того, чтобы их супруги зарабатывали им деньги в Америке, Массачусетский бухгалтер-игбо пишет: «А что плохого в том, что мужчина хочет финансовой устойчивости от собственной жены? Женщины разве хотят не того же?»
После его отъезда в ту субботу тетя Уджу спросила Ифемелу:
— Ну что?
— Он отбеливающими кремами пользуется.
— Что?
— Ты не увидела? У него лицо странного цвета. Наверняка применяет дешевые, без противозагарных добавок. Что за мужик будет себе кожу отбеливать, бико?
Тетя Уджу пожала плечами, будто не заметила зеленовато-желтый оттенок лица у этого мужчины — на висках и того хуже.
— Он неплохой. У него хорошая работа. — Она примолкла. — Я не молодею. Я хочу Дике брата или сестру.
— В Нигерии такой мужчина не набрался бы смелости даже заговорить с тобой.
— Мы не в Нигерии, Ифем.
Прежде чем отправиться в спальню, пошатываясь под тяжестью многих своих тревог, тетя Уджу сказала:
— Прошу тебя, молись, чтоб все получилось.
Ифемелу молиться не стала, но даже если бы взялась, не нашла бы в себе сил молиться за то, чтобы тетя Уджу сошлась с Бартоломью. Ее огорчало, что тетя Уджу согласилась на то, что попросту знакомо.
* * *
Из-за Обинзе Манхэттен пугал Ифемелу. Когда впервые проехалась на метро от Бруклина до Манхэттена, с потными руками, она отправилась гулять по улицам, глазеть, впитывать. Женщина, похожая на сильфа, бежит на высоких каблуках, короткое платье плещется следом, она спотыкается, чуть не падает; пухлый мужчина кашляет и сплевывает на тротуар; девушка во всем черном вскидывает руку, ловя пролетающее мимо такси. Бесконечные небоскребы устремляются в небо, а на окнах — грязь. Ослепительное несовершенство всего этого успокоило Ифемелу.
— Чудесно, однако не рай, — сказала она Обинзе. Не чаяла дождаться, когда и он увидит Манхэттен. Воображала, как они гуляют, держась за руки, словно американские пары, каких она тут перевидала, как мешкают у магазинной витрины, застревают почитать меню на двери ресторана, останавливаются у тележки с уличной едой — купить ледяные бутылки холодного чая. «Скоро», — сообщил он в письме. Они часто говорили друг другу «скоро», и это «скоро» придавало их плану вес чего-то всамделишного.
* * *
Наконец пришли результаты тети Уджу. Ифемелу вытащила конверт из почтового ящика, такой тощий, такой обычный, «Экзамен на врачебную лицензию Соединенных Штатов» отпечатано ровным шрифтом, и долго держала его в руках, желая изо всех сил, чтобы новости оказались хорошими. Вскинула конверт вверх, как только тетя Уджу переступила порог.
— Толстый? Толстый? — спрашивала она.
— Что? Гини? — спросила Ифемелу.
— Он толстый? — еще раз повторила тетя Уджу, бросив сумку на пол и приблизившись, протягивая руку, лицо перекошено надеждой. Забрала конверт и вскричала: — Получилось! — После чего распечатала, чтобы убедиться, вгляделась в тонкий листок бумаги. — Если провалился, они шлют толстый конверт, чтобы заново все подавать.
— Тетя! Я знала! Поздравляю!
Тетя Уджу обняла ее, они наскакивали друг на друга, слышали дыхание друг дружки, и к Ифемелу вернулось теплое воспоминание о Лагосе.
— Где Дике? — спросила тетя Уджу, словно его еще не уложили, когда она вернулась домой со второй работы. Она ушла в кухню, встала под яркий свет и еще раз всмотрелась в результат, глаза намокли. — Я, значит, буду семейным врачом в этой Америке, — проговорила она едва ли не шепотом. Открыла банку колы, но даже не пригубила.
Позднее сказала:
— Предстоит расплести косы и выпрямить волосы — для собеседований. Кеми сказала, что косы на собеседования нельзя. Если косы, они считают тебя непрофессиональной.
— То есть в Америке нет врачей с заплетенными волосами? — переспросила Ифемелу.
— Я тебе говорю, как мне сказали. Ты не в своей стране. Делаешь, что должен, если хочешь добиться успеха.
И вот она вновь, эта странная наивность, какой тетя Уджу укрывалась, словно одеялом. Иногда, разговаривая с ней, Ифемелу ловила себя на том, что тетя Уджу сознательно оставила в далеких забытых местах какую-то часть себя, что-то сущностное. Обинзе говорил, что это преувеличенная благодарность, какая сопутствует иммигрантской неуверенности в себе. Как это свойственно Обинзе — все объяснять. Обинзе, который был ей проводником все это лето ожидания, — его уверенный голос в телефонной трубке, длинные письма в голубых конвертах авиапочты, — который понимал, пока лето завершалось, то новое, что теперь снедало ее изнутри. Она рвалась начать учебу, обрести настоящую Америку, и все же не давала ей покоя тревога, новая, мучительная ностальгия по бруклинскому лету, ставшему таким знакомым: дети на велосипедах, жилистые черные мужчины в тугих белых майках, звонки фургона с мороженым, громкая музыка из машин без крыш, солнце, сияющее до ночи, и все, что гнило и смердело в волглом воздухе. Ифемелу не хотелось оставлять Дике — одна эта мысль порождала чувство утраченного сокровища, — и все же хотелось убраться из квартиры тети Уджу и начать жизнь, в которой границы будет определять лишь она сама.
Дике как-то рассказывал ей — с завистью — о своем друге, который съездил на Кони-Айленд и привез оттуда фотографию, сделанную на карусели — крутой горке, и на выходных перед своим отъездом она удивила его, объявив:
— Мы едем на Кони-Айленд!
Джейн объяснила ей, какой поезд годится, сколько это будет стоить. Тетя Уджу одобрила, но никаких денег сверх того, что у Ифемелу было, не добавила. Ифемелу смотрела, как Дике катается на каруселях, вопит от ужаса и восторга, мальчишка, совершенно открытый миру, и не жалела о расходах. Они ели хот-доги и сахарную вату, пили молочные коктейли.
— Скорей бы мне уже не ходить с тобой в девчачий туалет, — сказал он, и Ифемелу хохотала, не могла остановиться. На обратном пути в поезде Дике был усталый и сонный. — Куз, это у нас с тобой лучшайший день, — сказал он, прислонившись к ней.
Горько-сладким сиянием чистилища перед разлукой накрыло ее через несколько дней, когда она целовала Дике на прощанье — раз, другой, третий, пока Дике не расплакался, этот ребенок, совершенно не привычный к реву, Ифемелу тоже глотала слезы, а тетя Уджу повторяла и повторяла, что Филадельфия — это не очень далеко. Ифемелу вкатила чемоданы в метро, доехала до автостанции на 42-й улице и села в автобус до Филадельфии. Устроилась у окна — кто-то прилепил к стеклу жвачку — и долгие минуты изучала карточку соцстраха и водительские права, принадлежавшие Нгози Оконкво. Нгози Оконкво была лет на десять старше Ифемелу, с узким лицом, с бровями, что начинались как махонькие шарики, а затем раскидывались дугами, со скулами в виде буквы V.
— Я на нее совсем не похожа, — сказала Ифемелу, когда тетя Уджу выдала ей карточку.
— Мы для белых людей все выглядим одинаково, — сказала тетя Уджу.
— А, а, тетя!
— Я не шучу. Двоюродная сестра Амары приехала в прошлом году, и у нее еще нет бумаг на руках, вот она и работала по Амариным документам. Помнишь Амару? Сестра у нее очень светлокожая и худая. Они вообще друг на друга не похожи. Никто не заметил. Она работает сиделкой в Вирджинии. Просто хорошенько запомни свое новое имя — и все. У меня одна подруга забыла, ее коллега звал-звал, звал-звал, а она ноль внимания. Ее заподозрили и сдали иммиграционным службам.
Глава 12
Гиника стояла у маленькой людной автостанции — в мини-юбке и топе без бретелек, скрывавшем ей грудь, но не живот, — и ждала Ифемелу, чтобы подхватить ее и забросить в настоящую Америку. Гиника сделалась гораздо худее, вполовину себя прежней, голова смотрелась крупнее, покачивалась на длинной шее и наводила на мысли о неведомом диковинном животном. Гиника протянула руки, словно призывая ребенка в объятия, засмеялась и выкликнула:
— Ифемско! Ифемско!
Ифемелу на миг отбросило в среднюю школу: девчонки в сине-белых форменных платьях и валяных беретах сплетничают, толпясь в школьном коридоре. Они с Гиникой обнялись. От картинности их крепкого объятия, а затем отстранения, а следом вновь объятия у Ифемелу, как странно ей самой это ни было, навернулись слезы.
— Ты глянь! — сказала Гиника, размахивая руками, позвякивая многочисленными серебряными браслетами. — Ты ли это?
— А ты когда бросила есть и начала выглядеть как вяленая рыба? — спросила Ифемелу.
Гиника рассмеялась, схватила чемодан и повернулась к выходу:
— Давай, пошли. Я машину поставила где нельзя.
Зеленый «вольво» ждал на углу узкой улочки. Неулыбчивая женщина в форменной одежде и с брошюркой квитанций в руке топала им навстречу, но тут Гиника нырнула внутрь и завела мотор.
— Пронесло! — сказала она, хохоча.
Бездомный мужчина в затасканной футболке толкал перед собой тележку, набитую тюками, замер у машины, словно перевести дух, уставился перед собой в пустоту, Гиника покосилась на него, выкатываясь на улицу. Ехали с открытыми окнами. У Филадельфии был запах летнего солнца, опаленного асфальта, скворчащего мяса с уличных прилавков с едой на уличных углах; торговцы за прилавками — неведомые бурые мужчины и женщины. Ифемелу полюбятся продававшиеся здесь гиро,[92] лепешки и ягнятина с капающим отовсюду соусом — как полюбится и сама Филадельфия. В Филадельфии не восставал призрак устрашения, как на Манхэттене, она была задушевной, но не провинциальной, городом, какой способен быть к тебе добрым. Ифемелу видела на тротуарах женщин, отправлявшихся с работы обедать, в кроссовках — в доказательство их американского предпочтения удобства по сравнению с изяществом; видела накрепко сцепленные юные пары, они время от времени целовались, будто боясь, что если разжать объятие, то любовь растворится, растает в ничто.
— Я у хозяина квартиры одолжила машину. Не хотела забирать тебя на своей сраной тачке. В голове не умещается, Ифемско. Ты — в Америке! — сказала Гиника.
Незнакомый металлический блеск был в ее худощавости, в ее оливковой коже, короткой юбке, задравшейся еще выше, едва прикрывая пах, в ее прямых-препрямых волосах, которые она то и дело заправляла за уши, белокурые пряди сияли на солнце.
— Въезжаем в Университетский город, тут как раз студгородок Уэллсона,[93] шэй,[94] ты знаешь, да? Можем скататься глянуть на твой вуз, а потом двинем ко мне, в пригород, а вечером — в гости к моей подруге. У нее сходняк. — Гиника переключилась на нигерийский английский — на его видавший виды пережаренный вариант, рвалась доказать, что нисколечко не изменилась. Она с натужной преданностью все эти годы поддерживала связь: звонила, писала, слала книги и бесформенные штаны под названием «слаксы». И вот пожалуйста, теперь говорила «шэй, ты знаешь», а Ифемелу недоставало пороху сказать ей, что «шэй» уже никто не говорит.
Гиника вспоминала байки из ее первого времени в Америке, будто все они исполнены подспудной мудрости, какая потребуется Ифемелу.
— Ты бы слышала, как они ржали надо мной в старших классах, когда я сказала, что меня ухарили. Потому что «хариться» здесь означает «заниматься сексом»! Пришлось повторять и повторять, что в Нигерии это означает «утомили». И ты представляешь? «Полукровка» тут — ругательство. На первом курсе я рассказывала компашке друзей о том, как меня выбрали самой красивой девочкой во всей школе, еще дома. Помнишь? Не я должна была выиграть. Зайнаб — вот кто должен был. А все потому, что я полукровка. Но такого тут много. Есть всякое фуфло, от белых, какое им в отношении тебя сойдет с рук, а со мной нет. Ну короче, рассказываю я им о том, как там у нас всё и как все мальчишки за мной бегали, потому что я полукровка, а эти такие — ты себя опускаешь. Так что я теперь двухрасовый человек, а если кто-то зовет меня полукровкой, мне полагается обижаться. Я тут видала много народу, у кого белые матери, и у них сплошные заморочки, э. Я знать не знала, что мне заморочки полагается иметь, пока не приехала в Америку. Вот честно, если кому охота растить двухрасовых детей, лучше заниматься этим в Нигерии.
— Конечно. Где все мальчишки бегают за девчонками-полукровками.
— Не все мальчишки, кстати. — Гиника скорчила рожицу. — Обинзе бы поторапливался да приезжал в Штаты, пока тебя кто-нибудь не увел. У тебя тип тела, какой тут местным нравится.
— Что?
— Ты худая с большой грудью.
— Я тебя умоляю, я не худая. Я стройная.
— Американцы говорят «худая». Здесь «худая» — хорошее слово.
— Ты поэтому есть перестала? Попы как не бывало. Я всегда жалела, что у меня такой, как у тебя, нету, — сказала Ифемелу.
— Ты представляешь, я начала сбрасывать вес почти сразу, как приехала? Близка к анорексии была. В старших классах ребята обзывали меня Свининой. Понимаешь, дома, когда тебе говорят, что ты похудел, это означает плохое. А тут если говорят, что ты похудел, — говори спасибо. Здесь просто все по-другому, — сказала Гиника немножко завистливо, словно и сама она была в Америке новичком.
Позднее Ифемелу наблюдала за Гиникой дома у ее подруги Стефани — бутылка пива у губ, слова с американским акцентом вылетают изо рта — и поразилась, до чего похожа стала Гиника на своих американских подруг. Джессика, американка с японскими корнями, красивая, оживленная, крутила в руке фирменный ключ от своего «мерседеса». Бледнокожая Тереза — с громким смехом, в брильянтовых сережках-гвоздиках и в невзрачных поношенных туфлях. Стефани, американская китаянка, — с безупречным колышущимся каре, кончики волос загибаются к подбородку — время от времени лазила за сигаретами в сумочку с монограммой и выходила на улицу покурить. Хари — кожа кофейного оттенка, черные волосы, облегающая футболка — сказала, когда Гиника представила Ифемелу:
— Я индианка, а не американка индийского происхождения.
Все смеялись над одним и тем же и говорили «Отстой!» об одном и том же — хорошо спелись. Стефани объявила, что у нее в холодильнике есть домашнее пиво, и все выдали хором «Круто!». Следом Тереза сказала:
— А мне можно обычное пиво, Стеф? — тихим голосом человека, боящегося обидеть.
Ифемелу уселась в одинокое кресло в углу, попивала апельсиновый сок, слушала разговоры. «Эта компания — прям зло». «Боже ты мой, с ума сойти, сколько в этом сахара». «Интернет точняк изменит мир». Слышала, как Гиника спрашивает:
— Ты знала, что они в свой «холодок» из костей животных что-то там добавляют? — И все застонали.
Существовал некий шифр, каким владела Гиника, существовали методы бытия, которые она освоила. В отличие от тети Уджу Гиника приехала в Америку с гибкостью и пластикой юности, культурные сигналы проникли ей под кожу, и вот уж она ездила в кегельбан, знала о планах Тоби Магуайра[95] и считала, что оставлять ошметки еды в соуснице — отстой. Громоздились бутылки и банки из-под пива. Все полулежали в изящной истоме на диване и на ковре, а из дискового проигрывателя пер тяжелый рок, который Ифемелу сочла бестолковым шумом. Тереза пила быстрее всех и каждую следующую пустую банку запускала катиться по деревянному полу или по ковру, а все прочие воодушевленно хохотали, от чего Ифемелу растерялась, поскольку ничего особенно смешного в этом не нашла. Откуда они знали, когда смеяться — и над чем смеяться?
* * *
Гиника покупала платье к званому ужину, устраиваемому юристами, у которых она проходила практику.
— Тебе тоже надо вещичек, Ифем.
— Я и десяти кобо не потрачу без нужды.
— Десяти центов.
— Десяти центов.
— Я тебе дам куртку и постельное всякое, но рейтузы тебе точно нужны. Грядут холода.
— Разберусь, — сказала Ифемелу. И разберется. Если надо — наденет все, что есть, одновременно, слоями, пока не найдет работу. Расходы повергали ее в ужас.
— Ифем, я заплачу.
— Ты тоже, знаешь, не очень-то зарабатываешь.
— Ну хоть что-то зато, — отбрила ее Гиника.
— Очень надеюсь быстро найти работу.
— Найдешь, не волнуйся.
— Не понимаю, как хоть кто-то поверит, что я Нгози Оконкво.
— Не показывай никому права, когда на собеседование пойдешь. Просто карточку соцобеспечения покажи. Может, даже и не спросят. Иногда на таких вот мелких работах и не спрашивают.
Гиника привела ее в одежный магазин, где Ифемелу показалось слишком заполошно. Он напомнил ей ночной клуб: грохотала диско-музыка, внутри царил полумрак, а продавщицы, две худорукие девушки во всем черном, носились по залу чересчур шустро. Одна — шоколаднокожая, длинные черные пряди высветлены до рыжего, вторая — белая, она шла к ним, чернильные волосы плескались по воздуху.
— Привет, дамы, как ваши дела? Могу я вам чем-нибудь помочь? — спросила она переливчатым певучим голоском. Начала сдергивать одежду с вешалок, разворачивать то, что лежало на полках, и показывать Гинике.
Ифемелу поглядывала на ценники, пересчитывала в найры и восклицала:
— А, а! Как так, почему эта вещь столько стоит?
Выбирала и тщательно разглядывала то-сё, пыталась понять, что тут что — белье или блузка? рубашка или платье? — но временами все равно не была уверена.
— А вот это буквально только что приехало, — сказала продавщица об искрившемся платье, словно выдавая большую тайну, и Гиника воскликнула с громадным пылом:
— О боже мой, да неужели?
В излишне ярком свете примерочной Гиника надела то платье и вышла на цыпочках.
— Обожаю.
— Но оно же бесформенное, — сказала Ифемелу. Ей это платье показалось мешком, к которому кто-то заскучавший как попало пришил блестки.
— Это постмодерн, — объявила Гиника.
Наблюдая, как Гиника охорашивается перед зеркалом, Ифемелу задумалась, разделит ли и она со временем вкусы Гиники к бесформенным платьям, — может, вот это Америка с людьми и делает?
На кассе светленькая продавщица спросила:
— Вам кто-то помогал?
— Да, — сказала Гиника.
— Челси или Дженнифер?
— Простите, я не запомнила имя. — Гиника огляделась, чтобы показать на помощницу, но обе девушки исчезли в примерочных.
— Которая с длинными волосами? — уточнила кассирша.
— Ну, у них обеих волосы длинные.
— Брюнетка?
Брюнетки — обе.
Гиника улыбнулась и посмотрела на кассиршу, кассирша улыбнулась и посмотрела на экран компьютера, и две клеклые секунды проползи, прежде чем кассирша вымолвила:
— Ничего страшного. Я позже разберусь и прослежу, чтобы ей достался процент.
Выходя из магазина, Ифемелу сказала:
— Я все ждала, когда она спросит: «Которая с парой глаз или с парой ног?» Чего было не спросить: «Черная или белая?»
Гиника рассмеялась.
— Потому что это Америка. Тут положено делать вид, что некоторых вещей не замечаешь.
* * *
Гиника звала Ифемелу пожить с ней, сэкономить на съеме, но ее квартира была слишком далеко, в самом конце Главной линии, и кататься каждый день на поезде в Филадельфию выходило чересчур дорого. Они вместе поискали квартиру в Западной Филадельфии, и Ифемелу поразили гниющие буфеты в кухнях, мыши, сновавшие по пустым спальням.
— Общага в Нсукке грязная была, но хоть без крыс-о.
— Это мышь, — сказала Гиника.
Ифемелу уже собралась подписать договор на съем — если экономия означала жить с мышами, пусть так, — но тут подруга Гиники сказала им, что можно снять комнату на отличных, по университетским понятиям, условиях. Комната находилась в четырехкомнатной квартире с плесневелым ковровым покрытием, над пиццерией на Пауэлтон-авеню, на углу, где наркоманы время от времени роняли трубки для крэка — жалкие огрызки перекрученного металла, блестевшего на солнце. Комната Ифемелу — самая дешевая, самая маленькая, окнами на старую кирпичную стену соседнего здания. В воздухе витала собачья шерсть. Ее соседки — Джеки, Элена и Эллисон — выглядели почти взаимозаменяемо, каштановые волосы выпрямлены, клюшки для лакросса свалены в углу. По дому болталась собака Элены, здоровенная, черная, похожая на косматого ослика; иногда внизу лестницы возникала кучка собачьего дерьма, и Элена кричала, словно отыгрывая спектакль для соседок, роль, текст которой был всем известен:
— Ну ты и вляпался по-крупному, дружочек!
Ифемелу предпочла бы, чтоб собака жила на улице, где ей и место. Когда Элена спросила, почему Ифемелу за целую неделю после въезда ни разу не погладила ее собаку или не почесала ей за ухом, Ифемелу ответила:
— Не люблю собак.
— Это типа культурная особенность?
— В смысле?
— В смысле, я типа знаю, что в Китае едят кошатину и собачатину.
— У меня есть друг, дома, вот он любит собак. А я — нет, вот и все.
— О, — сказала Элена и глянула на нее, нахмурившись, как Джеки и Эллисон посмотрели на нее до этого, когда она сказала, что ни разу не посещала кегельбан, будто размышляли как вообще можно стать нормальным человеком, не побывав в кегельбане. Ифемелу стояла на околице собственной жизни, делила холодильник и уборную, поверхностную близость с людьми, которых нисколько не знала. С людьми, жившими среди восклицательных знаков. «Великолепно! — часто говорили они. — Это великолепно!» С людьми, которые не терли кожу под душем: в ванной комнате громоздились шампуни, кондиционеры и гели, но не нашлось ни единой мочалки, и вот это — отсутствие мочалок — делало их для Ифемелу недосягаемо инопланетными. (Одно из самых ранних личных воспоминаний — ванная, ведро воды посередине, мама говорит: «Нгва, три между ног очень-очень хорошенько…», и Ифемелу чуточку перестаралась с луфой — чтобы показать маме, как здорово она может себя отмыть, и после этого несколько дней ковыляла, широко расставляя ноги.) Было в жизнях ее соседок нечто, происходившее по умолчанию, убежденная определенность, завораживавшая Ифемелу, так часто они говорили: «Пошли возьмем» — о чем угодно, что им нужно, будь то еще пива, пиццы, жареных куриных крылышек, алкоголя, словно это «возьмем» не требовало денег. Дома она привыкла, что люди сначала спрашивают: «Деньги есть?» — а потом строят подобные планы. Они бросали коробки из-под пиццы на кухонном столе, саму кухню оставляли в беспорядке на целые дни, а по выходным в гостиной собирались их друзья, холодильник набивали упаковками пива, на стульчаке возникали потеки засохшей мочи.
— Мы идем на вечеринку. Пошли с нами, будет веселуха! — сказала Джеки, и Ифемелу влезла в облегающие джинсы и блузку с американской проймой, одолженную у Гиники.