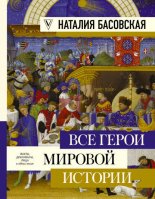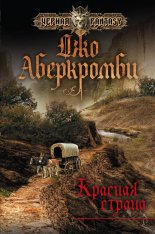Американха Адичи Чимаманда

— Найджел, я тот план задействовать не буду. Планировка с открытой кухней нигерийцам не подойдет никогда, а мы рассчитываем на нигерийцев, потому что продаем, а не сдаем. Открытые кухни — это для иностранцев, а иностранцы здесь недвижимость не покупают. — Он много раз говорил Найджелу, что нигерийская готовка — не косметическая, со всем ее толчением-колочением. Она потная, пряная, и нигерийцы предпочитают предъявлять конечный продукт, а не процесс.
— Никаких больше разговоров о работе! — жизнерадостно встряла Коси. — Ульрике, а вы пробовали нигерийскую еду?
Обинзе резко встал и ушел в туалет. Позвонил Ифемелу и ощутил, как звереет от того, что она не снимает трубку. Он винил ее. Он винил ее в том, что это она сделала из него человека, который не целиком владеет своими чувствами.
В туалет пришел Найджел.
— Что такое, кореш?
Щеки у Найджела пунцовели — как всегда, когда он выпивал. Обинзе стоял у раковины, вцепившись в телефон, и его вновь охватывало это опустошенное бессилие. Хотелось все рассказать Найджелу, Найджел, возможно, был единственным другом, кому Обинзе доверял полностью, но Найджелу нравилась Коси. «Она вся такая женщина, кореш», — сказал Найджел как-то раз, и Обинзе углядел в его глазах нежное сокрушенное томление мужчины о том, что для него навеки недосягаемо. Найджел выслушал бы его, но не понял.
— Прости, я зря нагрубил Ульрике, — сказал Обинзе. — Просто устал. Похоже, слягу с малярией.
В тот вечер Коси присела рядом с ним, предлагая себя. Не было в этом заявления о страсти — в том, как она ласкала ему грудь, как потянулась и взяла в ладонь его член, — а лишь обетованное подношение. Несколько месяцев назад она сказала, что хочет начать всерьез «стараться сына». Она не сказала «стараться второго ребенка», она сказала «стараться сына», таким вещам их учили в церкви. «Есть сила в слове произнесенном. Требуйте своего чуда». Он вспомнил, как после нескольких месяцев попыток забеременеть впервые она принялась бурчать с обиженной праведностью: «Все мои подруги, живущие в очень суровых условиях, уже беременны».
После рождения Бучи он согласился на благодарственный молебен в церкви у Коси, в зале, запруженном обильно разодетыми людьми — людьми, которые были друзьями Коси, ее породы. А он считал их морем невежественных мужланов, хлопавших в ладоши, раскачивавшихся невежественных мужланов, и все они смотрели в рот и угождали пастору, обряженному в дизайнерский костюм.
— Что такое, милый? — спросила Коси, когда он так и остался вялым в ее руках. — Ты хорошо себя чувствуешь?
— Просто устал.
Волосы ей укрывала черная сеточка, лицо — в креме, пахшем мятой, и ему это всегда нравилось. Он отвернулся от нее. Он отворачивался от нее с того дня, когда впервые поцеловался с Ифемелу. Нельзя сравнивать — но он сравнивал. Ифемелу требовала от него: «Нет, не кончай пока, я тебя урою, если кончишь». Или: «Нет, детка, не двигайся», а затем впивалась ему в грудь и двигалась в своем ритме, а когда наконец изгибалась назад и испускала резкий крик, он чувствовал свершенье — он ее удовлетворил. Она рассчитывала на это, а Коси — нет. Коси всегда встречала его прикосновения смиренно, а иногда он воображал, как ее пастор говорит ей, что жена должна заниматься сексом с мужем, даже если ей не хочется, иначе муж найдет утешение в объятиях какой-нибудь Иезавели.
— Надеюсь, ты не заболеваешь, — сказала она.
— Я в порядке.
Обычно он обнимал ее, медленно оглаживал по спине, пока она не засыпала. Но сейчас не мог себя заставить. Сколько раз за прошедшие недели он принимался говорить ей об Ифемелу, но бросал. Что он мог сказать? Выйдет, как в дурацком кино. «Я влюблен в другую женщину». «У меня есть другая». «Я от тебя ухожу». Что подобные слова можно произносить всерьез, не в фильме и не на страницах книги, казалось странным. Коси обвила его руками. Он выпростался, пробормотал, что у него как-то не так с желудком, и ушел в туалет. Она составила новые сухие духи — смесь листочков и семян в пурпурной вазе, на крышке бачка. Чрезмерный лавандовый запах удушил его. Он вытряхнул содержимое вазы в унитаз и тут же раскаялся. Она хотела как лучше. Она не знала, что слишком сильный аромат лаванды покажется ему неприятным, в конце-то концов.
После того как впервые увиделся с Ифемелу в «Джаз-Берлоге», он, вернувшись домой, сказал Коси:
— Ифемелу в городе. Нужно было с ней выпить, — и Коси отозвалась:
— О, твоя подружка из университета, — с безразличием настолько безразличным, что Обинзе в него поверил не целиком.
Зачем он ей сказал? Может, потому что улавливал, уже тогда, всю силу своих чувств и хотел подготовить Коси, донести до нее поэтапно. Но как она могла не видеть, что он изменился? Как она могла не видеть этого у него на лице? Того, сколько времени он проводил у себя в кабинете, как часто отлучался, как поздно являлся домой? Он надеялся — эгоистично, — что это ее оттолкнет, побудит действовать. Но она всегда кивала — легко, покладисто, — когда он говорил ей, что был в клубе. Или у Оквудибы. Однажды сказал, что до сих пор дожимает трудную сделку с новыми арабскими хозяевами «Мегателя», и слово «сделка» произнес походя, будто она уже знала, о чем речь, и она ответила смутными звуками поддержки. Но с «Мегателем» он вообще никак не был связан.
* * *
Наутро он проснулся неотдохнувшим, ум — в накипи громадной печали. Коси уже встала и помылась, сидела перед туалетным столиком, заставленным кремами и снадобьями в таком порядке, что он иногда представлял себе, как подсовывает руки под столик и переворачивает его — просто посмотреть, как разлетятся скляночки.
— Ты мне уже давно омлет не делал, Зед, — сказала она и подошла поцеловать его.
Он сделал ей омлет, поиграл в гостиной с Бучи, а после того как та прилегла, почитал газеты, но все это время мысли его заволакивало печалью. Ифемелу по-прежнему не принимала его звонки. Он поднялся в спальню. Коси разбирала вещи в шкафу. Гора туфель, каблуки торчком, лежала на полу. Он встал в дверях и сказал тихо:
— Я несчастен, Коси. Я люблю другую. Хочу развестись. Я сделаю все, чтобы вы с Бучи ни в чем не нуждались.
— Что? — Она отвернулась от зеркала — глянула на него непонимающе.
— Я несчастлив. — Не так он собирался это все сказать, но и не планировал, что говорить. — Я люблю другую. Я сделаю все…
Она вскинула руку, открытой ладонью к нему, чтобы он прекратил говорить. Ни слова больше, предупреждала ее ладонь. Ни слова больше. И его задело, что она не желает знать больше. Ладонь ее была бледна, едва ли не прозрачна, и он видел зеленоватые перекрестья вен. Она опустила руку. А затем медленно рухнула на колени. Это далось ей легко — коленопреклонение, — она делала это часто, когда молилась в телекомнате наверху, со всеми домработницами, няней и кто бы там еще с ними ни жил. «Бучи, ш-ш», — говорила она между словами молитвы, а Бучи все лопотала на своем детском языке, но в конце Бучи всегда взвизгивала высоким писклявым голоском: «Аминь!» Когда Бучи произносила «Аминь!» — с восторгом, смачно, — Обинзе боялся, что из нее вырастет женщина, какая одним этим словом «Аминь!» будет мозжить вопросы, какие захочет задать миру. И вот теперь Коси пала на колени перед ним, и он не желал понимать, что она делает.
— Обинзе, это семья, — сказала Коси. — У нас ребенок. Ты ей нужен. Ты нужен мне. Нам нужно сохранить семью.
Она стояла на коленях и просила его не уходить, а он жалел, что она не беснуется.
— Коси, я люблю другую женщину. Мне ужасно вот так тебя ранить, и…
— Дело не в женщине, Обинзе, — прервала его Коси, поднимаясь с пола, в голосе появилась сталь, взгляд ожесточился. — А в том, чтобы сохранить эту семью! Ты принес клятву Богу. Я принесла клятву Богу. Я хорошая жена. У нас брак. Ты думаешь, можно разрушить эту семью, потому что при ехала твоя старая подружка? Ты знаешь, что такое «ответственный отец»? У тебя ответственность перед ребенком, который внизу! Ты сегодня рушишь ее жизнь и делаешь ее ущербной до конца ее дней! И все из-за того, что твоя подружка из Америки приехала? Потому что у вас акробатический секс, который напомнил тебе университетские деньки?
Обинзе попятился. Она все-таки знала. Он ушел к себе в кабинет и заперся там. Он презирал Коси — за то, что она знала все это время, но делала вид, что не знает, за жижу унижения у себя внутри. Он прятал секрет, который и не секрет вовсе. Многослойная виноватость обременила его — виноватость не только за то, что он ждал, как бы бросить Коси, но и за то, что вообще на ней женился. Но не мог сначала жениться на ней, прекрасно зная, что не стоит этого делать, а теперь, уже с ребенком, желать ее бросить. Она решительно настроилась оставаться замужем, и уж это-то он ей должен — быть с ней в браке. При мысли об этом его пронзила паника: без Ифемелу будущее представлялось беспредельной, безрадостной скукой. И тогда он сказал себе, что все это глупо и театрально. Нужно думать о дочери. И все же, сидя в кресле, он крутнулся — поискать на полке книгу — и ощутил, что уже в бегах.
* * *
Поскольку он ушел к себе в кабинет и спал там на диване, поскольку они больше ничего не сказали друг другу, он решил, что назавтра Коси не захочет идти на крестины к ребенку его друга Ахмеда. Но утром Коси выложила на их кровать свою длинную синюю кружевную юбку, его синий сенегальский кафтан, а между ними — синее с оборками бархатное платье Бучи. Раньше она никогда так не делала — не выкладывала согласованные по цвету наряды для всех троих. Внизу он увидел, что она напекла блинов — толстых, как он любит, выставила на стол к завтраку. Бучи пролила «Овалтин»[245] на свою столовую подложку.
— Езекия названивает мне, — сказала Коси задумчиво; речь шла о ее двоюродном брате из Авки,[246] который звонил исключительно попросить денег. — Прислал СМС, пишет, что не может до тебя дорваться. Не понимаю, зачем он прикидывается, будто не знает, что ты не обращаешь внимания на его звонки.
Странно это было — слышать от нее такое. Говорит о том, что Езекия прикидывается, сама же по уши в притворстве: выкладывает кубики свежего ананаса ему в тарелку, словно вчерашнего вечера не бывало.
— Но ты должен сделать для него что-нибудь, хоть самую малость, иначе он не отцепится, — добавила она.
«Сделать для него что-нибудь» означало дать ему денег, и Обинзе вдруг возненавидел склонность игбо применять эвфемизмы всякий раз, когда речь заходила о деньгах, иносказания — ужимки, вместо того чтобы ткнуть пальцем. Найди что-нибудь для этого человека. Сделай что-нибудь для него. Его это бесило. Казалось трусливым, особенно среди людей, которые во всем остальном были ошпаривающе прямолинейны. «Блядский трус» — назвала его Ифемелу. Было что-то трусливое даже в его эсэмэсках и звонках ей: он знал, что она не ответит; мог бы поехать к ее дому, постучать к ней в дверь, пусть даже ради того, чтобы она велела ему уйти. И было что-то трусливое в том, что он не сказал повторно о своем желании развестись, в том, как он положился на легкость, с какой Коси все это отвергла.
Коси взяла кусочек ананаса с его тарелки, съела. Вела себя бестрепетно, целеустремленно, спокойно.
— Возьми папу за руку, — сказала она Бучи, когда они вошли на украшенную территорию дома Ахмеда в тот вечер. Коси желала вернуть нормальность на место.
Она желала воплощать крепкий брак. Она несла подарок, завернутый в серебряную бумагу, — ребенку Ахмеда. В машине сказала ему, что там, но он уже забыл. Среди обширных владений пестрели шатры и буфетные столы, все было зелено и ландшафтно продуманно, с намеком на бассейн в глубине. Играла живая музыка. Носились двое клоунов. Дети плясали и орали.
— У них те же музыканты, что были на празднике у Бучи, — прошептала Коси. Она хотела большой праздник — когда родилась Бучи, и о проплыл сквозь тот день, между ним и праздником — пузырь воздуха. Когда тамада произносил «молодой отец», Обинзе до странного ошарашивало, что тамада имеет в виду его, что он, Обинзе, и есть молодой отец. Отец.
Жена Ахмеда Сике обнимала Обинзе, щипала Бучи за щеки, вокруг толпились люди, воздух полнился смехом. Они повосторгались младенцем, спавшим на руках у очкастой бабушки. И тут до Обинзе дошло, что всего несколько лет назад они ходили по свадьбам, теперь вот — по крестинам, а вскоре начнутся похороны. Все умрут. Умрут, бредя по жизни, в которой не будут ни счастливы, ни несчастны. Он попытался стряхнуть мрачную тень, объявшую его. Коси забрала Бучи в стайку женщин и детей рядом со входом в гостиную, там играли во что-то, стоя в кругу, в центре — красногубый клоун. Обинзе глядел на дочь — на ее неуклюжую походку, на синюю ленту, усыпанную шелковыми цветочками, обхватывавшую ее голову с густой шевелюрой, как она умоляюще смотрела на Коси, и выражение ее лица напомнило ему о матери. Ему невыносима была мысль, что Бучи вырастет, злясь на него, что ей будет не хватать того, чем он для нее был. Но значимо не то, уйдет он от Коси или нет, а то, как часто он будет видеться с Бучи. Он же останется жить в Лагосе — и сделает все, чтобы видеться с дочкой как можно чаще. Многие растут без пап. Он и сам так, хотя при нем всегда был утешающий дух отца, идеализированный, застывший в радостных детских воспоминаниях. С тех пор как вернулась Ифемелу, он вдруг начал искать истории мужчин, оставивших семью, и желал всякий раз, чтобы эти истории завершались хорошо, чтобы дети расставшихся родителей оказывались довольнее, чем при родителях женатых, но несчастных. Но большинство историй были про обиженных детей, озлобленных разводом, про детей, желавших, чтобы родители жили вместе, пусть и несчастными. Однажды у него в клубе он навострил уши, когда некий молодой человек рассказывал друзьям о разводе своих родителей — как ему полегчало, потому что несчастье их было тяжким. «Их брак просто отрезал путь благословениям в нашей жизни, и, что хуже всего, они даже не ругались».
Обинзе, с другого конца бара, произнес: «Хорошо!» — и притянул к себе всеобщие странные взгляды.
Он все еще наблюдал, как Коси и Бучи беседуют с красногубым клоуном, когда прибыл Оквудиба.
— Зед!
Они обнялись, похлопали друг друга по спинам.
— Как Китай? — спросил Обинзе.
— Ох уж эти китайцы, э. Очень хитрый народ. Короче, предыдущие идиоты в моем проекте подписали с китайцами кучу несуразных сделок. Мы хотели пересмотреть некоторые соглашения, но китайцы — пятьдесят человек приходят на переговоры, притаскивают бумаги и попросту говорят тебе: «Подпиши тут, подпиши тут!» Замордуют торгом, пока не вынут из тебя все деньги — и кошелек в придачу. — Оквудиба хохотнул. — Пошли наверх. Я слыхал, Ахмед там все забил бутылками «Дом Периньон».
Наверху, где располагалось что-то вроде гостиной, тяжелые бордовые гардины оказались задернуты, дневной свет оставлен снаружи, а из середины потолка свисала яркая причудливая люстра, словно свадебный торт из хрусталя. Мужчины сидели вокруг обширного дубового стола, заставленного бутылками вина и чего покрепче, тарелками риса, мяса и салатов. Ахмед метался туда-сюда, раздавал указания обслуге, прислушивался к разговорам, вставлял реплику-другую.
— Богатым плевать на племя. Но чем ниже падаешь, тем племя для тебя значимее, — говорил Ахмед, когда появились Обинзе с Оквудибой. Обинзе нравилась Ахмедова сардоническая натура. Ахмед брал в аренду удачно расположенные крыши в Лагосе: мобильных компаний прибывало, и он теперь сдавал крыши для их станций и зарабатывал, как он сам ехидно говаривал, единственные чистые легкие деньги в стране.
Обинзе пожал руки гостям — со многими он был знаком — и попросил прислугу, молодую женщину, поставившую перед ним бокал, можно ли ему колы. Алкоголь погрузит его в трясину еще глубже. Он прислушался к беседам вокруг, к шуткам, подначкам, байкам и пересказам. А затем все начали — Обинзе знал, что так оно в конце концов и будет, — критиковать правительство: воруют, контракты не исполняют, инфраструктуру забросили гнить.
— Слушайте, в этой стране быть чиновником с чистыми руками очень непросто. Все устроено так, чтобы ты воровал. И, что хуже всего, люди хотят, чтобы ты воровал. Твои родственники хотят, твои друзья, — сказал Олу. Тощий, сутулый, скорый на похвальбу, какая прилагалась к его наследственному богатству, к знаменитой фамилии. Однажды ему вроде бы предложили пост министра, и он ответил, согласно городским байкам: «Но я не могу жить в Абудже, там нет воды, я не выдержу без своих яхт». Олу развелся с женой Моренике, университетской подругой Коси. Он часто донимал Моренике, лишь самую малость располневшую, чтобы похудела, чтобы подогревала в нем интерес к себе, оставаясь стройной. Пока шел развод, Моренике обнаружила заначку порнографических картинок на домашнем компьютере — сплошь безразмерные женщины, руки и животы в валиках жира — и пришла к выводу, а Коси согласилась, что у Олу — духовный крах. «Почему все должно быть духовным крахом? У человека фетиш такой, да и все», — сказал Обинзе Коси.
Теперь же Обинзе смотрел на Олу с пытливым весельем: поди знай людей.
— Беда не в том, что чиновники воруют, а в том, что воруют слишком много, — сказал Оквудиба. — Вы гляньте на губернаторов. Бросают свой штат, приезжают в Лагос скупить все земли подряд и не прикасаются к ним, пока не уйдут с поста. Вот почему нынче никому не под силу купить землю.
— Так и есть! Земельные спекулянты просто портят цены для всех. А спекулянты — ребята из правительства. В этой стране у нас серьезные неполадки, — сказал Ахмед.
— Но не только же в Нигерии. Земельные спекулянты — они всюду в мире, — сказал Езе. Езе был самым богатым человеком в этой гостиной, хозяин нефтяных скважин, и, как и многие нигерийские богатеи, нисколько не тревожился — самозабвенно счастливый человек. Он коллекционировал искусство — и всем докладывал, что его коллекционирует. Что напоминало Обинзе мать его друга, тетю Чинело, преподавателя литературы, которая вернулась из краткой поездки в Гарвард и сказала матери Обинзе за ужином у них в гостиной: «Беда в том, что у нас в стране очень отсталая буржуазия. Деньги у них есть, а утонченности недостает. Им надо начать разбираться в винах». На что мама мягко ответила: «Быть нищим в этом мире можно очень по-разному, но все больше кажется, что быть богатым можно только одним способом». Потом, когда тетя Чинело ушла, мама сказала: «Чушь какая. Зачем им разбираться в винах?» Обинзе это поразило — им нужно разбираться в винах — и в некотором смысле разочаровало: ему тетя Чинело всегда нравилась. Он вообразил, как кто-то говорит Езе нечто подобное — «тебе надо коллекционировать искусство», — и человек ринулся за искусством с пылом выдуманного увлечения. Всякий раз, когда Обинзе сталкивался с Езе и слушал его путаные речи о коллекции, его подмывало посоветовать Езе раздать все накопленное и освободиться.
— Цены на землю для таких, как ты, Езе, — не беда, — сказал Оквудиба.
Езе посмеялся — смех самодовольного согласия. Он снял свой красный клубный пиджак и повесил его на спинку стула. Он держался — во имя моды — на грани пижонства: всегда носил основные цвета, а пряжки у него на ремнях все сплошь были крупные и броские, как торчащие зубы.
На другом краю стола вещал Меккус:
— Представляете, мой шофер говорил, что сдал ЗАЭС, а я тут давеча велел ему составить список, так он писать не умеет вообще! Ни «мальчик» не знает, как пишется, ни «кот»! Красота!
— Кстати, о шоферах. Мой друг рассказывал мне тут, что его шофер — экономический гомосексуал, что он волочится за мужчинами, которые ему платят, а у самого при этом жена и дети дома, — сказал Ахмед.
— Экономический гомосексуал! — повторил кто-то под всеобщий хохот. Чарли Бомбей, похоже, особенно развеселился. У него было грубое исшрамленное лицо, такие люди чувствуют себя в своей тарелке в компании шумных мужчин, едят перченое мясо, пьют пиво и смотрят «Арсенал».
— Зед! Ты сегодня очень тихий, — сказал Оквудиба, уже на пятом бокале шампанского. — Ару адиква?[247] Обинзе пожал плечами.
— Все в порядке. Просто устал.
— Да Зед вечно тихий, — сказал Меккус. — Он джентльмен. Не потому ли он пришел с нами посидеть? Человек читает стихи и Шекспира. Настоящий англичанин. — Меккус громко рассмеялся над своей же не-шуткой. В университете он блестяще разбирался в электронике, чинил дисковые проигрыватели, считавшиеся безнадежными, а домашний компьютер Обинзе впервые в жизни увидел у Меккуса. Тот окончил вуз и уехал в Америку, но вскоре вернулся, очень скрытный и очень богатый — поговаривали, благодаря могучим махинациям с кредитными карточками. Его дом был нашпигован камерами наблюдения, а охрана снабжена автоматами. Ныне, при любом упоминании Америки в разговоре Меккус заявлял: «Знаешь, после того дельца, что я в Америке провернул, мне туда ходу нет», словно желая заглушить преследовавшие его шепотки.
— Да, Зед — серьезный джентльмен, — сказал Ахмед. — Представляете, Сике спрашивала меня, не знаю ли я кого-нибудь вроде Зеда, — познакомить с ее сестрой? Я ответил: а, а, ты не на таком, как я, сестру свою женить хочешь, а ищешь кого-то вроде Зеда, ну как такое-о!
— Нет, Зед помалкивает не потому, что он джентльмен, — сказал Чарли Бомбей, с этой своей оттяжечкой, с густым акцентом игбо, добавляя лишние слоги к словам, уже приняв полбутылки коньяка, которую собственнически установил перед собой. — А потому что хочет, чтобы никто не знал, сколько у него денег!
Все посмеялись. Обинзе всегда думалось, что Чарли Бомбей лупит жену. Оснований так считать не было никаких: Обинзе ничего не знал о личной жизни Чарли Бомбея, никогда не видел его жену. И все же, когда б ни встречал Чарли, представлял себе, как тот бьет жену — толстым кожаным ремнем. Казалось, его переполняет жестокость, этого вальяжного, могущественного человека, этого «крестного отца», оплатившего предвыборную кампанию своему губернатору и теперь державшего монополию почти во всех сферах дел у себя в штате.
— Не обращайте внимания на Зеда, он думает, будто мы не знаем, что он владеет половиной земель в Лекки, — сказал Езе.
Обинзе выдал обязательный смешок. Вытащил телефон и быстро написал Ифемелу: «Пожалуйста, поговори со мной».
— Мы не представлены, я Дапо, — сказал мужчина, сидевший по другую сторону от Оквудибы, и потянулся к Обинзе — рьяно пожать ему руку, словно Обинзе вдруг обрел бытие. Обинзе вяло принял протянутую ладонь. Чарли Бомбей упомянул о богатстве Обинзе, и тот внезапно сделался интересен Дапо.
— Вы и нефтью занимаетесь? — спросил Дапо.
— Нет, — коротко ответил Обинзе. Он слыхал обрывки предыдущих разговоров Дапо, о его работе в нефтяном консалтинге, о детях в Лондоне. Дапо, вероятно, из тех, кто засунул жену с детьми в Англию, а сам вернулся в Нигерию — гоняться за деньгами.
— Я вот говорил, что нигерийцы, вечно жалующиеся на нефтяные компании, не понимают, что экономика без этих компаний рухнет, — сказал Дапо.
— У вас полная путаница в голове, если вы считаете, что нефтяные компании делают нам одолжение, — сказал Обинзе. Оквудиба бросил на него оторопелый взгляд: холодность тона — совсем не в характере Обинзе. — Нигерийское правительство, по сути, финансирует нефтяную промышленность наличными вливаниями, а большая нефтянка все равно планирует сворачивать работу на суше. Они хотят оставить ее китайцам и сосредоточиться на шельфовой добыче. Это ж параллельная экономика: шельф оставить себе, вкладываться только в высокотехнологичное оборудование, качать нефть с глубины в тысячи километров. Никаких местных рабочих. Нефтяников привозят из Хьюстона и из Шотландии. Словом, нет, одолжения они нам не делают.
— Да! — воскликнул Меккус. — И они все — быдло, шваль. Все эти подводники-бурильщики, и глубоководные ныряльщики, и люди, которые умеют чинить обслуживающих роботов под водой. Шваль и быдло, все поголовно. Вы бы видели их в зале «Британских авиалиний». Они месяц торчат на вахте без всякого алкоголя, а когда добираются до аэропорта, то уже в сопли пьяные и на рейсе ведут себя как идиоты. У меня двоюродная работала стюардессой, так она рассказывала: дошло аж до того, что авиакомпания вынуждена была заставлять этих людей подписывать бумаги насчет питья, иначе их не брали на борт.
— Но Зед не летает «Британскими авиалиниями», откуда ему знать, — сказал Ахмед. Он как-то раз посмеялся над отказом Обинзе летать «Британскими авиалиниями», потому что ну все серьезные ребята летают только ими.
— Пока я был обычным для экономики человеком, «Британские авиалинии» обращались со мной как с дерьмом при поносе, — сказал Обинзе.
Мужчины рассмеялись. Обинзе надеялся, что у него задребезжит телефон, и эта надежда ему натирала. Встал.
— Мне бы в туалет.
— Прямо внизу, — сказал Меккус.
Оквудиба проводил его.
— Я домой, — сказал Обинзе. — Вот только найду Коси и Бучи.
— Зед, о гини? Что такое? Просто усталость?
Они стояли на изгибавшейся лестнице, отороченной причудливой балюстрадой.
— Ты же знаешь, Ифемелу вернулась, — сказал Обинзе, и одно лишь имя ее согрело его.
— Знаю. — Оквудиба подразумевал, что знает больше.
— Все серьезно. Я хочу жениться на ней.
— А, а, ты заделался мусульманином, а нам не сообщил?
— Окву, я не шучу. Вообще не надо было жениться на Коси. Я знал это уже тогда.
Оквудиба глубоко вдохнул и выдохнул, словно изгоняя алкоголь.
— Слушай, Зед, многие из нас не женились на женщинах, которых по-настоящему любили. Мы женились на женщинах, которые были под рукой, когда мы изготовились жениться. Выброси-ка из головы. Можешь с ней встречаться, но зачем вот эти прихваты белых? Если у твоей жены ребенок не от тебя или если ты ее бьешь — это повод для развода. Но встать и сказать, что у тебя никаких трудностей с женой, просто ты уходишь к другой? Хаба. Мы так не ведем себя, я тебя умоляю.
Коси и Бучи стояли у подножия лестницы. Бучи плакала.
— Она упала, — сказала Коси. — Сказала, пусть папа понесет.
Обинзе принялся спускаться.
— Буч-Буч! Что стряслось?
Не успел он дойти до нее, дочь уже вытянула руки — ждала его.
Глава 55
В один прекрасный день Ифемелу увидела танец самца павлина, перья распахнуты исполинским нимбом. Самочка стояла рядом, поклевывая что-то на земле, а затем, чуть погодя, ушла, безразличная к великому блеску перьев. Самец, казалось, пошатнулся — возможно, под грузом перьев или же отвержения. Ифемелу сделала снимок для блога. Задумалась, что увидит в этом снимке Обинзе, — помнила, как он однажды спросил, видела ли она танец самца. Воспоминания о нем так легко заполоняли ее мысли: посреди переговоров в рекламном агентстве ей вдруг приходило на ум, как Обинзе выщипывал пинцетом вросший волос у нее на подбородке, она лежала, задрав лицо, на подушке, а он был так близок, так внимателен в осмотре. Любое воспоминание ошарашивало ее своей ослепительной лучезарностью. Любое несло с собой ощущение неустранимой утраты, громадная тяжесть мчалась на Ифемелу, и ей хотелось увернуться, пригнуться так, чтобы миновало ее, чтобы могла она спастись. Любовь была своего рода горем. Вот что романисты имели в виду под страданием. Ей часто казалось, что глупая это мысль — страдания от любви, но теперь усвоила ее сама. Она тщательно избегала улицы на Виктории, где был его клуб, больше не ходила за покупками в «Пальмы» и представляла себе, что он тоже обходит стороной ее часть Икойи, держится подальше от «Джаз-Берлоги». Больше она на него не натыкалась.
Сперва она крутила «Йори-Йори» и «Оби му о» беспрестанно, а потом бросила: эти песни несли ей воспоминания о безвозвратности, словно панихида. Ее ранила вялость его эсэмэсок и звонков, безволие попыток. Он любил ее, она не сомневалась, но не хватало ему некоей силы: хребет размяк от обязательств. Когда она опубликовала пост, написанный после визита в компанию Раньинудо, о том, как государство разрушает сараи лоточников, анонимный комментатор написал: «Как стихи». И она знала, что это он. Знала, и всё.
Утро. Грузовик, государственный грузовик, останавливается рядом с высоким конторским зданием, рядом с сараями лоточников, высыпают люди, они долбят, крушат, ровняют с землей и топчут. Они уничтожают сараи, превращают их в плоские кучи досок. Они выполняют свою работу, несут на себе этот «снос», как деловой костюм с иголочки. Они сам и едят в таких сараях, и если все уличные торговцы исчезнут из Лагоса, то работяги останутся без обеда, им больше ничего не по карману. Но они крушат, топчут, бьют. Один лупит женщину — она не схватила свой котелок и пожитки и не убежала. Она не двигается с места и пытается с ними договориться. А затем лицо у нее горит от оплеухи, она смотрит, как ее печенье хоронят в пыли. Глаза возносятся к линялому небу. Она не знает, что будет делать, но что-то предпримет, она соберется, поднатужится и отправится куда-нибудь еще — продавать свою фасоль, рис и спагетти, разваренные едва ли не в кашу, свою колу и печенье.
Вечер. Рядом с высоким конторским зданием вянет дневной свет, ждут автобусы для персонала. Женщины идут к автобусам, на них шлепанцы без каблуков, они рассказывают медлительные пустяковые истории. Туфли на высоких каблуках они несут в сумках. У одной женщины из незастегнутой сумочки каблук торчит тупым кинжалом. Мужчины направляются к автобусам поспешнее. Они проходят под купой деревьев, где всего несколько часов назад располагалось место пропитания лоточников. Здесь шоферы и курьеры покупали себе обед. Но теперь сараев нет. Их стерли с лица земли, и ничего не осталось, ни единой потерявшейся обертки от печенья, ни бутылки, в которой когда-то была вода, — ничего, напоминающего о том, что здесь было.
Раньинудо подталкивала ее чаще выходить в свет, встречаться.
— Обинзе всегда был несколько понтоват, как ни крути, — сказала Раньинудо, и хотя Ифемелу понимала, что Раньинудо просто пытается ее утешить, все равно оторопела: не все поголовно, как сама она, считали Обинзе почти безупречным.
Она сочиняла посты для блога и думала, как он их воспримет. Она писала о модном показе, на котором побывала, о том, как модель кружилась в юбке из анкары,[248] живым росчерком синего и зеленого, похожая на надменную бабочку. Писала о женщине на углу улицы на Виктории, которая с удовольствием произнесла: «Ладная тетенька!» — когда Ифемелу остановилась купить яблок и апельсинов. Писала о видах из окна своей спальни: о белой цапле, нахохлившейся на стене владений, уставшей от жары; о привратнике, помогавшем лоточнице поднять поднос на голову, — жестом, столь исполненным изящества, что Ифемелу все стояла и смотрела уже после того, как лоточница скрылась из виду. Писала о дикторах на радио, про их акценты — фальшивые и смешные. Писала о склонности нигерийских женщин давать советы, искренние, пышущие нравоучением. Писала о затопленных районах, забитых оцинкованными лачугами, крыши — сплющенные шляпы; о молодых женщинах, обитавших там, модных и знающих толк в тугих джинсах, их жизнь упрямо приправлена надеждой: они стремились открыть свои парикмахерские, поступить в университет. Они верили, что их время настанет. «Мы всего в одном шаге от этой жизни в трущобах, все мы, ведущие жизнь среднего класса под кондиционерами», — писала Ифемелу и гадала, согласится ли с ней Обинзе. Боль его отсутствия со временем не умалилась, наоборот: казалось, она проникала все глубже с каждым днем, будила в ней воспоминания все яснее. Но Ифемелу обрела покой: быть дома, писать к себе в блог, открывать Лагос заново. Наконец-то она полностью погрузилась в бытие.
* * *
Она обратилась к прошлому. Позвонила Блейну — поздороваться, рассказать ему, что всегда считала его слишком хорошим, слишком чистым для себя, а он разговаривал неловко, словно недовольный ее звонком, но в конце сказал:
— Рад, что ты позвонила.
Она позвонила Кёрту — голос у него был бодрый, он бурно обрадовался ее звонку, и она представила, как они возвращаются друг к другу, их отношения без всякой глубины и боли.
— Это ты мне слал громадные суммы денег за блог? — спросила она.
— Нет, — сказал Кёрт, однако она колебалась, верить ему или нет. — Ты все еще ведешь блог?
— Да.
— На тему рас?
— Нет, просто о жизни. Раса тут неприменима. У меня такое ощущение, что я вышла из самолета в Лагосе и перестала быть черной.
— Точняк.
Она и забыла, до чего по-американски он общается.
— Со всеми остальными не так было, — сказал он. Услышав это, она порадовалась. Он позвонил ей поздно ночью по нигерийскому времени, и они поболтали о том, чем вместе занимались когда-то. Воспоминания теперь казались отполированными. Он смутно намекал, что приедет к ней в гости в Лагос, она отвечала смутными звуками согласия.
Однажды вечером, когда она зашла с Раньинудо и Земайе в «Терра Культуру»[249] посмотреть спектакль, наткнулась там на Фреда. Они уселись все вместе в ресторане, попить смузи.
— Приятный парень, — прошептала Раньинудо Ифемелу.
Поначалу Фред трепался, как и прежде, о музыке и искусстве, весь вязался в узлы от нужды произвести впечатление.
— Вот бы узнать, какой ты, когда ничего из себя не строишь, — сказала Ифемелу.
Он хохотнул.
— Приходи на свидание — узнаешь.
Повисло молчание, Раньинудо с Земайе смотрели на Ифемелу выжидательно, и ее это развеселило.
— Приду.
Он отвел ее в ночной клуб, а когда она сказала, что ей скучно от слишком громкой музыки, от дыма и от едва одетых чужих людей слишком близко от нее, он растерянно ответил, что ему тоже ночные клубы не нравятся, он просто счел, что они милы ей. Они смотрели вместе кино у нее дома, а потом — у него на квартире в Ониру,[250] где по стенам висели картины с арками. Ее удивило, что им нравятся одни и те же фильмы. Его повар, утонченный мужчина из Котону, делал полюбившуюся ей арахисовую похлебку. Фред играл ей на гитаре и пел хрипловатым голосом, рассказывал, что мечтал быть вокалистом в какой-нибудь фолковой группе. Он был миловиден — такой привлекательностью проникаешься постепенно. Он ей нравился. Он часто поправлял очки маленьким тычком пальца, и она считала это очаровательным. Они лежали у нее на кровати нагие, разморенные, теплые, и она жалела, что все не так, не иначе. Вот бы чувствовать то, что ей хотелось.
* * *
И тут, дремотным воскресным вечером, через семь месяцев после их окончательного разговора, на пороге ее квартиры возник Обинзе. Она воззрилась на него.
— Ифем, — произнес он.
До чего же ошеломительно было видеть его, эту выбритую голову и прекрасную нежность лица. Глаза у Обинзе горели, грудь ходила ходуном от тяжкого дыхания. В руках был длинный лист бумаги, испещренный мелкими записями.
— Я писал это для тебя. Вот то, что я бы хотел знать на твоем месте. О чем я думал. Я все записал.
Он подал ей листок, все еще дыша надсадно, а она все стояла и руки к бумаге не протянула.
— Я знаю, можно было бы принять все, чем мы не можем друг другу быть, и даже превратить это в поэтическую трагедию наших жизней. А можно действовать. Я хочу действовать. Коси — хорошая женщина, а мой брак — такое вот текучее благолепие, но мне не надо было на ней жениться. Я всегда знал, что чего-то не хватает. Я хочу растить Бучи, хочу видеться с ней каждый день. Но я все эти месяцы притворялся, и однажды она достаточно повзрослеет, чтобы понять, что я притворяюсь. Сегодня я съехал из дома. Поживу пока у себя в квартире в Парквью, надеюсь видеться с Бучи ежедневно, если получится. Знаю, я слишком долго протянул, понимаю, что ты двинулась дальше, и я полностью отдаю себе отчет, что ты сомневаешься и тебе нужно время.
Он примолк, помялся.
— Ифем, я за тобой бегаю. И собираюсь бегать, пока ты не дашь нам попробовать.
Она смотрела на него, долго-долго. Он говорил то, что она хотела услышать, но все равно продолжала смотреть.
— Потолок, — сказала она наконец. — Заходи.
Благодарности
Моя глубочайшая признательность — моей семье, читавшей черновики, рассказывавшей мне истории и приговаривавшей «джиси ике»,[251] когда мне необходимо было это услышать; семья чтила мою потребность в пространстве и времени и ни разу не поколебалась в этой странной и прекрасной вере, рожденной от любви: Джеймз и Грейс Адичи, Ивара Есеге, Иджеома Мадука, Уче Сонни-Эдупута, Чукс Адичи, Оби Мадука, Сонни Эдупута, Тинуке Адичи, Кене Адичи, Окей Адичи, Ннека Адичи Океке, Оге Икемелу и Уджу Эгону. Три милейших человека подарили этой книге столько времени и мудрости: Ике Анйя, ойи ди ка нванне;[252] Луи Эдозиен и Чинакуэзе Оньемелукве.
За ум и замечательную щедрость при чтении рукописи, местами — не по одному разу, за возможность увидеть моих персонажей их глазами, за то, что говорили мне, где получилось, а где — нет, я благодарна дорогим друзьям: Аслаку Сире Михре, Биньяванге Вайнайне, Чиоме Околи, Дэйву Эггерзу, Мухтару Бакаре, Рейчел Силвер, Ифеачо Нвоколо, Ким Нвосу, Колуму Маккэнну, Фунми Ийянде, Мартину Кеньону (любимому педанту), Аде Эчетебу, Танди Ньютон, Сими Досекун, Джейсону Каули, Чиназо Анье, Саймону Уотсону и Дуэйну Беттсу.
Благодарю редактора Робина Дессера из «Нопфа»; Николаса Пирсона, Минну Фрай и Мишель Кейн из «Форт Эстейт»; персонал агентства Уайли, особенно Чарлза Бьюкэна, Джеки K° и Эмму Пэттерсон; Сару Чэлфэнт, друга и агента — за незыблемое ощущение безопасности; и Гарвардский Рэдклиффский институт углубленных исследований — за кабинетик, залитый светом.