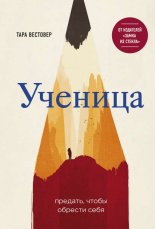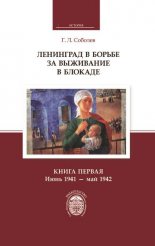Сталин и его подручные Рейфилд Дональд

Как во времена Ивана Грозного, церковь опять стала орудием государства. Уже тогда, когда Сталин впервые после начала войны обратился к народу в эфире, он всех ошеломил своим христианским воззванием «Братья и сестры!» вместо «товарищей». Восстанавливая православие, Сталин эффективнее, чем повторением старых лозунгов, поднимал боевой дух народа. К тому же США своевременно намекнули Сталину, что Конгресс не будет медлить с военными поставками, если он перестанет репрессировать священников и верующих. С тех пор православные митрополиты из СССР посещали международные съезды, где их возили в больших черных лимузинах в сопровождении таких видных атеистов, как Фадеев или Эренбург.
Русские интеллигенты никогда не забывали всплеск надежд, вызванный началом войны. Кое-кто уповал на поражение, уповая, что Гитлер устроит марионеточное государство, такое же сносное, как вишистская Франция; большая часть хотела победы, забывая, что после любой большой победы русское государство завинчивает гайки. За свою поддержку советские интеллигенты ожидали благодарности, хотя сталинское замечание о том, что «благодарность – собачья болезнь», было широко известно. Даже крестьяне предполагали, что Сталин заплатит за англо-американскую поддержку, и земля полнилась слухами, что взамен на помощь Черчилль и Рузвельт потребовали отмены колхозной системы.
Во время войны государство обращалось с писателями, композиторами и художниками как никогда более бережно. Очень немногие из них остались в Ленинграде во время блокады: их эвакуировали не на Волгу или на Урал, куда эвакуировали бюрократию и промышленность, а в более теплые края, такие как Ташкент, где еще можно было питаться мясом и фруктами. Из скудных запасов давали бумагу, чтобы печатать Ахматову и Пастернака. Заказывали симфонии; разрешали публичные чтения, которые превращали скромных писателей в звезд наравне с членами политбюро. Писатели, которые, как Симонов или Эренбург, писали репортажи с фронта, почувствовали себя тоже вождями. Писателей перестали сажать или расстреливать, хотя те из них, кто доживал свой век в ГУЛАГе, там и оставались, за уникальным исключением Заболоцкого. (Эренбург, Маршак и Тихонов обратились к Берия, и в марте 1945 г. Заболоцкого освободили от тяжелого труда, позволили работать чертежником и тем спасли ему жизнь.)
Из великих поэтов во время войны трагически погибла Марина Цветаева, в 1939 г. заманенная из эмиграции в Россию, несмотря на глухие предупреждения Пастернака. Ее мужа Эфрона убийцы НКВД расстреляли, сестру и дочь арестовали как французских шпионов, а ее саму не печатали. Эвакуированная с другими писателями в Елабугу, она голодала на чердаке и мыла посуду в столовой, где обедали более уважаемые писатели. Цветаева повесилась. Среди ее последних строк есть стихотворение, упрекающее поэтов, из которых никто, даже будто бы влюбленный Пастернак, не набрался смелости стать добрым самаритянином:
- И – гроба нет! Разлуки – нет!
- Стол расколдован, дом разбужен.
- Как смерть – на свадебный обед,
- Я – жизнь, пришедшая на ужин.
- …Никто: не брат, не сын, не муж,
- Не друг – и всё же укоряю:
- – Ты, стол накрывший на шесть – душ,
- Меня не посадивший – с краю (30).
Раскаявшийся Пастернак потом написал стихотворение в ее память и в 1943 г. смело читал его публике, но горечь в его строках приглушена до того, что отдает равнодушием:
- Ах, Марина, давно уже время,
- Да и труд не такой уж ахти,
- Твой заброшенный прах в реквиеме
- Из Елабуги перенести. […]
- Всегда загадочны утраты.
- В бесплодных розысках в ответ
- Я мучаюсь без результата:
- У смерти очертаний нет (31).
Весной 1943 г., вернувшись в Москву на пароходе, Пастернак дерзнул написать в судовом журнале: «Очень хорошая погода, мечтаю выкупаться и о свободе печати». В 1943 и 1944 гг. Всеволод Меркулов конспектировал для Сталина разговоры писателей (32). Например, критик Борис Вальбе размышлял:
«В конце концов это ирония судьбы, что мы проливаем кровь и разоряем страну ради укрепления англо-американского капитализма… Получается, что гитлеризм сыграл свою историческую роль, ибо спас капитализм от гибели».
У других воззрения были менее мрачны – С. Т. Морозов, внук мецената Саввы Морозова, счастливый тем, что не поплатился жизнью за свое происхождение, объявил: «Ясно, что после войны жизнь в стране должна резко измениться, под влиянием союзников правительство вынуждено будет решительно изменить внутренний курс. Весьма вероятно, что в стране возникнут оппозиционные партии». Летом 1943 г. многим казалось, что те генералы – Жуков, Рокоссовский, – которые выиграли войну, наберут такой политический вес, что станут диктаторами, и демобилизованные солдаты будут требовать роспуска колхозов и советской власти.
Только такие закоренелые скептики, как Виктор Шкловский (его брата, священника, расстреляли), провидчески догадывались, как поступит Сталин:
«Победа ничего не даст хорошего, она не внесет никаких изменений в строй, она не даст возможности писать по-своему и печатать написанное. А без победы – конец, мы погибли. Значит, выхода нет. Наш режим всегда был наиболее циничным из когда-либо существовавших, но антисемитизм коммунистической партии – это просто прелесть… Никакой надежды на благотворное влияние союзников у меня нет. Они будут объявлены империалистами с момента начала мирных переговоров. Нынешнее моральное убожество расцветет после войны».
Даже такой конформист, как Алексей Толстой, опасался, что, «когда война придет к завершению, нам еще придется драться со своими союзниками за дележ и переустройство Европы».
Романист Сергей Голубов с хмурой мудростью рассматривал будущее:
«Какие бы то ни было перемены в сторону улучшения жизни, освобождения мысли, творчества у нас исключены, ибо есть инерция власти, раз навсегда установившегося порядка. Власть не в состоянии сделать, если бы она того и захотела, даже маленьких послаблений в общественной жизни и колхозном быте, хозяйстве, ибо это может образовать щель, в которую хлынет все накопившееся недовольство. Просвета в будущем не видно».
Как многих советских писателей, Голубова удручала бедность: «Где еще, кроме как у нас, писателю могут задать такой дикий вопрос: не голодает ли он? Наши требования к жизни настолько снизились, что писателя можно облагодетельствовать пудом картошки и парой штанов».
К лету 1944 г. гасли последние искры оптимизма. Цензура так же немилосердно запрещала книги, тупое партийное руководство так же грубо, как раньше, распекало писателей. Корней Чуковский жаловался на то, что
«…происходит страшнейшая централизация литературы, ее приспособление к задачам советской империи…
Я живу в антидемократической стране, в стране деспотизма, и поэтому должен быть готовым ко всему, что несет деспотия. Зависимость теперешней печати привела к молчанию талантов и визгу приспособленцев… С падением нацистской деспотии мир демократии встанет лицом к лицу с советской деспотией».
Сталин и Меркулов так же немилосердно подавили самоутверждение интеллигентов, как раздавили национальное самосознание чеченцев или крымских татар. Меркулов убедил Сталина, чтобы всех писателей, выражавших мятежные мнения, обрабатывал НКВД. Ежемесячные журналы, которые давали писателям доходы и выход на публику, попали под строжайший контроль, в них были назначены новые редакторы. Писателям и режиссерам велели производить эпопеи, показывающие мудрое и героическое руководство генералиссимуса Сталина.
Относительно молодых подручных Сталина, Георгия Маленкова и Андрея Жданова, которые были образованы лучше, чем средний член политбюро, обязали навести порядок среди художественной интеллигенции. Им больше всего досаждал ленинградский журнал «Звезда». Несмотря на суровое правление Жданова, ленинградцы еще питали иллюзию, что своим нечеловеческим подвигом во время блокады они заслужили право высказываться более откровенно. Стихи, напечатанные в журнале «Звезда», слишком подчеркивали грязную сторону войны – мосты из мерзлых трупов, гниль, желчь, тоску, туберкулез, проституцию. Сотрудники «Звезды» не поняли, что союз с Западом уже распался. Даже такой сталинист, как Николай Асеев, до того забылся, что предложил американцам:
- У вас – Авраам,
- у нас – Иосиф;
- от сердца к сердцу
- мост перебросив […]
- давайте построим
- новую библию (33).
Высокая самооценка интеллигенции и армейских генералов была невыносима для Сталина. Он и без того был озабочен тем, что его сатрапы начинали зазнаваться. Берия, Абакумов, Молотов и Маленков пользовались такой свободой, что ее пришлось резко и круто сократить. Как только летом 1945 г. в Потсдаме Сталин получил всё что хотел от союзников, он сам мог позволить себе отдохнуть. Однако все изменилось, когда американцы сбросили две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Вероятно, эти бомбы спасли больше жизней (если бы война с Японией велась другим оружием), чем унесли, но Советский Союз, до тех пор пренебрегавший военным потенциалом атомной энергии, вдруг лишился уверенности, что теперь вся Европа лежит у его ног. Без атомной бомбы в руках американцев и британцев можно было бы преобладающими силами Красной армии осуществить мечту Троцкого о союзе европейских и азиатских республик от Атлантики до Тихого океана.
Сталин уже девять лет не был в длительном отпуске и не видел Кавказа. 9 октября 1945 г. он выехал из Москвы в Сочи и оставался на юге так долго и сидел там так тихо, что начали расползаться слухи, что бразды правления возьмет в свои руки Молотов. Сталин и в самом деле был утомлен и страдал от атеросклероза. Но он приказал, чтобы ему высылали в Сочи конспекты британских и американских газетных статей о его здоровье. Его и смешили и раздражали домыслы о его плохом состоянии, но он оставался на юге до середины декабря и только тогда нагрянул в Москву.
10. Окаменение
Созели (Иосиф Джугашвили)[20]
- Наш Ниника состарился,
- Его богатырские плечи уж не служат ему […]
- Как смогла эта безутешная седина
- Сломить железную силу?
Дряхление вождя
Последние семь лет правления Сталина характеризуются процессом окаменения, атеросклерозом в буквальном и переносном смысле, на всех уровнях – от физического тела Сталина до государственного организма. Сталин тщетно возился с механизмами партии и правительства, ибо смена номенклатуры в действительности ничего не меняла. Назначали новых палачей, но сохраняли и старых. Главной заботой Сталина являлось укрепление структуры власти, чтобы она была прочно уравновешена, и тактика состояла в том, чтобы вызывать у подопечных постоянную взаимную ревность и мнительность и, важнее всего, страх перед вождем. Поскольку приближался 1947 г., страх и мнительность возрастали, так как каждый год, кончающийся цифрой 7, не только отмечал десятилетие революции, но и знаменовал новый виток репрессий. В 1927 г. Сталин выбросил за борт Троцкого, Зиновьева и Каменева и взял бразды правления в собственные руки; в 1937 г. он обрушил на народ Большой террор. Неудивительно, что к 1947 г. палачи ждали новой чистки.
Сталин, однако, стал менее энергичным и уже не всегда доводил свои дела до конца. Даже его феноменальная память стала давать сбои, а послевоенный мир требовал намного больше внимания, чем был способен уделить даже трудоголик, желавший единолично управлять страной. В 1930-х гг. иностранная политика состояла в том, чтобы заигрывать с Германией и с остальной Западной Европой, а не с блоком из НАТО и США. Китайская революция и корейская война требовали, чтобы Советский Союз защищал свои интересы, распад французской и британской колониальных империй создавал неустойчивое положение во всем мире, и Восточную Европу пришлось присоединить к советской империи. Даже эти проблемы отходили на второй план, когда Сталин думал о восстановлении СССР, где все – от сельского хозяйства и промышленности до морали – было искалечено войной.
Сталин был вынужден поручать другим решение дел, которые он привык решать сам. В то же время он отдалился от власти, погружаясь в эзотерические сферы науки, в лингвистику и биологию, вмешиваясь в дела, далеко выходящие за пределы его компетенции. Иногда Сталин настаивал на буквальном марксистском подходе к вопросу, иногда на применении здравого смысла. Как в науке, так и в политике он следовал двойной линии, то злопамятно репрессируя несогласных и непослушных, то прагматично поощряя инициативу. Политика Сталина в старости, кажется, была основана не на желании достичь самого целесообразного результата; скорее он старался парализовать разномыслие, расхождения во взглядах, в любом спорном вопросе частично поддерживая и частично осуждая обе стороны, так, чтобы ни фанатичный марксист, ни прагматичный реалист не мог взять верх. Тот паралич мысли и инициативы, который в конце концов развалит Советский Союз, вытекает из сталинских методов разоружения оппозиции. Это поняли его подручные: они перестраховывались и потихоньку укрепляли опоры собственной власти.
Взрывая бомбу
В декабре 1945 г. Сталин наконец прервал затянувшийся отпуск на Черном море. Оттуда он послал Светлане коробку с мандаринами, – нетипичный для него жест отцовской ласки, – и 1 декабря она ему написала:
«Я очень, очень рада, что ты здоров и хорошо отдыхаешь. А то москвичи, непривычные к твоему отсутствию, начали пускать слухи, что ты очень серьезно болен… ведь твои-то “верные стражи” и не скажут мне ничего, из всего тайну делают. […] Москвичей последние полмесяца стали жутко грабить и убивать по ночам какие-то бандиты и хулиганы. Доходит до того, что в центральных районах (по ул. Горького, например) люди боятся с наступлением темноты выходить на улицу» (1).
Уверенный, что без него царит хаос, относясь презрительно к своим подопечным, Сталин вернулся, чтобы перестроить весь механизм правительства. Умирающего Калинина он заменит Шверником, еще более подобострастным, до тех пор руководителем профсоюзов. С 1941 г. Сталин сам управлял всеми тремя ответвлениями власти: законодательным – Верховным Советом, где контролировал Шверника; идеологическим – партией, где был генеральным секретарем; исполнительным – Советом народных комиссаров, где был председателем. Он подыскивал подручных погибче и помоложе. Во время войны такие технократы, как Берия или Маленков, были незаменимы, а теперь нужны были идеологи, способные восстановить после войны тоталитарное государство.
Довоенных подручных Сталин понизил: Каганович перешел из транспорта на стройматериалы; маршал Ворошилов уехал председателем Союзной контрольной комиссии в Венгрии. Пока Сталин отдыхал, он поручил всю политику страны Берия, Маленкову, Микояну и Молотову. В декабре 1945 г. закатилась звезда Молотова; Сталин из Сочи осыпал всех четырех наркомов телеграммами:
«5 декабря. Дня три тому назад я предупредил Молотова по телефону, что отдел печати НКИД допустил ошибку, пропустив корреспонденцию газеты «Дейли Геральд» из Москвы, где излагались всякие небылицы и клеветнические измышления насчет нашего правительства, насчет взаимоотношений членов правительства и насчет Сталина. Молотов мне ответил, что он считал, что следует относиться к иностранным корреспондентам более либерально. […] Сегодня, однако, я читал корреспонденцию «Нью-Йорк Таймса», где излагаются всякие клеветнические штуки в более грубой форме. […]
6 декабря. Вашу шифровку получил. Я считаю ее совершенно неудовлетворительной. Она является результатом наивности трех, с одной стороны, ловкости рук четвертого члена, то есть Молотова, с другой стороны. […] Никто из нас не вправе единолично распоряжаться в деле изменения курса нашей политики. А Молотов присвоил себе это право. Почему, на каком основании? Не потому ли, что пасквили входят в план его работы? […] Я убедился в том, что Молотов не очень дорожит интересами нашего государства и престижем нашего правительства, лишь бы добиться популярности среди некоторых иностранных кругов. Я не могу больше считать такого товарища своим первым заместителем» (2).
Берия, Маленков и Микоян доложили Сталину:
«Вызвали Молотова к себе, прочли ему телеграмму полностью. Молотов, после некоторого раздумья, сказал, что он допустил кучу ошибок, но считает несправедливым недоверие к нему, прослезился» (3).
Среди «кучи ошибок» Молотова, разгневавших Сталина, было то, что он не получил права вето в Союзной контрольной комиссии по будущему Японии, что в Лондоне не возразил против участия Франции и Китая в оформлении мирных договоров с союзниками Германии. Сталин сослал Молотова постоянным представителем в ООН в Нью-Йорк, где тот сразу получил прозвище «Мистер Нет». На других наркомов Сталин тоже рассердился: например, Микоян забыл написать доклад о гаванях и перспективах рыболовства на только что приобретенных Курильских островах.
В марте 1946 г. Верховный совет переименовал наркоматы в министерства. Сталин объяснил новому Совету министров:
«Народный комиссар или вообще комиссар – отражает период неустоявшегося строя, период гражданской войны, период революционной ломки и прочее, и прочее. […] Война показала, что наш общественный строй очень крепко сидит. […] Уместно перейти от названия – народный комиссар к названию – министр.
Это народ поймет хорошо, потому что комиссаров чертова гибель. Путается народ. Бог его знает, кто выше» (4).
Звание министра мало помогало несчастным обруганным сатрапам: стоило только после прогноза хорошей погоды пойти дождю, и Сталин по телефону грозил увольнением. Такие вспышки гнева уже не приводили к летальному исходу, как десять лет назад, но они глубоко потрясали людей, до этого уверенных в прочности своей власти.
Весной 1946 г. Маленков, вслед за Молотовым и Микояном, впал в немилость. Маленков заправлял авиацией, и предлогом для его падения было письмо, полученное Сталиным от пьянствующего сына Василия, которого назначили на высокий пост в Военно-воздушных силах. Летчиков раньше расстреливали за то, что они жаловались Сталину на «летающие гробы», в то время как Василий безнаказанно распространялся об истребителе Як-9 и его крушениях. Сталин хорошо знал, что из 80 тыс. самолетов, потерянных во время войны, половина потерпела аварию из-за механических неисправностей. В поддержку письма Василия Абакумов собрал статистику, сравнивающую успехи немецкого Люфтваффе с провалами советской авиации. Сталин сразу уволил Алексея Шахурина, министра авиационной промышленности, и приказал Абакумову арестовать его вместе с маршалом авиации Александром Новиковым. Оба получили семь лет тюрьмы. На настоящего виновника, однако, указало постановление политбюро 4 мая 1946 г.:
«Постановить, что т. Маленков, как шеф над авиационной промышленностью и по приемке самолетов – над военно-воздушными силами, морально отвечает за те безобразия, которые вскрыты в работе этих ведомств (выпуск и приемка недоброкачественных самолетов), что он, зная об этих безобразиях, не сигнализировал о них ЦК ВКП(б).
Признать необходимым вывести т. Маленкова из состава Секретариата ЦК ВКП(б)» (5).
До этого постановления сорокапятилетний Маленков считался, наряду со своим соперником Андреем Ждановым, самым вероятным наследником Сталина. Теперь его отправили в Казахстан, правда, не в лагеря, но все-таки на оскорбительно низкую для вчерашнего секретаря ЦК должность (6).
Только Берия казался непотопляемым. Правда, и он ушел из своего министерства, но ушел для того, чтобы руководить разработкой советской атомной бомбы. Он продолжал заведовать в политбюро внутренними делами. Новый министр внутренних дел, Сергей Круглов, был, несмотря на свои зверские навыки, по самой своей природе сухим бюрократом, который старался превратить ГУЛАГ в неисчерпаемый источник рабского труда для новых судоходных каналов, которыми так увлекался Сталин. Круглов по приказу Сталина собрал 200 тыс. политических заключенных в особые лагеря, где их подвергали такой беспощадной эксплуатации, что средний заключенный дольше трех лет не выдерживал. Единственным утешением этих зэков было то, что их больше не мучили, не насиловали, не грабили и не убивали уголовники.
Берия пришлось работать без своего услужливого и учтивого подчиненного, Всеволода Меркулова, который был изгнан из Министерства госбезопасности (МГБ). На этот пост Сталин выдвинул Виктора Абакумова, с которым у Берия отношения были неважные. У Берия, как члена политбюро, сохранилась своя доля влияния в МГБ, и Абакумов не мог избавиться от оставшихся там грузин. Но Абакумов привел с собой двух генералов из Смерша. Один из них был Сергей Огольцов, сам хитро отказавшийся от министерства по «недостатку опыта», хотя стал чекистом в восемнадцать лет, терроризировал Украину и в блокадном Ленинграде расстрелял 32 видных ученых за контрреволюцию. Абакумов, как и Берия, редко увольнял своих подчиненных и терпел двух особенно опасных бериевцев, Гоглидзе на Дальнем Востоке и Цанаву в Белоруссии, хотя и сумел избавиться от Рапавы, которого Берия назначил главой НКВД в Грузии. Любимый латыш Берия, Эглитис, тоже сохранил свой пост.
Берия давно собирал информацию об атомной бомбе. Уже в 1942 г. он получал через своих английских шпионов всю нужную информацию и даже расчеты. Он узнал, что произвести 10 кг обогащенного урана на треть дешевле, чем 1500 тонн взрывчатки (7). Поняв после Хиросимы эффективность, и военную и психологическую, атомного оружия, Сталин решил как можно быстрее создать советскую бомбу, но Молотов вел дело так вяло, что даже не собрал необходимого запаса урана. Берия получил от Сталина уверение, что создание бомбы является высшим приоритетом, и приступил к работе, догадываясь, что ценой неудачи будет расстрел.
Те четыре года, которые Берия потратил на создание бомбы, подтвердили его репутацию даровитого управленца. Он, без сомнения, получал столько же наслаждения от трудного инженерного проекта, сколько раньше от ареста и убийства врагов государства. Подражая организации американского проекта в Лос-Аламосе, он создал для советских физиков и инженеров творческую атмосферу и по тем временам роскошную обстановку. Из всех сталинских проектов только этот был закончен вовремя, почти без арестов и репрессий (8). Были, однако, несчитаные безымянные жертвы: тысячи заключенных умирали на добыче руды; другие арестанты строили лаборатории, особняки, гаражи, железные дороги, даже целые города. Десятки тысяч – целых три поколения – казахов были обречены на медленную смерть от излучения после испытания бомбы в 1949 г. Но в первый раз советские физики, химики и инженеры чувствовали себя героями труда, по-настоящему нужными государству.
Советская атомная бомба была сконструирована на основе сведений, полученных от западных ученых. Одни передавали тайны, потому что были коммунистами, другие – потому что верили, что будущих войн можно избежать, если у обеих сторон будет ядерное оружие, третьи – просто за деньги. Берия и Судоплатов гордились тем, что они так успешно реанимировали иностранную разведку, разрушенную Ежовым. МГБ учился ядерной физике у Клауса Фукса, металлургии – у Мелиты Норвуд. Всю Восточную Германию объездили в поисках физиков, студентов Вернера Хейзенберга, которые умели обогащать уран и производить тяжелую воду, и в поисках инженеров, которые строили ракеты V-2, бомбившие Лондон, которые теперь требовалось переделать в межконтинентальные носители новой атомной бомбы. Других физиков переселили из ГУЛАГа и из лагерей для военнопленных в санатории и виллы на Черном море с трехразовым питанием.
Первым делом Берия отыскал запасы урана. В июне 1946 г. Иван Серов с генералом Михаилом Мальцевым основали в Германии компанию «Висмут», где все работники были из МГБ. Компания получила двадцать семь месторождений в Верхней Саксонии, и к октябрю «Висмут» доставлял уран из старых шахт по добыче серебра и свинца. Потом уран нашли на Урале и на Крайнем Севере.
Затем Берия собрал команду ученых. Для поддержания дисциплины он назначил генерала Бориса Ванникова. Тот наводил страх на физиков, выкладывая на стол заряженный револьвер. Над проектом работали 100 тыс. человек, и обеспечение полной секретности Берия поручил Павлу Мешику, который помогал Смершу покорить Польшу. Берия постоянно надзирал за всеми и вся. У него был свой литерный поезд, на котором он ездил по всему Советскому Союзу, на полигоны в Сибири, на Урале, на Кавказе и в Казахстане. Он больше награждал, чем наказывал, и дал физикам ту же небывалую свободу, какую Сталин только что даровал церкви, – печататься без цензуры (9).
Физиком, который приспособил западную информацию к советским ресурсам, был Игорь Курчатов. Петр Капица, привыкший работать с лордом Резерфордом, был возмущен грубыми приказами Берия. В ноябре 1945 г. он жаловался Сталину:
«У тов. Берия основная слабость в том, что дирижер должен не только махать палочкой, но и понимать партитуру. С этим у Берии слабо. Но доя этого нужно работать, а черкать карандашом по проектам постановлений в председательском кресле – это еще не значит руководить проблемой. Следует, чтобы все руководящие товарищи, подобные Берия, дали почувствовать своим подчиненным, что ученые в этом деле ведущая, а не подчиненная сила» (10).
После того как оскорбленный Берия навестил Капицу в институте, тот отказался от участия в проекте. Мстительности Берия Сталин ходу не давал, пообещав: «Я его тебе сниму, но ты его не трогай». Капица провел следующие семь лет у себя на даче в собственной лаборатории.
Летом 1949 г. Игорь Курчатов привез в Кремль никелевое полушарие с критической массой плутония. Сталин погладил полушарие и почувствовал его теплоту. Утром 29 августа 1949 г. – на несколько лет раньше, чем предсказывали американцы, – советскую бомбу испытали в Казахстане. Эйфорию Берия подпортил Сталин, который, когда его разбудили рано утром телефонным звонком, хмуро отозвался на известие словами: «Я уже знаю». Курчатов и Берия роздали участникам дачи, автомобили, премии. Курчатов вспоминает, что у Берия была записная книжка, где была намечена целая серия наказаний всем по ранжиру – от расстрела до лагерного срока – в случае, если бомба не сработает. Награды были рассортированы таким же образом.
Подавление последних литераторов
Литераторам не посчастливилось так, как физикам: партия по-прежнему была убеждена, что компетентна в вопросах литературы. Андрею Жданову поручили обуздать литераторов, и, согласовывая все свои действия со Сталиным, он начал работу с крамольного Ленинграда. Предварительную критику предпринял отдел пропаганды ЦК: рассказы о войне считали негодными, если солдаты-герои проявляли пессимизм, а стихотворения – вредными, если в них оплакивались разрушенные города. Юмора Жданов не понимал совсем. В «Звезде» он разнес в пух и прах самый смешной рассказ Михаила Зощенко «Приключения обезьяны».
9 августа 1946 г. сам Сталин, вместе со Ждановым и только что реабилитированным, отрезвленным наказанием Маленковым, обругал редактора «Звезды» Виссариона Саянова за то, что тот напечатал пародию на Некрасова (11). Пародия, объяснил Сталин, есть «уловка, автор прикрывается». Из рассказов Зощенко, утверждал Сталин (хотя Зощенко он раньше любил читать вслух дочери), видно, что редакторы «перед заграничными писателями ходят на цыпочках». Из присутствующих на обсуждении писателей некоторые решили присоединиться к этому облаиванию. Драматург Всеволод Вишневский сказал Сталину, что в своей автобиографической повести «Перед восходом солнца» Зощенко «до грязного белья разделся», что персонажи у него сплошные «пьяные, калеки, инвалиды». Сталин окончательно проклял Зощенко как «проповедника безыдейности» и его творчество – как «злопыхательство». Потом Сталин дал волю своему негодованию на Ахматову: «…кроме того, что у нее есть старое имя, что еще можно найти у нее?» Когда один из писателей робко защищал Ахматову, заметив, что если ее не печатают в «Звезде», то ее напечатает «Знамя», Сталин ответил, что власти и до «Знамени» доберутся. В конце концов Сталин признал, что в «Звезде» был не только навоз, но и алмазы, и свалил вину за печатание Ахматовой и Зощенко на нездоровую идеологию Ленинграда. Ленинградские журналы получили новых редакторов, а Ахматова и Зощенко были подвергнуты опале. Разница между 1947 и 1937 гг. заключалась в том, что их не арестовали. Травля Зощенко не прекращалась. МТБ издало постановление об антисоветских взглядах Зощенко, о том, что он сомневался в победе Красной армии, что своими высказываниями о жалком состоянии советской литературы он оказывает вредное влияние на молодежь. В свою защиту Зощенко написал эмоциональное, но достойное письмо Сталину, и на какое-то время травля прекратилась.
В августе Сталин произнес перед оргбюро партии речь о просмотренных им фильмах. Ему не нравилось, что показывали бездомных шахтеров. Советские сценаристы, по его мнению, уступали Чарли Чаплину (12). По сравнению с Гете, тридцать лет работавшим над «Фаустом», советские поэты – лентяи (для Сталина «Фауст» всегда оставался мерилом высокого искусства). Сталину претила вторая серия фильма Эйзенштейна «Иван Грозный», где царя мучили угрызения совести и где опричники, которых Эйзенштейн якобы изобразил «как последних паршивцев, дегенератов, что-то вроде американского Ку-Клукс-Клана», предавались пьяной оргии.
Эти отзывы Сталина были истолкованы цензурой и редакциями как сигнал. Сразу начали запрещать, изымать, сокращать издания. Многотомное собрание сочинений Толстого, выходившее с 1928 г., было подвергнуто идеологической проверке, и христианство Толстого глушили предисловиями в ленинском духе. Первым секретарем Союза писателей назначили Фадеева, в 1937–1938 гг. приветствовавшего террор против писателей. К иностранной литературе давали доступ только тем, кому, по мнению властей, нельзя было обойтись без чтения столь вредоносных материалов.
Литература была раздавлена, зато с кинематографистами обращались помягче. 23 февраля 1947 г. Эйзенштейна и Николая Черкасова (игравшего Ивана Грозного) привезли в Кремль к Сталину, Молотову и Жданову (13). Все, что говорил Сталин, раскрывает его самоотождествление с сумасшедшим и жестоким царем. Он прочитал Эйзенштейну целую лекцию по истории и раскритиковал эйзенштейновского Ивана: «…царь у вас получился нерешительный, похожий на Гамлета». Иван, говорил Сталин, был первым русским правителем, не допускавшим иностранцев в свою страну. Если он ошибался, то только в том, что «не дорезал пять крупных феодальных семейств» и «долго каялся и молился». «Конечно, – признал Сталин, – мы не очень хорошие христиане, но отрицать прогрессивную роль христианства на определенном этапе нельзя». Вообще Сталин показал, что он довольно хорошо разбирался в вопросах кинематографии, в то время как Жданов с Молотовым вставляли лишь невежественные, наивные замечания. К полуночи атмосфера на встрече деятелей кино и политбюро была почти дружелюбная. Если Сталин где-то и прощал ошибки творцам, то только в кино и музыке.
К осени 1946 г. Молотова, Микояна, Кагановича и Ворошилова высекли и простили, как провинившихся мальчишек. Под надзором Берия Сталин счел возможным передать им правление страной на те три месяца, что он снова провел в Сочи на отдыхе. Политбюро невзлюбили в стране: зарплаты заморозили, а цены резко подняли; паек сократили, но повысили обязательные для колхозов нормы хлебозаготовки; в городах бушевала волна грабежей. С точки зрения советских вождей, однако, все шло хорошо. На Нюрнбергском процессе немецкие подсудимые и словом не обмолвились о преступлениях сталинского режима и британские и американские адвокаты не возражали против присутствия советских коллег. Сталинские генералы вели себя скромно, и маршал Жуков царствовал над Восточной Германией всего год, пока Абакумов и Берия не собрали на него достаточно компромата, чтобы разоблачить как британского шпиона. Жукову напомнили о том, что он простой смертный, таким же образом, как Тухачевскому за десять лет до этого, – перевели его в глубинку. Но, в отличие от Тухачевского, его не арестовали.
Несмотря на страшные предчувствия, 1947 г. не принес с собой возобновления террора. Более того, он оказался самым стабильным годом в правление Сталина. Никто не впал в немилость; не было никаких крутых поворотов партийной линии. Те, кто уходил, уходили тихо: Андрей Жданов усугублял сердечную недостаточность страшными запоями, и старших сатрапов пока не волновало то, что Сталин выдвигал молодых Николая Вознесенского (из Госплана) и обаятельного ленинградца Алексея Кузнецова (14). Довоенная иностранная политика недоверия к капиталистам была восстановлена, и Сталин резко запретил странам Восточной Европы воспользоваться американским планом Маршалла, при помощи которого, по словам Вышинского, американский капитал порабощал Европу.
Те, кто пытались сотрудничать с союзниками после войны, в 1947 г. поплатились. Два ленинградских профессора-онколога, Нина Клюева и Григорий Роскин, приняли предложение американского посла посвятить американских специалистов в тайны «круцина», ими открытого средства от опухолей, в обмен на оборудование. Жданов счел этот обмен разглашением государственной тайны и воскресил под председательством Ворошилова дореволюционный «суд чести», чтобы изгнать их из профессии, после чего несчастные профессора стали изгоями.
МВД и МТБ еще не окончили охоту на украинских партизан: в этом году они убили 3 тысячи и поймали 13 тысяч. Абакумов выслал сотни своих людей «советниками» в новые службы госбезопасности в Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Албании: кое-где, особенно в Венгрии и Албании, эмгэбэшникам приходилось не обучать местную тайную полицию методам физического воздействия, а отучать их от слишком зверских пыток. Югославия не нуждалась в советниках: у Тито была своя служба, еще более страшная, чем абакумовская.
Главной аномалией 1947 г. являлся тот факт, что с запада и с юга в СССР хлынули беженцы, но на Запад через герметически закрытые границы СССР не переходил почти никто. После поражения коммунистов в греческой гражданской войне в албанском порту Дуррес причалили советские пароходы, чтобы эвакуировать греческих партизан, вдов и сирот. Этим грекам предстояло еще одно разочарование, когда, по приезде в СССР, их сразу упекли в Казахстан. Из Ирана в СССР перебежала курдская армия Мустафы Барзани, и, хотя Сталин оценил потенциал коммунистической курдской армии, которая свергнет пробританский режим в Ираке, он тем не менее перевел всех курдов далеко от границ под Ташкент.
Сталин преподнес миру только один сюрприз: 26 мая 1947 г. он отменил смертную казнь для всех преступников, кроме коллаборационистов. Нигде в мире так часто не отменяли смертную казнь, как в России: при Елизавете и при Екатерине II, при Александре I, при Временном правительстве, в начале нэпа. На этот раз казнь отменили на целых три года. Сталин заменил высшую меру двадцатипятилетней каторгой, и этот новый приговор сразу стали выносить очень часто – 37 тыс. осужденных за 1948 г., по сравнению с 12 тыс. в 1946 г., так что смертность среди осужденных за преступления «первой категории» на самом деле круто поднялась: для таких осужденных ежегодная смертность составляла 3 %.
Евреи и космополиты
1947 г. оказался затишьем перед вспышкой государственного антисемитизма. Хотя в 1931 г. в обращении к американскому Еврейскому телеграфному агентству Сталин назвал антисемитизм людоедством и до самой смерти официально осуждал его, в 1948 г. он набросился на советских евреев.
Антисемитизм Сталина отличался от антисемитизма Гитлера или царских губернаторов и министров. Он основывался не на расовых или религиозных предрассудках, а на ксенофобии. Когда Сталин истреблял ленинцев, тот факт, что многие из них были евреи, являлся второстепенной причиной их преследования, хотя те русские партийцы и энкавэдэшники, которые заменяли евреев у власти, думали, что одержали верх над каким-то еврейским заговором. Когда Троцкого, Зиновьева и Радека изгнали из партии и убили, в партии возобладали неевреи; когда Ягоду заменили Ежов и Берия, от евреев был «очищен» и НКВД. Сталин отождествлял евреев с безродными космополитами, не поддающимися политическому управлению. Когда Гитлер получил власть, Сталин скептически отнесся к этим международно признанным мученикам, которые искали защиты от нацистской угрозы не только у СССР, но и у всего мира. Как только оказалось, что новое Государство Израиль видится советским евреям альтернативной родиной, но не частью советского блока, все евреи стали подозрительными, а сионизм стал преступлением.
В личном плане антисемитизм Сталина тоже обострился. И у старшего сына Якова, и у дочери Светланы были связи с евреями. Жена Якова, Юлия Мельцер, и поклонник Светланы, Алексей Каплер, претерпели за свою национальную принадлежность. На семнадцатилетнюю Светлану Сталин кричал: «Не могла ты найти себе русского?» Первый муж Светланы Григорий Морозов (еврей с русской фамилией) познакомил ее со своими еврейскими друзьями. В мае 1947 г. он был арестован, и паспорта Светланы и Морозова были заменены новыми, где не было штампа об их браке (15). Когда в 1949 г. Светлана вышла за сына Жданова, Сталин ей объяснил, что сионисты воспользовались ее доверчивостью, чтобы поймать ее, и что старшее поколение заражено сионизмом, который передается поколению младшему.
Из клана Сванидзе и Аллилуевых, родственников первой и второй жен, которых расстрелял Сталин, многие были евреи. Другие Аллилуевы, например золовка Надежды, дружили с критиком Лидией Шатуновской, входившей в круг Соломона Михоэлса. Нелюбовь Сталина к евреям питалась страхом, что подробности его семейной жизни просочатся через евреев к иностранным журналистам: что бы то ни было связанное с иностранцами будило у Сталина повышенную мнительность. Сталин всегда полагал, что евреев нельзя считать национальностью с правом на свою территорию; он верил, что у них никогда не было классовой борьбы, и ему не нравилось сохранение родственных чувств и солидарности даже у тех евреев, которые отошли от иудаизма. Во время войны Сталин предпочитал не говорить о холокосте, даже когда того требовали пропагандисты. Он санкционировал арест и уничтожение Эрлиха и Альтера, польских евреев, призывавших евреев Великобритании и Америки поддержать Советы в войне против Гитлера. Он очень неохотно разрешил поездку в Америку единственному советскому еврею международного масштаба, Соломону Михоэлсу, вместе с еврейским поэтом Ициком Фефером, чтобы получить от американских евреев 45 млн долларов в помощь Советскому Союзу.
Во время войны советская пресса редко упоминала о зверствах против евреев, так как надо было представлять нацистов убийцами и мучителями всех советских граждан. Когда в сентябре 1941 г. на теле убитого немца нашли дневник, то «Правда» напечатала только сильно отредактированную версию, где о евреях не было упомянуто (16).
Отсутствие симпатии к евреям еще яснее проявляется в записи разговора Сталина с тремя поляками – президентом Сикорским, послом в Москве Станиславом Котом и генералом Андерсом. Они встретились 3 декабря 1941 г., накануне ареста Эрлиха и Альтера:
«Андерс: Я полагаю, что в моем распоряжении будет около 150 тысяч человек, но среди них много евреев, не желающих служить в армии.
Сталин: Евреи плохие солдаты.
Сикорский: Среди евреев, вступивших в армию, много торговцев с черного рынка и контрабандистов. Они никогда не будут хорошими солдатами. В польской армии мне такие люди не нужны.
Андерс: 250 евреев дезертировали из военного лагеря в Бузулуке, когда поступили ошибочные сообщения о бомбардировке Куйбышева. Более 50 евреев дезертировали из пятой дивизии перед раздачей оружия.
Сталин: Да, евреи плохие солдаты» (17).
Во время войны Соломон Михоэлс и его коллега по Еврейскому антифашистскому комитету писатель Шахно Эпштейн не раз смело осуждали антисемитизм и за границей, и в Советском Союзе. В газетах таких высказываний не печатали. На самом деле советская германофобия перерастала в общую ксенофобию, а патриотизм деградировал в русский шовинизм. Шел поток жалоб на то, что русские недостаточно представлены в науке, в системе образования и в медицине. То, что Ежов сделал в НКВД, теперь делалось во всех официальных структурах: число евреев ограничивали. Хотя подтверждающих документов мало, те, кто вспоминает это время, не сомневаются, что с 1944 г. ввели дискриминационную квоту, обычно не больше 10 %, для евреев, поступающих в вузы.
На всех уровнях советского общества фиксировали национальную принадлежность каждого гражданина, и статистика показывает, как после войны Сталин дискриминировал евреев. В 1945 г. около 12 % высших должностей в бюрократии, в хозяйстве, в СМИ и в вузах страны занимали евреи, а к концу 1951 г. евреи в этих сферах составляли уже менее 4 %. К 1950 г. всего восемь из тысячи делегатов в Верховном Совете были евреями, а через два года из тысячи партийных секретарей только один был еврей (18). Евреев в обязательном порядке увольняли с должностей, где был неизбежен контакт с иностранцами. Иван Майский, бывший посол в Великобритании, ждал ареста. Правда, еврейство не всегда четко определяли. Только в нацистской Германии можно было заявить, подобно Герингу: «Я решаю, кто из моих подчиненных является евреем». В СССР до некоторой степени еврей сам себя определял: Каганович объявил, что он член руководства, а не еврейской общины, а Литвинов считал себя этнически русским.
Когда начали притеснять евреев, средний русский литератор испытал злорадство. Фадеев закрыл еврейскую секцию Союза писателей с такой же радостью, с какой он ее создавал. Цензоры отдавали в макулатуру антологии еврейской поэзии или книги о роли евреев в Октябрьской революции. Как и в 1930-х годах, литературным критикам приходилось особенно тяжело. В докладе, приготовленном для Маленкова и Сталина в 1949 г., Союз писателей обвинил «антипатриотическую буржуазно-эстетскую группу… всего на пятнадцать процентов русскую» в том, что им якобы принадлежит монополия на литературную и театральную критику.
Конечно, и до революции русские писатели иногда жаловались на еврейское засилье. Даже юдофил Антон Чехов в 1897 г. заметил в своих записных книжках:
«Такие писатели, как Н. С. Лесков и С. В. Максимов, не могут иметь у нашей критики успех, так как наши критики почти все – евреи, не знающие, чуждые русской коренной жизни, ее духа, ее форм, ее юмора, совершенно непонятного для них, и видящие в русском человеке ни больше ни меньше, как скучного инородца» (19).
В 1949 г. лауреат Государственной премии Сергей Васильев прочел в Союзе писателей свою пародию на Некрасова «Без кого на Руси жить хорошо»:
- На столбовой дороженьке
- Советской нашей критики
- Сошлись и зазлословили
- Двенадцать медных лбов. […]
- Гуревич за Сутыриным,
- Бернштейн за Финкельштейном,
- Черняк за Гоффеншефером,
- В. Кедров за Селектором,
- М. Гельфанд за Б. Руминым:
- «Подай Луи Седера нам,
- Подай нам Джойса, Киплинга,
- Подай сюда Ахматову,
- Подай Пастернака. […]»
- За гвалтом не заметили,
- Как взял их крепко за ухо
- Своей рукой могучею
- Советский наш народ. […] (20).
Поэму Васильева, уже набранную, так и не напечатали.
Еще какое-то время МГБ не трогал своих евреев – Райхмана, Эйтингона, Григулевича, но вскоре их уволили (21). Смещали не всех еврейских композиторов и кинорежиссеров, иначе советские музыка и кино были бы полностью обескровлены. Пришлось сделать исключение и для Академии наук: приоритет ядерной физики и совесть некоторых советских академиков затруднили антисемитскую чистку. Среди физиков во время войны численность евреев даже возросла до 98 %; в атомном проекте Берия они нашли себе надежный приют. В сталинском окружении Каганович и Мехлис еще держались, но их сфера компетенции была сильно урезана. Еврейки, бывшие замужем за такими сатрапами, как Молотов, Андрей Андреев или Поскребышев, подвергались увольнению, ссылке, даже расстрелу, и мужья не смели оспаривать наказание.
Советская пропаганда не переставала изображать СССР домом европейских евреев, при условии, что они не являлись сионистами. В 1950 г. Одесса была последним городом в Европе, где на улицах еще был слышен идиш. Решая еврейский вопрос, Сталин еще колебался. С одной стороны, он с 1913 г., когда писал трактат о меньшинствах, утверждал, что евреи – не нация, так как у них больше нет родины, и они должны ассимилироваться. С другой стороны, Сталин создал на маньчжурской границе советский Сион, Еврейскую автономную область со столицей в Биробиджане, куда переселил несколько тысяч евреев.
Еврейский антифашистский комитет, так тесно связанный с сионизмом, Сталину особенно надоел. В 1947 г., однако, Сталин воздерживался от ударов против ЕАК, так как в ноябре ООН проголосовала за основание Государства Израиль на территории Палестины. Поскольку британцы покровительствовали арабам, а люди из старшего поколения сионистов или родились в России, или состояли членами левых партий, Сталин еще надеялся, что новое еврейское государство будет находиться в орбите влияния Советского Союза. 18 мая 1948 г. сначала СССР, а потом США признали новое государство. Сталина волновало только то, что Израиль зависел от американского капитала и что стал землей обетованной и для советских евреев. Советским евреям, конечно, он и не думал разрешать эмигрировать, зато Румыния и Чехословакия почти с энтузиазмом удовлетворяли просьбы своих граждан любых политических оттенков, выпуская по 10 тыс. евреев в месяц. Сталин не возражал против выезда восточноевропейских евреев и за это снискал широкое одобрение.
В сентябре 1948 г. в Москву прибыла Голда Меир, первый израильский посол. Сама она по-русски не говорила, но ее советник Намир и атташе Ратнер хорошо владели русским языком. В Еврейском театре московские евреи встретили Меир громкими аплодисментами; все переулки около синагоги запрудили толпы. Хуже того, жена Молотова Полина Жемчужина в порыве энтузиазма воскликнула на идише, обращаясь к Голде Меир: «Их бин а идцише тохтер!» («Я дочь еврейского народа!») Другие выдающиеся советские евреи вели себя осторожнее: Илья Эренбург заявил Голде Меир, что ненавидит евреев, родившихся в России, но говорящих только по-английски.
Через год Полину Жемчужину арестовали (они с Молотовым только что развелись, по наущению Сталина). Уже пятнадцать лет, как Сталин питал неприязнь к Жемчужиной, прекрасно знавшей о причинах самоубийства Надежды Аллилуевой. Когда Жемчужину изгоняли из ЦК, Молотов воздержался от голосования. Не только ее, но и его карьера была испорчена. У Молотова отняли Министерство иностранных дел в пользу Андрея Вышинского. Арестовав Жемчужину, Сталин выбил у Молотова почву из-под ног, как в свое время сделал и с Калининым. Жена Калинина, эстонка, была арестована и подверглась пыткам в 1938 г. В 1944 г., несмотря на мольбы Калинина к Сталину, она чистила от вшей белье в лагерной бане, когда умирал ее муж, глава государства.
Советско-израильская идиллия быстро закончилась. В израильском кнессете коммунистам удалось получить всего четыре места; правящая партия требовала у СССР дать советским евреям право эмигрировать, и в международной политике Израиль ориентировался на США.
Евреям, пережившим холокост, в качестве родины предлагали не только Палестину. Сталин разрешил Михоэлсу и Феферу, ездившим по Соединенным Штатам во время войны, предложить американским евреям перспективу Крыма – нового Сиона. В 1920-х и 1930-х гг. американцы уже выделили 30 млн долларов, чтобы помочь еврейским поселенцам осваивать крымские степи. Молотов всегда относился скептически к еврейской автономии в СССР: ему казалось, что евреи – горожане, которых нельзя посадить на тракторы. Но Михоэлс горячо поверил в крымский проект и бестактно объяснил Сталину, что советским евреям нужно убежище от русского антисемитизма.
Как Эрлих и Альтер в 1941 г., так и руководители ЕАК слишком надеялись на себя и международную поддержку. Удовлетворению требований Сталин предпочитал убийство требующих. Арестовать Соломона Михоэлса и сделать из него мученика он не захотел. Михоэлса убьют и свалят вину на сионистов, а те признаются под следствием, что покарали его за верность Советскому Союзу.
Абакумов изобрел предлог. И. Гольдштейна, друга первого мужа Светланы Аллилуевой, пытками вынудили подписать протокол, согласно которому Михоэлс рассказывал американцам интимные подробности о семейной жизни Сталина. После этого Абакумов получил приказ ликвидировать Михоэлса. Тот уже чуял недоброе: арестовывали друзей, а он получал поток ругательных анонимных писем; он сказал одному актеру, что долго не проживет. Его командировали в Минск вместе с другом, критиком Владимиром Голубовым-Потаповым, который работал сексотом МГБ. Три палача высокого ранга – заместитель Абакумова Сергей Огольцов, контрразведчик Федор Шубняков и подопечный Берия, глава белорусской госбезопасности Лаврентий Цанава – устроили убийство Михоэлса. 13 января 1948 г. Голубову-Потапову приказали вывести Михоэлса из гостиницы на улицу. Обоих похитили и повезли на дачу Цанавы. Там их положили на дорогу, и грузовик проехал по их телам. Трупы подбросили на окраинную улицу Минска; специальная комиссия засвидетельствовала факт случайной гибели под колесами машины.
Власти поощряли слухи о том, что на самом деле польские правые или фанатичные сионисты убили Михоэлса. Сначала воздали жертвам и убийцам равную честь. Цанава, Шубняков и водители МГБ получили медали; Михоэлс удостоился некролога в «Правде». Альберт Эйнштейн и Марк Шагал вместе с множеством других известных людей выразили соболезнования советскому народу На похороны пришла еще неарестованная Полина Жемчужина; Эренбург произнес речь, а Перец Маркиш прочитал стихотворение, заканчивающееся строками: «Тебя почтить встают из рвов и смрадных ям / Шесть миллионов жертв, запытанных, невинных». К родственникам Михоэлса подошла племянница Кагановича и предупредила: «Никогда никого ни о чем не спрашивайте!»
Весной 1948 г. Абакумов составил для Сталина список еврейских активистов, особенно тех, кто участвовал в ЕАК и на кого можно было повесить обвинение в шпионаже в пользу Британии и США. В ноябре ЕАК был официально упразднен. Абакумов обыскал Еврейский театр и нашел «доказательства» того, что Михоэлс был сионистом и американским агентом. Десятки евреев арестовали и пытали раскаленными кочергами; некоторые из них несколько месяцев держались стойко. Один следователь, полковник М.Т. Лихачев, объяснял своим жертвам: «Я сверну вам шею, а то мне отрубят голову». Через четыре года секретарь Абакумова, В. И. Комаров, написал Сталину (из Лефортова, где вместе с ним тогда сидел уже и Абакумов):
«Особенно я ненавидел и был беспощаден с еврейскими националистами, в которых видел наиболее опасных и злобных врагов… Узнав о злодеяниях, совершенных еврейскими националистами, я наполнился еще большей злобой к ним и убедительно прошу Вас: дайте мне возможность со всей присущей мне ненавистью к врагам отомстить им за их злодеяния, за тот вред, который они причинили государству» (22).
Полина Жемчужина была отдана в полное распоряжение Абакумову. Он быстро ее сломал, заставив двух ее помощников признаться на очной ставке, что они занимались с ней групповым сексом (23). Затем на политбюро, в присутствии Молотова, Сталин прочитал эти признания вслух. Жемчужину отправили в Казахстан.
Еврейских антифашистов не щадили. Их обвинили в преступлениях, за которые им вынесут расстрельный приговор, как только в 1950 г. восстановят смертную казнь. Объявили шпионом знаменитого биолога Лину Штерн, которая через своего американского брата достала стрептомицин и тем спасла многих больных туберкулезом; шпионом заклеймили и биохимика Парнаса, погибшего после первой недели тюрьмы. Девяностолетний академик Николай Гамалея (не еврей, а украинец, выросший среди евреев) уже не боялся смерти и написал Сталину:
«Я считаю, что по отношению к евреям творится что-то неладное в данное время в нашей стране. […] Антисемитизм исходит сейчас от каких-то высоких лиц, засевших в руководящих партийных органах, ведающих делом подбора и расстановки кадров» (24).
Допросы и пытки вдруг прекратились в 1949 г. Люди Абакумова переключились на более срочное дело – чистку ленинградского партийного руководства, особенно раздражавшего Сталина. Половину арестованных евреев упекли в ГУЛАГ, а пятнадцать сохранили для будущего показательного процесса. Их «руководителя» Ицика Фефера в 1950 г. перевели в Матросскую Тишину, новую тюрьму, построенную Маленковым и Шкирятовым для особо важных политических преступников. Когда в конце концов процесс состоялся, у пятнадцати подсудимых было одно утешение: те, кто их в свое время арестовывал и пытал, сидели теперь в той же тюрьме.
Месть Ленинграду
Я не только брезговал чистыми словами
И упреками старших судей,
Я наслаждался лицемерным двурушничеством льстецов,
Я поощрял клеветнические намерения
И выносил ложные приговоры.
Я не жалел ни вдовьих слез,
Ни бессловесного рыдания сирот,
Я не прикрывал одеждами нагие чресла нищих…
Давид Строитель. Гимн покаяния, VII
В конце 1940-х гг. каждый раз, когда Сталин возвращался из кавказского отпуска, близкие к нему люди замечали, что ему становилось все труднее сосредоточиваться на государственных проблемах. Часто он забывал об одном проекте и брался за второй. Его новые любимцы могли теперь так же легко, как старые, возбуждать его недовольство, даже гнев. Вождь становился более скрытным и все чаще натравливал одних членов политбюро на других. Он уставал и не успевал рассматривать все дела в своей «особой» папке. Он редко давал письменные инструкции, а предпочитал отдавать распоряжения двусмысленными, даже противоречивыми словами, а то и жестами во время ужина или выпивки на даче.
Вокруг себя Сталин чувствовал теперь только предательство. Профессор Петр Шария, секретарь ЦК КП(б) Грузии по пропаганде и агитации, давно переводил на русский язык все, что Сталин писал по-грузински, и слыл самым преданным человеком из сталинского окружения. Но и он неожиданно попал в опалу. В 1943 г. двенадцатилетнего сына Шария сбила машина; безутешному отцу преподаватель сына подарил английское издание Теннисона. Под влиянием Теннисона Шария написал по-русски поэму, которая, по словам политбюро, «признает бессмертие души и действительность загробной жизни». Хуже того, в 1948 г. Шария разрешил своим друзьям тайком напечатать в государственной типографии семьдесят экземпляров поэмы. Его посадили, хотя он оправдывался тем, что сам Карл Маркс от горя бросился в могилу первого сына.
В августе 1948 г. Андрей Жданов умер от болезни сердца. Сначала Сталин равнодушно реагировал на смерть своего возможного наследника. Жданов курировал идеологию и успешно управлял Ленинградом, где у него был хорошо оборудованный бункер, даже во время блокады. Жданов, однако, иногда действовал слишком независимо. В первые недели осады он организовал защиту города и эвакуацию граждан. Сталин отменил все его приказы, ставя на вид в телеграммах, что Ленинград ведет себя, как будто он «остров в Тихом океане», а не часть СССР. После того как сын Жданова женился на Светлане, Сталин начал подозревать Ждановых, и сына и отца, в интригах против себя. И после смерти Жданова Ленинград в глазах Сталина остался змеиным гнездом.
Поэтому в 1949 г. Абакумов начал готовить обвинение, что ленинградская парторганизация принимала тайные меры, чтобы сделать Ленинград столицей автономной Российской республики в СССР. Некоторые ленинградцы, среди них идеолог Михаил Суслов и Алексей Косыгин, предчувствовали раскол между Ленинградом и Москвой и, как только умер Жданов, вовремя переехали в Москву, где стали близкими сотрудниками Маленкова и Берия. Тысячи других высокопоставленных ленинградцев были уволены, двести арестованы. Алексей Кузнецов, которого Сталин однажды поздравил с успешной деятельностью в ленинградском руководстве и потом перевел в Кремль, сказав ему: «Родина вас никогда не забудет», впервые понял, что его ждет, когда ехал в лифте с Маленковым и тот не подал ему руки. Андрея Вознесенского, бывшего шефа Госплана, арестовали, когда он возвращался домой с хорошо прошедшего ужина у Сталина. Его, Кузнецова и десятки других держали без сна в Матросской Тишине под надзором главы партийного контроля Матвея Шкирятова. Каждую ночь их вывозили в Лефортово, где пытали под рев авиационных моторов на соседнем заводе, чтобы их крики не слышали посторонние.
У Абакумова никаких нравственных принципов не было, но ему мешало отсутствие фантазии, и он предпочитал обвинять в чем-то реальном, не выдуманном: кончилось тем, что Вознесенского обвинили в потере министерских бумаг. Абакумов ограничил свое следствие и не допрашивал Кузнецова о родственниках жены, а то пришлось бы арестовать Микояна, Алексея Косыгина и генерала Гвишиани. Сталин с трудом выносил такое медленное, щепетильное следствие; за это время он приказал расстрелять брата и сестру Вознесенского.
12 января 1950 г., «ввиду поступивших заявлений от национальных республик, от профсоюзов, крестьянских организаций, а также от деятелей культуры», Президиум Верховного Совета постановил, что смертная казнь должна опять применяться «к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам». Кузнецов и другие несчастные ленинградцы в Матросской Тишине, хотя их осудили за клевету, за ослушание ЦК, за растрату денег, попали под новый закон. 1 октября, до рассвета, их вывезли на электричке на окраину города, расстреляли и захоронили. Ленинградская чистка 1949 г., «малый террор», была жестокой, но на несколько порядков меньше, чем ежовщина: расстреляли не десятки тысяч, а десятки; заточили не сотни тысяч, а сотни. Жертвы могли размышлять о том, что расстрелом искупали свое участие в куда более смертоносных фальсификациях.
Ленинградские приговоры не предавали гласности, и аресты вскоре прекратились. Тем временем аресты и допросы евреев – членов антифашистского комитета не привели к таким признаниям, на каких можно было бы срежессировать открытый процесс, несмотря на старания десятков опытных следователей. Лев Шейнин, сочинитель повестей и следователь из прокуратуры, который в 1930-х гг. успешно возбуждал у публики энтузиазм по отношению к чисткам и террору, на этот раз (а он и сам был еврей) не сумел сочинить сценарий даже для антисемитской публики. Шейнина уволили и заточили с подопечными Абакумова.
В июне 1951 г. Сталину показалось, что наконец он нашел себе более беспощадного палача, начальника следственной части подполковника Михаила Рюмина, и более послушного министра госбезопасности – Семена Игнатьева (25). Абакумова свергли – к его собственному изумлению (26). Рюмин сел в кресло в кабинете Игнатьева и переписал то, что было приготовлено секретарем Маленкова, Дмитрием Сухановым, – донос на Абакумова, с обвинениями в коррупции и в сокрытии вещественных доказательств (27). Слепая преданность Рюмина не удивительна: на него имелось немало компромата – он как-то раз забыл секретные папки в автобусе, скрывал свое сомнительное происхождение (отец торговал скотом, тесть был белогвардейским офицером, братья сидели в тюрьме).
Кое-что в рюминском поклепе соответствовало действительности. Абакумов растратил миллионы, добытые грабежом в Германии, на огромную квартиру, где жил со второй, молодой и красивой, женой. Из некоторых заключенных Абакумов и в самом деле выжимал пытками не все, что можно было выжать. В ноябре 1950 г. он арестовал по приказу Сталина еврейского врача профессора Якова Этингера. Профессор читал английское издание «Jewish Chronicle», неуважительно говорил со своим пасынком о Сталине (и разговор был записан). Тот факт, что Этингер лечил Берия, не спас его. Он умер в Лефортове от пытки по методу, перенятому Абакумовым у гестапо, – нескольких суток в ледяной камере. Рюмин обвинил Абакумова в том, что он не записал признание Этингера в организации заговора с другими врачами для того, чтобы неправильным лечением убить вождей партии.
Рюмин отыскал то звено, которое Сталину было нужно для выковки цепи, связавшей бы такой же разнородный набор подсудимых, как на показательном процессе 1938 г. над Бухариным, Ягодой и кремлевскими врачами. Перед судом еще раз пред станут еврейские интеллигенты, скомпрометированный чекист и три врача-убийцы. Этим ключевым звеном было письмо Лидии Тимашук, кардиолога кремлевской больницы. В 1948 г. она делала кардиограммы умирающего Жданова и приказала ему не вставать с постели. Ее предписания отменил врач Сталина, профессор Владимир Виноградов (28), который велел Жданову ходить на прогулки и в кино. Кардиограммы же подтверждали верность предостережений Тимашук (29). 30 августа Жданов умер от инфаркта. Тимапгук давно работала осведомительницей МГБ, но это письмо она писала главным образом для того, чтобы защитить себя, а не подвести под трибунал кремлевских врачей. Вскрытие было сделано профессорами, которые, разумеется, подтвердили собственный диагноз. Они сделали все возможное, чтобы Тимашук замолчала. Однако в том, что письмо Тимашук оставили без ответа, был виноват не Абакумов, а Сталин, похоронивший его в собственном архиве.
Как и Ежов десятью годами ранее, Абакумов оказался совсем без дружеской поддержки. 12 июля 1951 г. ордер на его арест подписали Берия, Маленков, Игнатьев и Шкирятов. Игнатьев сразу сел в его министерское кресло, а Рюмин, произведенный в полковники, стал заместителем министра. Абакумов превратился в зэка № 15 в Матросской Тишине; его жена вместе с грудным ребенком сидела в другой московской тюрьме. Как и первая жена Ежова, первая жена Абакумова могла благодарить судьбу, что про нее забыли. Ее лишили квартиры, но не свободы. Вслед за Абакумовым были арестованы его еврейские подчиненные: Лев Шварцман, убийца Троцкого Наум Эйтингон (несмотря на обещание Сталина, что с его головы волос не упадет).
Абакумова мучили целых сорок месяцев. Когда ему давали карандаш и бумагу, он писал Сталину достойные записки, без подобострастия и без увещеваний, но в результате этих писем Сталин заинтересовался следствием и требовал, чтобы ему, Берия и Маленкову каждые десять дней доставляли новые протоколы допросов. Следователям приходилось по инициативе Рюмина применять физические методы воздействия – кожаные кнуты, ледяной карцер, – чтобы выжимать из Абакумова новые показания. Сталин напоминал своим палачам, что сломить такого чекиста, как Абакумов, трудно без продолжительного безжалостного избиения. Сначала Абакумова и его подчиненных заставили сознаться в том, что они собственноручно били своих подследственных. Потом на Абакумова надели кандалы и наручники; посадили в одиночную камеру и морили голодом и холодом. 18 апреля 1952 г. Абакумов умолял Берия и Маленкова:
Дорогие Л. П. и Г.М.! Два месяца находясь в Лефортовской тюрьме, я все время настоятельно просил следователей и начальство тюрьмы дать мне бумагу написать письма Вам и тов. Игнатьеву.
Со мной проделали что-то невероятное. […] На всех допросах стоит сплошной мат, издевательство, оскорбления, насмешки и прочие зверские выходки. Бросали меня со стула на пол. […] Такого зверства я никогда не видел и о наличии в Лефортовской тюрьме таких холодильников не знал – был обманут… Этот каменный мешок может дать смерть, увечье и страшный недуг. […]
Я все время спрашивал, кто разрешил проделать со мной такую штуку. Мне ответили: «Руководство МТБ». […] Избавьте от Рюмина и его друзей (30).
Лев Шварцман, до тех пор спокойно сочинявший признания, которые подписывали жертвы пытки, ничего сочинять о себе не стал, а сошел с ума или притворился сумасшедшим. Когда его вернули к следователям на новые допросы, Шварцман избрал другой курс: он признался в том, что руководил еврейскими националистами, а также в том, что занимался педерастией с Абакумовым, британским послом и собственным сыном и переспал с дочерью. В этот раз он добился своего, и его освидетельствовали невменяемым.
Темпы работы Рюмина не могли удовлетворить Сталина и Игнатьева. Он был неглуп и сознавал, что, как только он закончит следствие, от него избавятся. Поэтому он протянул еще один год, выбивая из Абакумова показания, что тот сфабриковал дело против министра авиации, чтобы скомпрометировать Маленкова, был в заговоре с ленинградцами, которых сам послал на расстрел, и готовил государственный переворот. Рюмину не хватало только доказательства, что Абакумов – еврей. К апрелю 1952 г. Абакумов еще не полностью сломался, но был так искалечен, что, продолжая пытку, Рюмин рисковал умертвить свою жертву. 3 ноября 1952 г. Рюмин наконец предъявил Абакумову обвинения в том, что тот возглавлял еврейских националистов в МГБ. Через одиннадцать дней разочарованный Сталин измарал карандашом протоколы Абакумова и разжаловал Рюмина в бухгалтерию Министерства государственного контроля.
В этот момент должен был показать свой талант Игнатьев, но он предпочитал суровым помещениям Лубянки свой уютный министерский кабинет. Если верить воспоминаниям Никиты Хрущева, Сталин кричал на него по телефону:
«Ты что, белоручкой хочешь быть? Не выйдет. Забыл, что Ленин дал указание расстрелять Каплан? А Дзержинский сказал, чтобы уничтожили Савинкова. Будешь чистоплюем, морду набью. Если не выполнишь моих указаний, окажешься в соседней камере с Абакумовым» (31).
С Игнатьевым случился инфаркт. Когда он поправился, он перевел Абакумова в Бутырки в камеру, окруженную пятью пустыми камерами. За Абакумовым надзирали охранник и врач, и его избивали не так сильно, как других подследственных офицеров МГБ и еврейских врачей.
Сталин начал арестовывать самых близких ему людей. Весной 1952 г. генерал Власик, который был наперсником, телохранителем, вторым отцом сталинских детей, был уволен за кражу сервиза и икры и за пьянство с женщинами легкого поведения. Осенью его арестовали. Власик был преданнее любого пса. Не выжил ли Сталин из ума, а если так – не пора ли было Берия и Маленкову захватить власть?
Конец Сталина
Его беспокоило чувство, что мощь утекает из него, – тогда Сталин становился простым грузином Сосо Джугашвили. Он вспоминал далекую Грузию, от которой он еще хранил вкус сациви, вкус кахетинского вина, песню «Многие лета» и грузинское проклятие магати деда ки ватире, «и заставлю их матерей плакать».
Григол Робакидзе. Убитая душа[21]
Только старческий маразм объясняет решение Сталина включить в список врачей, якобы намеревавшихся извести советское руководство неправильным лечением, имя собственного врача Владимира Виноградова (русского, несмотря на слухи, что его настоящая фамилия Вейнтрауб). 19 января 1952 г. Виноградов в последний раз обследовал Сталина и посоветовал ему ввиду его атеросклероза резко сократить рабочую нагрузку. Сталин послал Берия записку: «Разбирайся с Виноградовым». Вместе с четырнадцатью кремлевскими врачами (не все были евреи) Виноградов был арестован. Лидию Тимашук допросили (а потом наградили); Власика с Абакумовым обвинили в сокрытии сигналов Тимашук о некомпетентности кремлевских врачей.
Искалеченный пытками Абакумов уже дышал на ладан. Гоглидзе, который служил Игнатьеву так же спокойно, как служил Ежову, Берия, Абакумову и Рюмину, пришлось учесть мнение следователя и врача:
…Арестованный № 15 якобы страдает болезнью сердца, а наблюдающий за ним врач разрешил допрашивать его не более 3–4 часов и только в дневное время. При таком положении… целесообразно… предпринять необходимые меры в направлении получения от арестованного № 15 признательных показаний. Такой мерой, по-моему, может быть тщательное медицинское освидетельствование арестованного № 15 и в случае необходимости – применение срочных медицинских средств для быстрого восстановления его здоровья с тем, чтобы после этого его можно было бы активно допрашивать и обязательно пользоваться при этом острыми методами (32).
Теперь Абакумова били, чтобы он признался в том, почему он не предупредил Сталина о действиях Тито по расколу коммунистического блока. Обвинение было нелепое, так как сам Сталин своими ультиматумами 1947 и 1948 гг. до того взбесил самолюбивого Тито, у которого были мощные армия и тайная полиция, что тот не мог не ответить разрывом. Непрофессионализм Абакумова как разведчика был тут ни при чем.
Потом Абакумова оставили в покое в его камере. Сталину нужно было домучить кремлевских врачей, которых перевезли в наручниках на Лубянку. Там Рюмин объяснил им, что раскаленными кочергами он не будет пользоваться, но будет бить. Врачи так же хорошо, как Рюмин, оценили эффект острой и продолжительной боли. Некоторые сразу признались в убийстве всех ныне покойных коммунистов, советских и иностранных – не только Жданова, но и болгарина Димитрова и француза Тореза. Другие признались, что хотели убить детей Сталина, что научились у Плетнева, якобы убийцы Горького, искусству эвтаназии. Но Сталину этого было мало. Врачам говорили, что их будут вешать на площадях столицы, если не скажут, на кого они работали (33). Доктор Меер Вовси, родственник Михоэлса, признался, что одновременно служил и британским, и немецким разведкам (хотя его семья погибла от рук нацистов). Виноградов и Вовси, гласило обвинение, хотели сначала отравить Сталина, Берия и Маленкова, а потом устроить обстрел их автомобилей.
Сталин до такой степени увлекся фабулой заговора врачей и евреев, что в 1952 г. не отдыхал. Его физическое здоровье ухудшалось так же быстро, как и душевное. Казалось, он был готов избавиться от всех, даже (или особенно) самых доверенных лиц – и очистить всю страну от евреев, медиков и космополитов. В феврале 1953 г. он уволил последнего, самого беспрекословного своего слугу, секретаря А. Поскребышева, который никогда ни на что не роптал, даже когда Сталин расстрелял его любимую жену. 1 декабря 1952 г. Сталин в последний раз выступил на заседании Президиума ЦК. Как всегда, он настаивал, что чем удачнее партия справляется со своими задачами, тем больше будет врагов и саботажников. В этом узком кругу он прямо назвал евреев агентами американского империализма и сказал, что они сами признались, что «сидят в дерьме». Что ожидало обвиняемых евреев и врачей, уже было видно по репетициям в Восточной Европе: 3 декабря 1952 г. одиннадцать «сионистов» среди чехословацких руководителей были повешены – они якобы наняли врачей, чтобы сократить жизнь честных коммунистов. 9 января 1953 г. в «Правде» появилась сенсационная передовая под названием «Убийцы в белых халатах». Казалось, что теперь можно воспользоваться массовой паникой и без разбору судить и вешать евреев и врачей: арестовали еще двадцать восемь врачей.
И среди московских евреев, и среди антисемитов, и в провинции ходили слухи, что будут не только публичные казни, но и «спонтанные» погромы, в ходе которых полмиллиона евреев вышлют в составах для скота на Дальний Восток. На чем основывались такие слухи, трудно сказать. С одной стороны, в архивах политбюро и Министерства путей сообщения документальных свидетельств о таком проекте нет; с другой стороны, воспоминания и даже дневники приближенных Сталина подтверждают, что Сталин и Берия обсуждали возможность публичных казней и повторения холокоста. Трудно поверить, чтобы Сталин, даже одряхлевший разумом, разрешил советским гражданам такое спонтанное проявление эмоций, как погром (34). Но кто-то из евреев из высшего партийного эшелона составил открытое для подписей обращение в редакцию «Правды», требовавшее искоренения «еврейских буржуазных националистов», «шпионов и врагов русского народа» и одобрявшее план партии – высылкой спасти евреев от стихийного гнева народа. Шестидесяти выдающимся евреям – например, физику Л. Ландау, поэту С. Маршаку, романисту В. Гроссману и режиссеру М. Ромму – предложили подписать эту петицию. Кое-кто отказался; Каганович был готов подписать текст в собственной редакции, а Эренбург подписал, только предварительно сообщив Сталину, что текст «может смутить людей, еще не осознавших, что еврейской нации нет» (35).
За семь недель до своей смерти Сталин потерял интерес к этой фальсификации, как и к большей части своих политических затей. Его подручные почувствовали, что последствий не будет, и перестали мучить врачей и евреев, хотя в провинции уже вспыхивали погромы, а пациенты в столице уклонялись от лечения, опасаясь «убийц в белых халатах». Из арестованных врачей двое умерли от пыток, остальные, хотя физически и морально искалеченные, дожили до освобождения после смерти Сталина. Ни у одного из его наследников не было такого хорошего здоровья, чтобы обходиться без услуг светил советской медицины.
Еврейских же антифашистов мучители не щадили; их допрашивали следователи, вернувшиеся из Нюрнберга. Некоторых избивали до смерти палачи, пока просвещенный нюрнбергский следователь Гришаев дописывал докторскую диссертацию; других в ноябре 1950 г. расстрелял Абакумов. Остальных пятнадцать припасли на будущий процесс: Ицика Фефера даже привели одетым в костюм в гостиницу «Метрополь» на встречу с американским певцом Полом Робсоном. Четырнадцать бывших членов ЕАК дожили до закрытого суда, где не было ни защитников, ни прокурора, но были «эксперты». Суд шел на Лубянке с 11 по 18 июля 1952 г. Военный судья Чепцов потом признался, что вынес приговор вопреки собственным сомнениям, но полагал, что ошибочным приговор был не потому, что подсудимые были невиновны, а потому, что Абакумов, Рюмин и Гришаев были некомпетентны. Всех, кроме Лины Штерн (которая потом рассказала, как это было), расстреляли, включая верноподданного Фефера.
В последние сталинские годы казалось, что даже звезда Берия может закатиться. Когда была создана атомная бомба и советские физики уже без бериевского кнута успешно строили первую водородную, Берия проводил больше времени со Сталиным на даче. Эти ночные встречи становились короче, и Сталин редко принимал Берия без Маленкова, Микояна или Молотова. Сталин заставил Берия заменить русскими грузинскую прислугу на даче. Потом Сталин послал партийную комиссию в Грузию, где арестовали мингрелов, земляков Берия, за взяточничество и национализм (хотя Берия в 1937 г. закрыл мингрелоязычные газеты, радиопередачи и школы). Следующей волной арестов Сталин задел Берия за живое: арестовали людей из семьи Гегечкори, родственников его жены, среди которых была по крайней мере одна любовница Берия. Тогда же забрали племянника Нины Гегечкори-Берия, Теймураза Шавдия, и дали ему двадцать пять лет. Шавдия дезертировал из Красной армии и, прежде чем перебежать к французским партизанам, воевал некоторое время в составе отряда СС; как ни странно, впоследствии он открыто жил в Тбилиси.
Подчиненные Берия поняли, что он стоит на краю пропасти, и были готовы помочь Игнатьеву и Сталину свалить его. Когда бериевца мингрела Рапаву заменили кахетинцем генералом Николаем Рухадзе, этот новый шеф грузинской госбезопасности встретился со Сталиным в Сочи и получил инструкцию докладывать прямо вождю. Однако Рухадзе, как и Рюмин, скоро разочаровал Сталина: ничего более серьезного, чем утверждение, что Берия – еврей, он не смог придумать. Он даже не проследил родственных связей Берия с грузинскими эмигрантами в Париже. Но Сталин продолжал расшатывать авторитет Берия: 9 ноября 1951 г. на заседании политбюро было названо имя некоего Гегечкори – человека, интересующего американскую разведку; весной следующего года Кандид Чарквиани, которому Берия поручил грузинскую партию, был заменен кахетинцем Акакием Мгеладзе (36). Кроме Берия, у власти вне Грузии остался только один мингрел, Лаврентий Цанава, министр госбезопасности Белоруссии, убийца Михоэлса. Его убрали в июне 1952 г. Исчез единственный сторонник Берия в армии, генерал Сергей Штеменко, защищавший с Берия кавказские перевалы. Тысячи мингрелов были арестованы, их язык вторично запретили. До 1952 г. грузины, 2 % населения СССР, составляли всего 1 % населения ГУЛАГа. Мингрельское дело выправило это несоответствие (37).
У Берия были уже все поводы бояться, но Рухадзе, доносивший и на ставленников Сталина, провалился. Сталин нашел другого человека для грузинской госбезопасности и перевел Рухадзе в Москву, где «будет решен вопрос о его судьбе». Его арестовали и отдали Рюмину на пытки.
Хотя подхалимские манеры Берия явно раздражали Сталина, он оставался незаменимым: ни Рюмин, ни Рухадзе не были «умными, деятельными и сильными». Кроме Берия один лишь Андрей Вышинский удовлетворял требованиям Сталина по всем трем критериям. Вышинский был не менее упрямым и гораздо более красноречивым министром иностранных дел, чем Молотов. Сталину импонировал тот факт, что Вышинский своей репутацией режиссера показательных процессов 1930-х гг. внушал участникам международных конференций только отвращение. Люди из госбезопасности все еще обзывали Вышинского «меньшевиком», но боялись его, так как у него в кабинете, как и у Сталина, был телефон, по которому можно было подслушивать любой кремлевский разговор (38).
Но 16 октября 1952 г. даже Вышинский, должно быть, побледнел, слушая полуторачасовую бессвязную речь Сталина на заседании ЦК. С одной стороны, Сталин намекал на свою смерть («все перемрем») и просил освободить его от поста генерального секретаря. С другой стороны, одного за другим Сталин ругал своих приближенных тоном, который до сих пор всегда означал падение и арест. Проняло даже непотопляемого Микояна («от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича»), Сталин особенно осуждал Молотова:
«…находясь под “шатрезом”, дал согласие английскому послу издавать в нашей стране буржуазные газеты… предложение товарища Молотова передать Крым евреям? Это – грубая ошибка.
[…] Товарищ Молотов так сильно уважает свою супругу, что не успеем принять решение политбюро по тому или иному важному политическому вопросу, как это быстро становится известным товарищу Жемчужиной» (39).
В то время как Сталин в Москве пугал своих выдвиженцев, его марионетки в Будапеште, Праге, Бухаресте, Софии и Тиране с энтузиазмом выполняли его инструкции. Сталин особенно усердно производил чистки в Восточной Европе, потому что его МТБ не смогло убить Тито в Югославии. Сталин хвастался, что «стоит только пальцем махнуть, и Тито не будет». Вместо этого Тито со своим министром госбезопасности Ранковичем перехитрили Сталина, уничтожив не менее пяти команд убийц с Лубянки. (Сталин хранил у себя в кунцевском ящике записку от Тито, предупреждавшую, что, если Сталин вышлет шестую команду, югославы пришлют
в Кремль своего убийцу.) Венгры и албанцы сразу пристроились к сталинской линии в отношении к Югославии, а те восточноевропейские вожди, которые слишком дружески относились к ней, были заклеймены титоистами. Начали выносить смертные приговоры. Энвер Ходжа в Тиране под надзором офицера советского МГБ первый приговорил коллегу к смерти: в июне 1949 г. казнили Кочи Дзодзе – албанского Берия.
Владислав Гомулка, польский партийный лидер, проведший войну не в Москве, а в подполье, казался Сталину подозрительно мягким. Сталин приказал Беруту устранить Гомулку, но тот в декабре 1948 г. приехал к Сталину в Кунцево и так очаровал вождя, что сохранил себе и жизнь и свободу, несмотря на досье, которое собирали сорок советских эмгэбэшников.
Как и в Польше, среди болгарских коммунистов те, кто пришел к власти вместе с Красной армией, были на ножах с теми, кто вместе с партизанами боролся против немцев. В конце декабря 1948 г. Георгий Димитров, герой гитлеровского процесса о поджоге Рейхстага и злодей сталинского Коминтерна, получил разрешение ликвидировать тех видных болгарских коммунистов, которые воевали в партизанских отрядах в Болгарии, – одной из жертв был заместитель премьер-министра Трайчо Костов. Смертельно больной Димитров вернулся в Москву на лечение, а Лев Шварцман с командой палачей из Лубянки поехали в Болгарию, где пытали Костова и дюжину других видных болгарских коммунистов. По ходу следствия протоколы допросов на болгарском и русском доставлялись Сталину. Среди жертв были экономисты, получившие образование в Западной Европе, и сталинской ненавистью к спецам разит от всех его пометок: «История с Костовым поможет очиститься от этих агентов и вообще от враждебных элементов» (40). Абакумов изобразил Костова титовским агентом; Сергей Огольцов привез в Болгарию три полка войск МВД в гражданской одежде и составил обвинение, которое не потрудились перевести на болгарский язык. В декабре 1949 г. Костова повесили и тысячу видных болгар заточили.
В Венгрии маниакальный Ракоши давно хотел избавиться от своего соперника – министра внутренних дел Ласло Райка, который пришел к власти не из Коминтерна, а из нацистского концлагеря. Ракоши долго уговаривал своих советских хозяев, которые сомневались в его вменяемости, помочь ему: наконец в мае 1949 г. они арестовали Живко Боарова, атташе в югославском посольстве в Будапеште, и американского журналиста Ноэля Филда, который перемещался между Будапештом и Прагой в поисках материалов для статей (а в 1943 г. он отказался сотрудничать с НКВД). Следователи, допрашивавшие Боарова и Филда в Будапеште, заставили их оклеветать Райка как агента американской и югославской разведок, но так жестоко их пытали, что показания вышли слишком несвязными даже для процесса советского типа. Ракоши, как и Сталин, любил, чтобы всех политических подсудимых обвиняли в покушениях на него самого; он попросил Вышинского передать еще одного югославского подсудимого для полного комплекта (41). Венгерские мучители пришли в такой азарт, что советским советникам пришлось их попридержать. Вскоре Райк признался, что уже двадцать лет является фашистом и десять лет работает югославским агентом. Абакумов составил проект обвинения, которое Ракоши и Сталин отредактировали для ТАСС. 22 сентября 1949 г. Сталин написал Ракоши: «Считаю, что Л. Райка надо казнить, так как любой другой приговор в отношении Райка не будет понят народом» (42). Райка и еще двух обвиняемых повесили, больше сотни других венгерских коммунистов заточили.
Ракоши, с его богатой фантазией, представил Сталину список из пятисот коммунистов, которых предлагалось репрессировать, из всех стран от Австрии до Австралии, но главным образом из Чехословакии. Ракоши потребовал, чтобы Клемент Готвальд арестовал всех чехословацких коммунистов, когда-то проживавших на Западе. Агенты польских и чехословацких спецслужб приехали в Будапешт за документами, подготовленными Ракоши. Поляки реагировали вяло: они уволили Гомулку, и на этом дело кончилось. Чехословаки же попросили Москву прислать тех советников, которые так хорошо разработали болгарское дело.
Клемент Готвальд, как и Берут, вряд ли хотел уничтожать собственных министров, но, в отличие от Берута, он больше боялся Сталина, чем своего народа, и поручил советским эмгэбэшникам отыскать козла отпущения, подобного Ласло Райку. Помощь Абакумова и предварительные аресты навели следователей на нужных людей и «улики». Готвальд уже охотно сажал и убивал социал-демократов, и когда в 1949 г. он распространил чистки на коммунистов-«космополитов», то атмосфера в Праге стала на три года мрачнее, чем в любой другой столице Европы. К февралю 1951 г. шестьдесят чехословацких коммунистов были арестованы. Готвальд знал, что, если он проявит милосердие или принципиальность, сам станет жертвой Ракоши и Сталина, и потому выдал друзей, чтобы спасти собственную жизнь. Тем временем Ракоши и Энвер Ходжа уже начинали новые чистки; Ракоши арестовал собственного заместителя, Яноша Кадара.
В Югославии Тито не вешал и не расстреливал своих сталинистов, но в концлагерях ломали физически и духовно десятки тысяч просоветских югославов. За этих мучеников СССР не заступался: Сталин, Абакумов, Рухадзе, Рюмин и Игнатьев были слишком заняты собственными чистками в Ленинграде и Мингрелии. Когда к концу 1951 г. взоры эмгэбэшников вновь обратились на Запад, они были озабочены только сионизмом. К тому же без Виктора Абакумова МТБ не было способно на сложные операции. Инициативу взял сам Ракоши. Он составил список евреев, подлежащих устранению, – включая тех, кто по его приказам пытал «титоистов». Чехословаки тоже получили приказ уничтожить своих евреев. Идеальным чешским евреем оказался Рудольф Сланский, так как он сам назначал евреев на ключевые посты и поэтому мог нести ответственность за экономические неудачи Чехословакии. Когда Сталин прислал ордер на арест, Клемент Готвальд только что наградил Сланского орденом Республики по случаю пятидесятилетия. Через год Сталин принял Готвальда на XIX пленуме ЦК КПСС в октябре 1952 г., а через месяц в Праге Сланского вместе с десятью другими жертвами повесили.
Румыны увиливали от сталинских приказов. Георгиу-Деж сказал советскому послу, что ему неизвестно, связаны ли какие-нибудь румыны со Сланским. Когда советские власти начали настаивать, румынский вождь бросил всего трех членов своего политбюро волкам на растерзание. Им по сравнению с чехами повезло: один умер в тюрьме, а двух других освободили после смерти Сталина.
Неудивительно, что 2 марта 1953 г. Маленков, Берия и Молотов выждали тринадцать часов, прежде чем вызвать докторов к Сталину, уже сутки лежавшему в полусознании на полу в майке и пижаме. Они хотели увериться, что этот инсульт – смертельный; и, лишь убедившись в этом, Берия крикнул своему шоферу: «Хрусталев, машину!» – и помчался в Кремль.
Сто дней Берия
Сбрехнул какой-то лиходей,
Как будто портит власть людей.
О том все умники твердят
С тех пор уж много лет подряд,
Не замечая (вот напасть!),
Что чаще люди портят власть.
Юрий Андропов (председатель КГБ в 1967–1982 гг.)
На смерть Сталина люди реагировали по-разному. Большая часть населения – рабочие, крестьяне, дети, студенты, женщины – находилась в состоянии почти истерического горя, люди чувствовали себя как жертвы кораблекрушения, покинутые на произвол врагов, тайных и явных, внутренних и внешних. Узники же ГУЛАГа радовались, смеялись, кидали шапки в воздух: в первый раз они видели луч надежды, видели, как смутилась охрана. Аппаратчики и палачи прикидывали, кому достанется власть, выжидая, пока руководство делало вид, что единство политбюро и Совета министров сохранилось и что вся машина будет работать нормально, даже когда вылетела главная ее шестерня.
Мерилом достижений Сталина может служить та легкость, с которой государство пережило его смерть. Прошло всего четыре дня после его смерти, и Берия, Маленков, Булганин и Хрущев, казалось, дружески перераспределили сферы влияния. Вожди восточноевропейских партий, приехавшие на похороны Сталина, почувствовали облегчение и уверенность в спокойном будущем. Маленков стал председателем Совета министров; Молотову вернули не только жену, но и Министерство иностранных дел; Берия взял себе Министерство внутренних дел (с которым он слил Министерство госбезопасности), а Булганин стал министром обороны (бывший министр маршал Василевский стал его заместителем). Хрущев руководил ЦК партии, Микоян и Каганович получили работу, удовлетворяющую их самолюбие, а Ворошилов наслаждался ничего не значащим назначением главой государства.
Берия с исключительной быстротой и бесстрашием взял в свои руки все главные рычаги власти. Как и восточноевропейские коммунисты, он понимал, что министерства внутренних дел и госбезопасности могут решать все политические вопросы. Создавая свое сверхминистерство, он сразу отстранил Семена Игнатьева от госбезопасности. Но Берия не пользовался ни доверием, ни популярностью у своих коллег (не говоря уж о партии, населении и армии). Молотов радовался возвращению жены, но не поблагодарил Берия за это. Берия реабилитировал посмертно брата Кагановича, Михаила, и дал его вдове пенсию. Но и Лазарь Каганович холодно принял этот жест (43).
Сразу после похорон Сталина Берия составил четыре комиссии, которые должны были через две недели представить доклады Круглову, Кобулову и Гоглидзе. Первая комиссия оправдала кремлевских врачей; вторая реабилитировала эмгэбэшников, которых оклеветал Рюмин; третья освободила артиллеристов, арестованных Сталиным; четвертая вернула в Грузию мингрелов, которых Рухадзе отправил в ГУЛАГ. Берия сам реабилитировал убитого Соломона Михоэлса. Ни следа бывшей злопамятности, казалось, не осталось в Берия: из убийц Михоэлса пострадали только Огольцов и Цанава. Рюмина нашли в сарае в Севастополе (по другим источникам, в Туле) и арестовали. Берия его допрашивал почти час и обещал ему жизнь в обмен на чистосердечное признание, а потом передал его Влодзимирскому и Хвату. 24 марта Рюмин написал Берия:
«Когда мне придется умирать, независимо в силу чего и при каких обстоятельствах, моими последними словами будут: Я предан партии и ее Центральному комитету!
В данный момент я верю в мудрость Л. П. Берия и нынешнего руководства МВД СССР и надеюсь, что мое дело будет иметь справедливый конец» (44).
При второй встрече с Рюминым Берия сказал ему: «Мы с вами больше не увидимся. Мы вас ликвидируем». Рюмин заболел от отчаяния, но Берия, казалось, забыл о нем.
Те, кто активно враждовал с Берия или кто был свергнут им, – например, Власик, Рухадзе (несмотря на преследование мингрелов), Абакумов и его зверские следователи, – остались в заключении, но их не трогали. В марте 1953 г. Берия вызвал Рухадзе к себе в кабинет, а потом Рухадзе пресмыкался перед бывшим шефом:
«Я плачу, мучаюсь, раскаиваюсь во всем случившемся. Мне очень и очень тяжело…
Прошу поверить, Лаврентий Павлович, что у меня не было вражеских намерений. Обстановка и обстоятельства, в которых я оказался, а также одиночество сыграли большую роль в моих грехах. […]
Обращаюсь к Вам с просьбой как к родному отцу и воспитателю моему и на коленях, со слезами на глазах прошу пощадить, простить и помиловать. Прошу ради детей своих дать мне возможность умереть на воле, повидав их в последний раз. Вы и только Вы, Лаврентий Павлович, можете спасти меня» (45).
В первые дни бериевских реформ нового вождя поддерживал Маленков, который сам в апреле набросал черновик речи, осуждающей «культ личности», но не называющей Сталина по имени. Но съезд партии отложили, и Маленков этой речи не произнес (46). 26 марта Берия ошеломил своих коллег, послав Маленкову записку, предлагающую самую большую амнистию в истории мира: из ГУЛАГа следовало выпустить около миллиона заключенных. Половина узников, как объяснял Берия, сидит из-за сталинского закона 1947 г., предписывающего долгие сроки за любое воровство. Все, у кого срок был меньше пяти лет, подлежали освобождению и полной реабилитации; сроки выше пяти лет сокращались наполовину. Беременные женщины, матери малолетних детей, мужчины старше пятидесяти и моложе восемнадцати тоже подлежали освобождению. К тому же Берия предлагал Министерству юстиции (которому он передавал администрацию ГУЛАГа) за месяц разработать систему иных, чем тюремное заключение, наказаний для большинства преступлений.
Мотивы Берия были скорее прагматичны, чем гуманны. Он сознавал, что каждый год суды наводняли ГУЛАГ огромным притоком – 650 тыс. новых узников. Совет министров не хотел применять амнистию к политическим заключенным: их было пол миллиона, и почти все (кроме тех, кому дали краткие сроки) должны были отсидеть весь срок (47).
Через два месяца Берия отменил ОСО, тройки из эмвэдэшника, прокурора и партийного секретаря, которые погубили миллионы людей, приговорив их к выселению, заточению или расстрелу. Затем Берия, передав часть МГБ в руки Министерства юстиции, избавился от всей карательной системы (кроме особых тюрем и лагерей, где содержалось четверть миллиона политических заключенных и военных преступников) (48). Впервые за 36 лет Берия ввел в СССР, хотя бы номинально, подобие правового порядка, но из соображений скромности или осторожности он позволил назвать эти меры «ворошиловской» амнистией. Той весной освободили 1200 000 заключенных и прекратили почти полмиллиона уголовных дел. К лету 1953 г. советские города наводнил приток амнистированных воров, грабителей, насильников, а политические узники и их семьи страдали по-прежнему.
3 апреля 1953 г. публично реабилитировали тридцать семь врачей; Семена Игнатьева уволили с позором, Лидию Тимашук лишили ордена. Берия послал в Президиум тайную папку с показаниями Абакумова, Огольцова и Цанавы, признавшихся, что по приказу Сталина они убили Соломона Михоэлса и его друга Голубова-Потапова. Чтобы машинистку не шокировало неуважение к памяти вождя, Берия от руки вписывал имя Сталина. Убийц лишили государственных наград. 4 апреля 1953 г. Берия запретил «физическое воздействие», то есть пытку. Особые камеры в Лефортове разобрали и уничтожили орудия пытки (осталась, однако, токсикологическая лаборатория).
Через четыре дня Президиум подучил еще одно сообщение от Берия: его волновала судьба Грузии. Таким образом, мингрелы, арестованные Рухадзе и Сталиным, были реабилитированы вместе с 11 тыс. других несчастных грузин, тоже выселенных и лишенных всего имущества. В этот документ имя Сталина тоже было вписано рукой Берия. Но Берия не мстил: Акакий Мгеладзе, которого Сталин назначил первым секретарем ЦК КП Грузинской ССР, ушел на свой новый пост в кахетинское лесничество, и его заменили реабилитированным мингрелом, Алексием Мирцхулавой.
И по экономическим вопросам Берия занял разумную, гуманную позицию: он предупредил генералов, что на военные силы расходуется слишком много денег; отменил гигантские проекты, такие как строительство каналов в пустынях Средней Азии, железные дороги в зоне вечной мерзлоты, – и тем самым сэкономил миллиарды рублей и сотни тысяч жизней. Государственные накопления он тратил на повышение зарплаты колхозников и снижение потребительских цен.
1 мая 1953 г. Берия ошеломил не только Совет министров, но и весь советский народ, организовав парад, где не было портретов вождей. Век идолопоклонничества, казалось, ушел. Берия высказывался все более либерально: о том, что у канадцев нет внутренних паспортов и что пора в СССР отменить ограничения на передвижение граждан. Все закрытые города, кроме трех военных портов, он открыл и дал всем, кто найдет работу, право жить в любом городе, даже в Москве и Ленинграде. Обитатели трехсот закрытых городов и огромных пограничных зон могли благодарить Берия за то, что соединились с остальной страной.
Берия гнал корабль с такой быстротой, что остальная команда начала бояться, что произойдет кораблекрушение. Берия как будто знал, что его время скоро истечет, и отдавал все больше рискованных распоряжений. В конце мая он предложил передать власть на Западной Украине и в Литве людям, родившимся там и владеющим языком. В результате украинцы заменили русских в партийных верхах Украины: Берия стал популярным среди украинских интеллигентов, но ненавистным для русифицированной партийной элиты. В Литве вся документация, по настоянию Берия, стала вестись по-литовски, и русскоязычные партийные секретари, не знавшие литовского языка, потеряли работу (49). То же произошло в Белоруссии и в Латвии.
Для Маленкова и Хрущева такие меры означали раскол СССР. Берия пошел еще дальше и этим взбесил Маленкова и Хрущева. 2 июня он предложил меры «создания здорового политического климата в Германской Демократической Республике». ГДР тогда находилась в кризисном состоянии. На улицах Берлина были беспорядки, так как рабочим было видно, как плохо им живется по сравнению с западногерманскими гражданами. За предыдущие два года полмиллиона людей – включая три тысячи партийцев и восемь тысяч полицейских – перебежали на Запад. Берия предложил переговоры между немецкими коммунистами и социал-демократами о воссоединении «демократической миролюбивой Германии». Также он хотел легализовать частный капитал, отменить кооперативы и суровые карательные меры и освободить заключенных. Берия провозгласил, что целью его является «мирное разрешение международных проблем». Это он продемонстрировал в Венгрии, заставив маньяка Матьяша Ракоши назначить премьер-министром либерального Имре Надя (раньше известного как агент Берия «Володя»), Берия аннулировал сталинские приказы об убийстве Тито и сделал попытку наладить отношения с Югославией. На востоке Берия уговаривал китайцев и северных корейцев начать переговоры, чтобы прекратить корейскую войну. Он отозвал всех иностранных агентов МВД в Москву на проверку знания ими языков, прежде чем отпустить их назад.
Берия подверг страшной опасности власть партии, преобладание русского влияния, цельность СССР и восточноевропейской империи. Всем его коллегам стало ясно, что надо срочно избавиться от него. Хрущев потом говорил, что была и чисто нравственная причина удаления Берия: тот был совершенно беспринципным и развращенным человеком. Это, несомненно, правда, хотя можно утверждать, что Молотов и Хрущев подписали большее число смертных приговоров, чем Берия. Существенная разница состояла в том, что Молотов, Маленков и Хрущев убивали росчерком пера или доносом, а у Берия в крови были руки. Что до легендарных сексуальных похождений Берия, не подлежит сомнению, что он иногда насиловал (чаще используя шантаж, чем физическое принуждение) и что совращал малолетних. С другой стороны, среди его многочисленных любовниц некоторые его уважали, даже любили. По меркам других советских вождей, пользовавшихся Большим театром как домом терпимости, или даже по сравнению с Джоном Кеннеди или Дэвидом Ллойд Джорджем, Берия не был сексуальным монстром, хотя в перерывах между заседаниями он заказывал женщин с доставкой на дом, как современные политики заказывают пиццу.
Конец палачей
Частушки, 1953
- Цветет в Тбилиси алыча
- Не для Лаврентий Палыча,
- А для Климент Ефремыча
- И Вячеслав Михалыча.
- Лаврентий Палыч Берия
- Не оправдал доверия —
- Осталися от Берия
- Лишь только пух да перия.
Берия наверняка знал все обо всех, но с марта по июнь 1953 г. он даже не намекал на возможность воспользоваться своими сведениями, чтобы шантажировать или уничтожать своих товарищей. В истории СССР никогда не было так мало арестов и расстрелов. МВД прекратило убивать заграничных врагов. Берия, казалось, и запах крови опостылел; он уже не жаждал мести. Когда он увольнял партийного функционера, тот становился теперь не узником, а послом или директором завода. Единственным животным инстинктом, которым Берия был обуян до последней ночи свободы, являлась ненасытная потребность в женском теле.
Берия никому не угрожал, даже Хрущеву и Маленкову, однако он подрывал ту систему, от которой зависела их власть (50). Загадка в том, почему Берия не принимал никаких мер, чтобы защитить себя от интриг. В течение тридцати трех лет он все предусматривал и всех опережал, как один из самых искушенных в мире политиков, а теперь позволил горсточке ничтожеств и посредственностей свалить себя.
Личная популярность в СССР, даже если это была популярность среди чекистов, значила мало. В любом случае, хотя Берия, быть может, спас два миллиона евреев и несколько десятков профессоров медицины, рядовые члены партии не приняли бы еще одного грузина в роли вождя. Никакими поблажками Берия не смог бы спасти себя: он строил для высокопоставленных партийцев и аппаратчиков дачный поселок около Сухума, но многие считали этот поселок очередным накопителем для ГУЛАГа.
Мятежи в Берлине дали Хрущеву хороший предлог. Берия опоздал с предложениями разрядить атмосферу в ГДР, и ему пришлось приказать, чтобы советские танки подавили волнения рабочих в городах Восточной Германии. Молотов убедился в том, что Берия был совершенно некомпетентным дипломатом. Страх перед последствиями перевесил осторожность Молотова, и он присоединился к заговору Хрущева и Маленкова.
Первым шагом Хрущева был откол Маленкова от Берия (а они даже любили позировать перед фотокамерами под руку друг с другом); Маленков был встревожен не только возможным разоблачением, но и тем, что Берия понизил статус его подчиненных. Следующей задачей Хрущева было преодолеть колебания Ворошилова и Кагановича. Заговорщики обсуждали переворот в парках и на улице, боясь, что Берия нашпиговал стены квартир микрофонами. К концу июня весь Президиум, кроме Берия, был в курсе заговора, хотя Микоян и Ворошилов, которым кровопролитие претило, просили, чтобы Берия не расстреливали, а послали назад в Баку – руководить нефтяниками.
Оставалось только завербовать силовиков, по крайней мере часть МВД и часть армии. В МВД Сергей Круглов и Иван Серов охотно согласились на роль коллективного Иуды; оба ненавидели кавказцев – Кобуловых, Гоглидзе, – которых Берия выдвинул, пренебрегая русскими чекистами. Через Булганина Хрущев зондировал военных. У Берия были кое-какие друзья среди военных, например генерал Штеменко, которого он назначил начальником Генерального штаба. Но другие генералы брезговали такими, как Штеменко, и вообще Берия не прощали пытки и убийство Блюхера. Обещаниями власти и славы Хрущев завербовал генерала Москаленко и маршала Жукова, несмотря на то что последнего от сталинской опалы спас именно Берия.
Нелегко было собрать группу хорошо вооруженных офицеров, не встревожив агентов Берия. В мае Булганин отправил в провинцию на учения тех офицеров, которые могли бы оказать сопротивление перевороту, а Маленков с Молотовым уговорили Берия самого слетать в Берлин. Берия что-то заподозрил, когда узнал, что собирается Президиум. Он немедленно вылетел в Москву. Заговорщики еще не подготовились, и на заседании обсуждались рутинные вопросы сельского хозяйства. Есть свидетели, которые утверждают, что Берия уже собирался привезти с Кавказа в Москву надежные войска МВД, но если он и обдумывал меры, было уже поздно.
Переворот произошел 26 июня на следующем заседании Президиума. Из заседающих только Маленков, Булганин и Хрущев знали, что произойдет. Якобы для обучения к каждому кремлевскому охраннику приставили военного. Булганин привез в своей машине генералов и маршала Жукова; несмотря на кремлевские запреты, у генералов было личное огнестрельное оружие. Военные ожидали за дверями сталинского кабинета. Они должны были войти, когда Хрущев нажмет кнопку звонка.
Берия, одетый в неглаженый серый костюм, без галстука, пришел последним. Он спросил о повестке дня; ему ответили: «Лаврентий Берия». Единственным нам известным документом этого заседания является черновая запись выступления Маленкова:
«Враги хотели поставить МВД над партией и правительством. […]
Задача состоит в том, чтобы не допустить злоупотребления властью.