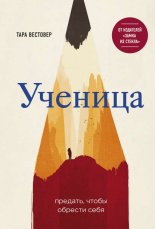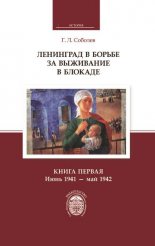Сталин и его подручные Рейфилд Дональд

К августу 1936 г. Каганович смог уверить Сталина, что он, прокурор Вышинский и судья Ульрих до совершенства отрепетировали процесс и что представление будет проходить с 19-го по 22-е: Каменев и Зиновьев будут выступать седьмым и восьмым из шестнадцати жалких кающихся грешников. Роль гестапо будут «выявлять в полном объеме. Если обвиняемые будут называть Пятакова и других, не препятствовать». В первый же день Зиновьев признался, что заранее знал все об убийстве Кирова, а Смирнов – что получил инструкции от Троцкого. На второй день, к радости Ежова и Кагановича, спектакль шел еще глаже. Все обвиняемые пели одну и ту же песню, и Зиновьев держался «более подавленно». Единственный минус был в том, что Каменев держался «более вызывающе. Пытается рисоваться». Зато признания этих жертв обрекут на арест всех остальных врагов Сталина: Рыкова, Томского, Бухарина справа; Радека, Сокольникова, Пятакова и Серебрякова слева.
Клевета на всех несталинистов дошла до такой мерзости, что в последний день суда Михаил Томский, отдыхающий на даче, застрелился, как предсказал Борис Бажанов, бывший секретарь Сталина. В длинном предсмертном письме Томский просил Сталина:
«…Вот моя последняя просьба – не верь наглой клевете Зиновьева, никогда ни в какие блоки я с ним не входил, никаких заговоров против партии я не делал…
Теперь я кончаю это письмо, прочитав постановление суда о привлечении меня к следствию…
Я чувствую, что этого я не перенесу, я слишком устал от подобных встрясок, я не могу перенести, когда меня ставят на одну доску с фашистами…
Прошу прощения у партии за старые ошибки, прошу не верить Зиновьеву и Каменеву. […]
P.S. Вспомни наш разговор в 1928 г. ночью. Не принимай всерьез того, что я тогда сболтнул, – я глубоко в этом раскаивался всегда. Но переубедить тебя не мог, ибо ведь ты бы мне не поверил. Если ты захочешь знать, кто те люди, которые толкали меня на путь правой оппозиции в мае 1928 года, – спроси мою жену лично, только тогда она их назовет» (54).
Вдова Томского отказалась разговаривать с секретно-политическим отделом НКВД, и Сталину пришлось подослать к ней Ежова вместе с предсмертной запиской. Она намекнула Ежову, что сам Ягода «играл очень активную роль в руководящей тройке правых, регулярно поставлял им материалы о положении в ЦК» (55).
Уже успели приготовить для Томского нишу в Кремлевской стене и сняли маску. Но Сталин, в отличие от Гитлера, не одобрял самоубийств опозоренных товарищей и приказал похоронить Томского в саду, откуда потом НКВД выкопал тело. Тем не менее через два года остальные «правые» могли только завидовать судьбе Томского.
Предсмертное письмо, по мнению Ежова, погубило Ягоду. Хотя в докладе, написанном им для Сталина, он делал вид, что не верит «клевете» Томских, он проклинал НКВД:
«Вскрылось так много недостатков, которые, по-моему, терпеть дальше никак нельзя. Я от этого воздерживался до тех пор, пока основной упор был на разоблачении троцкистов и зиновьевцев. Сейчас, мне кажется, надо приступить и к кое-каким выводам из всего этого дела для перестройки работы самого Наркомвнудела.
Это тем более необходимо, что в среде руководящей верхушки чекистов все больше и больше зреют настроения самодовольства, успокоенности и бахвальства. Вместо того чтобы сделать выводы из троцкистского дела и покритиковать свои собственные недостатки, исправить их, люди мечтают теперь только об орденах за раскрытое дело. Трудно даже поверить, что люди не поняли, что в конечном счете это не заслуги ЧК, что через 5 лет после организации крупного заговора, о котором знали сотни людей, ЧК докопался до истины…
Стрелять придется довольно внушительное количество. Лично я думаю, что на это надо пойти и раз навсегда покончить с этой мразью» (56).
Всех обвиняемых приговорили к расстрелу. Большею частью они объявили, что меньшего не ожидали. Даже Каменев в конце концов вел себя жалко: «практическое руководство по организации этого террористического акта [убийства Кирова. – Д. Р.] осуществлял не я, а Зиновьев». Вышинский превзошел самого себя в витиеватости обвинения: «…B мрачном подполье Троцкий, Зиновьев и Каменев бросают подлый призыв: убрать, убить! Начинает работать подпольная машина, оттачиваются ножи, заряжаются револьверы, снаряжаются бомбы…» (57) Над раскаивающимся в своих фиктивных (но не в реальных же) преступлениях Зиновьевым издевался Вышинский: «…Злодей, убийца оплакивает жертву!» Ни одного вещественного доказательства не было, и сами признания легко было дискредитировать. Например, обвиняемый Гольдман показывал, что в 1932 г. он встретил старшего сына Троцкого в копенгагенском отеле «Бристоль»; но Лев Львович в это время сдавал экзамены в Берлине, а в 1917 г. гостиницу сровняли с землей.
Ульрих в течение двадцати четырех часов зачитывал приговор, который Сталин в Сочи отредактировал, объясняя Кагановичу:
«…нуждается в стилистической отшлифовке. Второе, нужно упомянуть в приговоре в отдельном абзаце, что Троцкий и Седов [сын Троцкого Лев. – Д.?.] подлежат привлечению к суду или находятся под судом или что-либо другое в этом роде. Это имеет большое значение для Европы, как для буржуа, так и для рабочих. […] Надо бы вычеркнуть заключительные слова: “приговор окончательный и обжалованию не подлежит”. Эти слова лишние и производят плохое впечатление. Допускать обжалование не следует, но писать об этом в приговоре не умно» (58).
На следующее утро все обвиняемые, кроме одного, попросили обжалование, в чем было сразу отказано. Через несколько часов всех расстреляли. Каменев и Смирнов шли в подвал со стоическим спокойствием, а Зиновьев хватался за сапоги палачей, так что его унесли на носилках. Николай Ежов присутствовал, вынул пули из трупов и тщательно обернул эти сувениры в бумажки с именами жертв. Позже последние минуты Зиновьева были представлены сталинским телохранителем Карлом Паукером, пока Сталин ужинал: Паукер требовал, чтобы вызвали Сталина, и кричал «Услышь, о Израиль!». Но вскоре и Сталину надоело смотреть на этот спектакль (59).
Писатели в СССР пикнуть не смели: Эренбург, Шолохов и Алексей Толстой громко требовали смерти своим бывшим покровителям, которые, как они знали, не были виновны, по крайней мере в тех преступлениях, в которых их обвиняли. Очень немногие, как Пастернак, не поддавались давлению со всех сторон – партии, профсоюза, семьи – подписать требования о расстреле. Конечно, легче понять трусость Оренбурга или Шолохова, чем бесчестье западных интеллигентов и наблюдателей, из которых некоторые присутствовали на процессе рейхстага и любовались бесстрашным отпором, с которым болгарский коммунист Димитров отвечал на обвинение. Эти простофили или жулики выражали мнение, что пасквиль правосудия, состряпанный Вышинским и Ульрихом, не мог быть целиком фальсификацией, что советское правосудие еще не зависело от прихотей Сталина.
Каганович писал Сталину уже на второй день суда, что все телеграммы иностранных корреспондентов подчеркивали, как показания дискредитировали «правое крыло». Самому осведомленному иностранному комментатору, Троцкому, заткнули рот: норвежский министр юстиции, Трюгве Ли, получил письмо от Сталина, называющее Троцкого главным организатором терроризма в СССР и требующее его выдворения; норвежцы, опасаясь, что опять не смогут продавать селедку, взяли и интернировали Троцкого (до тех пор уникальный случай в Норвегии) и держали его в полной изоляции. Ему даже не разрешали подавать иск на те европейские газеты, которые повторяли клевету Вышинского.
В 1936 г. западные радикалы не хотели раздражать Сталина. Гитлер вторгся в Рейнскую область; генерал Франко восстал против Испанской республики; Япония заняла Маньчжурию – а СССР прислал делегацию на европейский Съезд мира. Демократы решили, что в интересах борьбы против фашизма надо было надевать намордники на тех, кто критиковал сталинские расстрелы. Историки, юристы и дипломаты уверяли европейскую публику, что процесс был с юридической точки зрения непогрешим. Писатели Бернард Шоу и Теодор Драйзер ручались за добросовестность Сталина. А Бертольт Брехт со своим обыкновенным непостижимым цинизмом сказал одному другу, озабоченному судьбой Зиновьева и Каменева: «Чем они невиннее, тем больше заслуживают смерти» (60). Каменев и Зиновьев знали, что натворил Сталин и что он еще будет творить; если они не были виновны в замысле его убийства, они согрешили тем, что воздержались от тираномахии, от поступка, который, кажется, даже святой Фома Аквинский простил бы: «Бог смотрит одобрительно на физическое истребление зверя, если этим народ освобождается». Наверное, Брехт имел что-то другое в виду, но если тираномахия может стать нравственным императивом, то в 1936 г. пощадить жизнь Сталина – это преступление, заслуживающее смертной казни.
Падение Ягоды
У каждого такого вожака бывает обыкновенно фаворит, имеющий чрезвычайное с ним сходство, обязанность которого заключается в том, что он лижет ноги и задницу своего господина и поставляет самок в его логовище; в благодарность за это его время от времени награждают куском ослиного мяса. Этого фаворита ненавидит все стадо, а потому для безопасности он всегда держится возле своего господина. Обыкновенно он остается у власти до тех пор, пока не найдется еще худшего; и едва только он получает отставку, как все еху этой области, молодые и старые, самцы и самки, во главе с его преемником, плотно обступают его и обдают с головы до ног своими испражнениями.
Джонатан Свифт. Путешествия Гулливера[13]
Несмотря на смертные приговоры, воздействие суда над зиновьевцами на общественное мнение не удовлетворяло Сталина. Весь сентябрь он жаловался Кагановичу и Молотову, что «Правда» плохо комментирует дело. О себе он уже говорит в третьем лице:
«Она все свела к личному моменту, к тому, что есть люди злые, желающие захватить власть, и люди добрые, стоящие у власти…
Надо было сказать в статьях, что борьба против Сталина, Ворошилова, Молотова, Жданова, Косиора и других есть борьба против Советов, борьба против коллективизации, против индустриализации, борьба, стало быть, за восстановление капитализма в городах и деревнях СССР. Ибо Сталин и другие руководители не есть изолированные люди, – а олицетворение всех побед социализма в СССР… олицетворение усилий рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции за разгром капитализма и торжество социализма» (61).
К концу письма религиозный стиль усиливается:
«Надо было наконец сказать, что падение этих мерзавцев до положения белогвардейцев и фашистов логически вытекает из их грехопадения, как оппозиционеров, в прошлом».
До суда членов семей осужденных обещали щадить, но не прошло и недели, как увезли на Лубянку жену Каменева (она же сестра Троцкого). И то, что снилось в кошмарах «правым», начало осуществляться: Пятакова, подручного Орджоникидзе в Наркомате тяжелой промышленности, Сталин перевел на работу на Урал, теперь ставший предбанником Лубянки. Бухарину и Рыкову сказали, что следствие пока не нашло законного основания, чтобы привлечь их к уголовной ответственности, – что они правильно поняли как намек, что скоро такое основание найдется. Почти сразу после расстрелов Каганович доказывал Сталину, что Бухарин и Рыков, даже если они не находились в прямой связи с блоком Троцкого-Зиновьева, могли быть осведомлены о делах троцкистов за последние четыре года и что он не сомневался в существовании правой «организации». К тому же Каганович объявил, что, очищая железные дороги от троцкистов (он был наркомом транспорта), он раскрывал и «правых» вредителей.
Прежде чем травить Бухарина, Сталин должен был передать НКВД в более надежные руки. 25 сентября 1936 г. он набросился на Генриха Ягоду. В телеграмме, написанной рукой Андрея Жданова и пересланной каналом, недоступным НКВД, Сталин написал всему политбюро:
«Первое. Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение тов. Ежова на пост наркомвнудела. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ опоздал [sic] в этом деле на 4 года. Об этом говорят все партработники и большинство областных представителей Наркомвнудела. Замом Ежова в Наркомвнудела можно оставить Агранова.
Второе. Считаем необходимым и срочным делом снять Рыкова по Наркомсвязи и назначить на пост Наркомсвязи Ягоду. Мы думаем, что дело это не нуждается в мотивировке, так как оно и так ясно. […]
Четвертое. Что касается Щомиссии] Партийного] Контроля], то Ежова можно оставить по совместительству председателем КПК с тем, чтоб он девять десятых своего времени отдавал Наркомвнуделу. […]
Пятое. Ежов согласен с нашими предложениями» (62).
Политбюро, казалось, было вне себя от радости. Каганович, который после казни Зиновьева отдыхал на юге от бессонных ночей, сразу написал Орджоникидзе:
«Главная наша последняя новость – это назначение Ежова.
Это замечательно мудрое решение нашего Родителя [так он называл Сталина. – Д.?.] назрело и встретило прекрасное отношение в партии и стране… У Ежова наверняка дела пойдут хорошо» (63).
Удар был хорошо подготовлен. Сначала Ежов вызвал Агранова, уже колеблющегося в своей верности Ягоде, к себе на дачу, на конспиративное собеседование. Агранов потом рассказал, как по инициативе Сталина Ежов предложил ему самому принять меры по раскрытию еще не раскрытой террористической банды и личной роли Троцкого (64).
Параллельно с телеграммой в политбюро Сталин послал Ягоде записку. Ягода был слишком хитрой крысой, чтобы не унюхать яда в этом сыре:
«Наркомсвязь дело очень важное. Этот Наркомат оборонный.
Я не сомневаюсь, что Вы сумеете этот Наркомат поставить на ноги. Очень прошу Вас согласиться на работу Наркомсвязи. Без хорошего Наркомата связи мы чувствуем себя как без рук. Нельзя оставлять Наркомсвязь в нынешнем ее положении. Ее надо срочно поставить на ноги» (65).
На короткое время Ягода оставил за собой ранг генкомиссара госбезопасности, пока Кагановичу не пришло в голову, что НКВД не поймет, что Ягода уже списан, и не примет Ежова как начальника. Но в середине октября Сталин уже готовился вернуться в Москву, и Каганович смог его обрадовать:
«У т. Ежова дела идут хорошо. Взялся он крепко и энергично за выкорчевывание контрреволюционных бандитов, допросы ведет замечательно и политически грамотно. Но, видимо, часть аппарата, несмотря на то, что сейчас притихла, будет ему нелояльна. Взять, например, такой вопрос, который, оказывается, имеет у них большое значение, это вопрос о звании. Ведутся разговоры, что генеральным комиссаром остается все же Ягода, что де Ежову этого звания не дадут и т. д. […] Не считаете ли, т. Сталин, необходимым этот вопрос поставить?» (66)
Низвержение Ягоды было мучительно медленным. В 1934 г. он встречался со Сталиным почти еженедельно, когда тот работал в Кремле, и эти встречи в среднем длились два часа. В 1935 г. и в первой половине 1936 г. Сталин принимал его только раз в две недели, обыкновенно всего на час. Зато в 1934 г. Ежов так же часто, как Ягода, но не столь подолгу беседовал со Сталиным, и в течение следующих двух лет Ежов встречался со Сталиным все чаще и чаще, и они иногда запирались в кремлевском кабинете на три часа. 11 июля 1936 г. Ягода в последний раз посетил Сталина в Кремле.
Ягода легкомысленно относился к своему новому назначению. Весь октябрь и ноябрь он был в отпуске, будто бы по причине болезни. Когда он наконец начал появляться в Наркомсвязи, он приходил поздно и сидел без дела за столом, катая шарики из хлеба или складывая бумажные самолеты. Тем временем в НКВД Ежов уже арестовывал подчиненных Ягоды, тех, кому он доверял, и тех, с кем он ссорился. К новому году в НКВД из приближенных Ягоды остался только Агранов и тот ненадолго.
В январе 1937 г. Ягоду лишили звания генкомиссара; вечером 2 марта вызвали на пленарное заседание ЦК, чтобы привлечь к ответственности за плохую работу НКВД – он должен был раскрыть заговоры уже в 1931 г. и тем спасти жизнь Кирова; он не обращал внимания на указания Сталина; в отделах НКВД недовербовали агентов. Ежов кричал на Ягоду, а вновь пришедший в ЦК Лаврентий Берия поднял его на смех, говоря, что ОГПУ у Ягоды стало «камвольным трестом» (67). Ягода отчаянно валил вину на своих заместителей, обзывая Молчанова предателем, и извинялся тем, что работа над Беломорским каналом отвлекла его от агентурных задач. Сталинские шакалы чуяли кровь и остервенели; начал нападать сам Сталин вместе с шурином, Реденсом.
На следующее утро Ягода, кроме нескольких слов отрицания, должен был молчать, пока бывшие соратники обливали его грязью. Агранов обвинял его во всем, потом Заковский, латышский еврей, начальник Ленинградского управления НКВД после смерти Кирова, и единственный гэпэушник, назначенный Менжинским, но достаточно бессердечный, чтоб быть приемлемым и для Ежова, огрызался на Ягоду. Ефим Евдокимов, одно время глава ГПУ на Северном Кавказе, с которым Ягода поссорился, был избран Сталиным, чтобы резюмировать, как партия оценила выступления Ягоды:
«Гнилая, непартийная речь. […] Знаем мы, что ты не ягненок.
[…] Я Ягоду, слава Богу, хорошо знаю. Именно он, Ягода, культивировал специфический подбор людей… Я спрашиваю, вот вы, Ягода, были тогда моим начальником, какая помощь с вашей стороны была оказана? […] Брось трепаться, ты никакой помощи в работе не оказал… А вы, товарищ Ягода, с Рыковым тогда, что называется, в одной постели спали, и его влияние на вас сказывалось. […]
Надо привлечь Ягоду к ответственности. И надо крепко подумать о возможности его пребывания в составе ЦК» (68).
Единственными защитниками, и то слабыми, Ягоды оказались Литвинов, нарком иностранных дел, одобрявший контрразведку ОГПУ, и Вышинский, признававший «объективную информацию», выбитую Ягодой из иностранных вредителей. Второй день страстей Ягоды закончился речью Ежова, утверждающего, что без угрозы Сталина «морду набьем!» Ягода не ловил бы убийц Кирова. Заседание кончилось осуждением халтурности НКВД. Это был ужасный день в жизни Ягоды, но настанут дни и похуже.
28 марта 1937 г. дачу Ягоды обыскал Фриновский, теперь заместитель Ежова. Самого Ягоду забрали на следующий день в московской квартире. Его повезли на Лубянку, и квартиру обыскивали целую неделю пять офицеров. Общество могло не обращать внимания на этот арест. (Через два дня политбюро санкционировало его исключение из партии и арест.) В галереях не было портретов Ягоды, на улицах не было памятников – даже фотографий было относительно мало: в этом Ягода был верным учеником товарища Менжинского. Осталась одна публикация для макулатуры, «Беломорско-Балтийский канал», и пришлось переименовать три объекта – железнодорожный мост на Дальнем Востоке, школу для пограничников и одну коммуну. Когда выдворили Троцкого и арестовали Зиновьева, приходилось искать для десятков городов новые названия, изымать миллионы книг из библиотек, ретушировать бесчисленные картины и фотографии. Ягода же утонул почти без пузырей.
На допросе Ягода сразу признался, что сочувствует Бухарину и Рыкову и что политика Сталина расстраивает его. Он даже сознался, что присвоил миллионы рублей у НКВД, чтобы меблировать дачи своих друзей. Но прошел целый месяц, а Ягода все еще не признавался в шпионаже и контрреволюции; следователи даже не нашли драгоценных камней, якобы украденных им. Некоторых его высказываний, однако, было достаточно, чтобы Сталин их подчеркивал в протоколе допроса:
«На самом деле большевиком, в его действительном понимании, я никогда не был… Но собственного мировоззрения у меня не было, не было и собственной программы. Преобладали во мне начала карьеристические… С правыми я был организационно связан… правые рисовались мне как реальная сила…» (69)
Ежов жаловался Сталину на упорство Ягоды, и Сталин предложил, чтобы за допросы взялся Евдокимов как член ЦК, уже отвыкший от следствия, но известный своей физической силой. Евдокимов уселся напротив Ягоды (который выглядел довольно жалко, в спадавших штанах без ремня и пуговиц, с руками в наручниках за спиной), выпил рюмку водки, засучил рукава, показывая обезьяньи бицепсы, и принялся колошматить бывшего шефа по голове.
Дальнейшие показания Ягоды смешивают правду с вымыслом (70). Он уже не видел смысла в сопротивлении Евдокимову и признался, что хотел свергнуть руководство с помощью кремлевской охраны и военных командиров, этим снабжая Сталина и Ежова нужным материалом против Красной армии. Он говорил, что отравил, с помощью доктора Левина из НКВД, фактически всех знакомых и друзей, умерших в течение последних четырех лет: Менжинского, Горького, Максима Пешкова, Куйбышева. Он даже сознался, что отравил кабинет Ежова ртутными испарениями. Странно было то, что, несмотря на обещание сохранить ему жизнь, он не хотел признаваться ни в шпионаже, ни в убийстве Кирова. Как он остроумно заметит на суде, «если бы я был шпионом, то уверяю вас, что десятки стран вынуждены были бы распустить свои разведки».
Очень часто показания Ягоды звучат правдиво. Он называл себя скептиком «в маске, но без программы», сторонником Сталина, а не Троцкого из расчета, а не убеждения. Пока Ягоду мучили допросами, ставили целый ряд расстрельных процессов – второй группы зиновьевцев, старших офицеров Красной армии, – и арестовывали Бухарина и его сторонников. Из всех этих новых следствий НКВД выжимал еще больше материала (большею частью фальшивого), дискредитирующего Ягоду Но Ягода благородно осуждал сначала себя и потом уж только тех, кого арестовали и обрекли: о тех, кто еще на свободе, он старался не говорить.
Самые обидные показания против Ягоды содержало длинное письмо его собственного шурина, Леопольда Авербаха, к Ежову (17 мая):
«Именно Ягода прямо толкал нас на максимальное втягивание в эту борьбу против А.М. Горького, на непартийные попытки прикрыться его именем. […]
Несколько раз Ягода говорил о неизменно плохом отношении к нему К. Е. Ворошилова, и говорил он это в тоне явной ненависти.
[…] Не раз, в частых беседах у А.М. Горького, чувствовалось, что Ягода не разбирается в том, о чем идет речь. […] Горький нужен был Ягоде, как возможное орудие в политической игре…
Я пишу Вам это заявление, обязанный до конца и всесторонне раскрыть гнуснейшее лицо Ягоды и все известное мне в его вражеской деятельности, обязанный сделать все от меня зависящее, чтобы партия могла полностью и целиком выжечь эту гангрену, очистить советский воздух от этой мрази и вони» (71).
Этим мерзким доносом Авербах отсрочил свой расстрел на год. На несколько месяцев Ягоду оставили в одиночестве в камере. В декабре НКВД возобновил натиск, чтобы выбить из него признание, что он участвовал в отравлении Максима Пешкова и самого Горького. Исповедь Ягоды была двусмысленной – он говорил, что не мешал Крючкову поить Пешкова, возить его по дорогам в открытой машине, класть его спать на скамьи, мокрые от росы, что потом вызвал доктора Левина, лечившего Максима опасными лекарствами. Он признался, что врачи под его надзором ускорили кончину Менжинского и что он сам ускорил смерть Горького (возвращенного раньше времени из Крыма) и Куйбышева (которому Ягода якобы дал командировку в Среднюю Азию). При очной ставке с Ягодой несчастные врачи признали свою вину, но не помнили, каким именно образом они умерщвляли больных. Они сказали, что Ягода убил бы их, если бы они ослушались его (72).
Больше Ягоду не допрашивали. В начале 1938 г. к Ягоде в камеру подсадили Владимира Киршона, союзника Авербаха. Киршон, стукач не менее талантливый, чем драматург, передавал все, что говорил ему Ягода, майору Александру Журбенко, эфемерной звезде среди следователей Ежова. Кажется, с Киршоном Ягода говорил так искренне, как никогда в жизни. Он хотел только знать, что случилось с женой Идой, с сыном Генрихом, с возлюбленной Тимошей. Он ждал смерти. Он отрицал, что отравил Горького и сына Горького, не только потому, что был невиновен, а потому, что такое признание причинит Тимоше горе. Как осужденный умереть, он отказался бы от своих признаний, если бы это не «сыграло на руку контрреволюции». Если бы разрешили ему свидание с Идой, он смог бы перенести суд, но мечтал о том, чтобы умереть до суда, и чувствовал себя психически больным. Он постоянно плакал, задыхался (73). Со слов одного тюремного смотрителя передают, что Ягода даже вспомнил о своих иудейских корнях. Он восклицал: «Есть Бог! От Сталина я заслуживаю только благодарность, но я нарушал заповедь Бога десять тысяч раз, и это мое наказание».
Вечером 8 марта 1938 г. Ягода встал со скамьи подсудимых на последнем из сталинских показательных процессов. Как заметил Троцкий, если бы Геббельс признался, что он агент папы римского, то удивил бы мир меньше, чем Ягода, обвиняемый как агент Троцкого. Только Бухарин и Ягода иногда смели намекать публике, что весь процесс – фабрикация. Ягода отказался рассказывать, кроме как на закрытом заседании, о своем участии в смерти Пешкова. Что касалось смерти Кирова, он утверждал, что принципиально был против терроризма. От всех предложенных Вышинским версий событий Ягода отбивался, говоря: «Так не было, но все равно», «Разрешите на этот вопрос не отвечать» или: «Они утрированы, но это не имеет значения». По словам Ягоды, он в первый раз видел на скамье подсудимых доктора Казакова, будто бы отравившего Менжинского по его приказу. Показания доктора Левина и Крючкова Ягода отверг, как «сплошную ложь». Вышинский не слишком давил на Ягоду, человека, который знал цену обещаниям Сталина и которому уже нечего было терять. Ягода указывал Вышинскому, что тот может давить на него, но не слишком.
Утром следующего дня суд объявил перерыв для короткого закрытого заседания, на котором Ягода отказался входить в подробности смерти Пешкова. Потом Ягода выглядел, как будто его избили, и он якобы читал дальнейшие показания по бумаге, как и через три дня свое последнее слово, безнадежную мольбу о жизни, хоть заключенным рабочим на одном из своих каналов. В конце концов Ягода безоговорочно признался во всем, кроме убийства Пешкова и шпионства. 13 марта его приговорили к расстрелу. 15 марта его расстреляли в Лубянской тюрьме. (Другие обвиняемые были расстреляны в тот же день на «Коммунарке» в Южном Подмосковье.)
Сестра Лили была сослана в Астрахань, потом задержана и в конце концов расстреляна. Любимая сестра Розалия получила восемь лет тюрьмы: потом прибавили два года, и она умерла в лагере в 1948 г. Всего одна сестра, Тайса, выжила: в 1966 г. она тщетно просила, чтобы Ягоду посмертно реабилитировали. 2 апреля 2015 г. Верховный суд опять отказал Ягоде в реабилитации.
26 июня 1937 г. отец Ягоды написал прямо Сталину:
«Многие счастливые годы нашей жизни в период революции омрачены сейчас тягчайшим преступлением перед партией и страной единственного оставшегося в живых сына – Г. Г. Ягоды. […]
Вместо того чтобы оправдать доверие, он стал врагом народа, за что должен понести заслуженную кару. […]
Сейчас мне 78 лет. Я наполовину ослеп и нетрудоспособен.
Своих детей я старался воспитать в духе преданности партии и революции. Какими же словами возможно передать всю тяжесть постигшего меня и мою 73-летнюю жену удара, вызванного преступлениями последнего сына? […]
Мы считаем необходимым Вам сказать, что он в личной жизни в течение десяти лет был очень далек от своих родителей, и мы ни в малейшей мере не можем ему не только сочувствовать, но и нести за него ответственность, тем более что ко всем его делам никакого отношения не имели.
Мы, старики, просим Вас, чтобы нам, находящимся в таких тяжелых моральных и материальных условиях, оставшимся без всяких средств к существованию (ибо не получаем пенсию), была бы обеспечена возможность спокойно дожить нашу, теперь уже недолгую жизнь в нашей счастливой Советской стране. Мы просим оградить нас, больных стариков, от разных притеснений со стороны домоуправления и Ростокинского райсовета, которые уже начали занимать нашу квартиру и подготовляют, очевидно, другие стеснения по отношению к нам. А сегодня, 26 июня вечером, когда мы только что готовились написать это письмо, нам объявлено о нашей высылке из Москвы в 5-дневный срок, вместе с несколькими дочерьми. Подобная мера репрессий в отношении нас кажется нам незаслуженной, и мы взываем к Вашей справедливости, зная Вашу глубокую мудрость и человечность» (74).
Немедленно после написания отречения от сына родители Ягоды были арестованы. В лагере отец умер через неделю, мать ненадолго пережила его. Тимоша Пешкова прожила еще пятьдесят лет, до глубокой старости. Из родни Ягоды, кроме сестры Тайсы, выжил только маленький Генрих: в детском доме две работницы сжалились над ним, дали ему фамилию матери. Он провел в ГУЛАГе всего пять лет, а его сын Станислав ведет сегодня совершенно нормальную жизнь.
Тотальная власть
После убийства Кирова до ареста Ягоды Сталин работал с маниакальной энергией, но и с холодным целеустремленным расчетом. Все, что он предпринимал, создавало для Советского государства то, что наблюдатели потом считали почти мистическим источником государственной силы: тотальную власть. Сталин истреблял, сначала политически, а затем физически, любого политика, который выявлял способность независимо действовать или просто мыслить. Сталин воздвиг пирамидальную структуру власти: наверху – самого себя, потом политбюро, под ним – НКВД и партийных бюрократов. Он установил абсолютный контроль над всеми комиссариатами, от иностранных дел до культуры и легкой промышленности. Он так распределил группы населения, что не было никакой социальной базы для восстания или разногласия: крестьянство было раздавлено, интеллигенция – подкуплена или напугана, рабочие – прикреплены к месту работы. Только армия еще управляла собой и то недолго. Сталин оттолкнул женщин от власти: только горсточка женщин заседала в ЦК для видимости равенства, но он разоружил всех валькирий революции. Запретив аборт и гомосексуализм, введя новые, более строгие правила развода, Сталин и в частную жизнь граждан внес свой порядок. Он мог быть уверен, что новое поколение не расшатает монолит, так как дети и подростки были организованы комсомолом, строго контролирующим их деятельность и идеологию от отрочества до взрослого возраста. Вместо якобы отмененной классовой системы, появилась аналогичная кастовая. Партия уже воспроизводила себя – таких сенсационных неравных браков, как Дыбенко с Коллонтай, уже не было: партия, НКВД и интеллигенция скрещивались – например, внучка Горького Марфа Пешкова вышла замуж за сына Берия Серго, а дочь Хрущева Юлия – за Виктора Гонтаря, директора Киевской оперы.
Правда, некоторые настоящие научные гении, несмотря на приток новых шарлатанов, внесли свой вклад в советскую науку и философию, но и в этой сфере Сталин заморозил свободное мышление. Генетика и современная физика были объявлены ересью. Музыка, которую нельзя насвистывать, поэзия, которая не поддается резюме, картины и кино немонументальные или не представляющие мир, каким он должен быть, – всё подлежало запрету. Страна начала выглядеть одинаково: та же одежда, те же дома, тот же транспорт. Сталин будто бы создал неизменный мир, где однообразие быта прерывалось только безвкусными пестрыми парадами и мундирами партийной и военной элит. Все казалось увековеченным, и Сталин, будто в поисках бессмертия, начал принимать почти нелепые меры против возможного покушения. Кроме вторжения чужих сил – а тут Сталин полагался на собственную хитрость, – ничто не могло бы сотрясти фундамента того мира, который в 1935–1937 гг. он, как ему казалось, упрочил собственными руками.
7. Кровавая ежовщина
Раз на польской границе появился верблюд и попросил политического убежища. «В СССР истребляют всех кроликов», – сказал верблюд. «Но ты – верблюд», – ответил пограничник. «А вы попробуйте доказать, что не кролик».
Рождение большого террора
Молитва, которую иногда пели Сталин, Ворошилов и Молотов в 1930-х гг. Псалом № 140:2
- Да исправится молитва моя,
- Яко кадило пред Тобою,
- Воздеяние руку моею,
- Жертва вечерняя.
- Услыши мя, Господи!
Обрекая последних членов старой большевистской гвардии на смерть, Сталин в то же время готовил для всех обывателей страны собственное лекарство от мятежного или свободного мышления. Суть этого лечения – Большой террор, который бушевал по всей стране с весны 1937 г. до осени 1938 г. и результатом которого были 750 тыс. расстрелов и полтора миллиона приговоров к медленной лагерной смерти. Спрашивается, какие мозги могли выдумать, а потом осуществить такое массовое убийство? Еще более непостижимо, как грамотное городское население могло покорно сдаваться власти террора и даже активно, усердно содействовать террору, принося ему в жертву соседей, коллег, семью.
Сам Сталин к середине 1930-х гг. представлял собой выродившегося психопата, который чем больше врагов истребляет, тем более намечает на истребление: серия убийств растет не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Тогда же началось роковое сотрудничество: в игру вошел Николай Ежов, выдвинутый, чтобы привести террор в исполнение, и через полтора года снятый, когда опустошение было произведено. В психике Ежова надо разбираться отдельно, ибо по своей маниакальности он – явление особое. Что касается сборища полулюдей из политбюро, которые переживут Сталина – Кагановича, Молотова, Маленкова, Микояна, Хрущева, – они убивали не потому, что ими руководило сильное внутреннее стремление, а потому, что, как верные псы, полностью отдали совесть, волю и ум своему хозяину.
Бойню Большого террора отличает от предыдущих самоубий-ственность: главные орудия террора, четырехмиллионная Коммунистическая партия и гигантский НКВД, оказались его наиболее уязвимыми жертвами.
Что касается среднего обывателя Советского Союза в это время, не надо упускать из виду, что двадцать лет революционного социализма и десять лет сталинской власти окончательно разбили все звенья, связывающие одного человека с другим. Гитлеру приходилось договариваться с протестантской и католической церквями, и даже кое в чем идти им на уступки (например, прекратить умерщвление калек и душевнобольных); он должен был удовлетворять – надо сказать, что без заметного труда, – остаткам нравственных препятствий, выдвинутых военными, крупными капиталистами, юристами, врачами и профессорами. Только в вихре тотальной войны, пытаясь скрывать от гражданского населения масштаб своих преступлений, Гитлер смог приступить к программе массового истребления целых рас и народов.
Сталин мог обходиться без компромиссов. Православная церковь была раздавлена. У Красной армии уже не было нравственного кодекса – она давно привыкла уничтожать невооруженных горожан и крестьян. Русская интеллигенция была в эмиграции, в тюрьме, подвергалась шантажу или брала подачки от власти. Вне партии фактически уже не существовало какой-либо общественной этики. Население просто терпело кризис за кризисом, надеясь, что в конце концов наступят покой и стабильность. В 1917–1918 гг. оно покорно приняло большевистский государственный переворот, в 1926 г. так же смиренно отнеслось к отмене коллективного руководства и в 1929 г. – к порабощению крестьянства. В 1937–1938 гг. исчезнет каждый десятый взрослый горожанин: те, кто остался, должны были уповать на то, что Сталин и партия скоро свершат свои дела и оставшееся население, как спасенные души в кальвинистском раю, обо всем позабудут и заживут в вечном блаженстве.
У обывателя, конечно, были веские причины сотрудничать с угнетателями. Если не охотишься вместе с гончими, то оказываешься зайцем, на которого гончих натравливают. К тому же те, кто исчезал, освобождали рабочие места, квартиры, мебель и т. д.
Террор был орудием не совсем слепым: он был направлен на мужчин старше тридцати и моложе пятидесяти, на кадры и профессионалов. Точно так же как война против кулаков, городской террор натравливал молодых, обездоленных и необразованных против старших и преуспевших, у которых были богатства и ремесло. Тем, кто губил других, будь он анонимным клеветником или офицером НКВД, руководили личные моменты – месть, зависть, корысть.
Сталин лучше всего понимал самое низкое в человеке и сообразно мотивировал подручных и население. Назначив Николая Ежова, он приобрел идеальный инструмент. Без сомнения, если бы Ежов отказался от этого назначения, Сталин воспользовался бы услугами Кагановича, Молотова или даже таких новичков, как Андреев или Жданов. Но они не смогли бы довести террор до такого невероятного масштаба, как это сделали исключительно ревностное усердие Ежова и та взаимная поддержка, которую какое-то время Сталин и Ежов оказывали друг другу О Ежове сегодня известно несколько больше, и биографический экскурс здесь не помешает.
Как ежик оброс иглами
Лучше всех покоряется приемам укротителя тот лев, который стоит на низшей социальной ступени в прайде, то есть является зверем-омегой.
Янн Мартел. Жизнь Пи[14]
В партийных документах повторяется информация, что Николай Ежов родился в Петербурге 1 мая (по новому стилю) 1895 г., что в 1906 г. его приняли подмастерьем-слесарем на Путиловский завод и в 1913 г. призвали в армию (1). Ежов раз написал, что он прошел всего два года начальной школы и сам обучился грамоте. В 1920-х гг. он так много читал, что его прозвали Колька-книжник. По скромным нормам сталинского политбюро он мог слыть образованным.
После ареста в 1939 г. Ежов давал показания, из которых выходит, что отец был музыкантом в военном духовом оркестре в Литве и потом стал хозяином петербургской чайной с дурной репутацией. В ответах на партийные анкеты Ежов заявлял, что знает польский и литовский языки, и его сестра Евдокия Бабулина-Ежова, только раз в жизни высказавшаяся о своем брате, вспоминала, что они проводили каникулы в Сувалкской губернии, в местности, которую позднее разделила литовско-польская граница. Мать Ежова была литовкой и работала горничной.
На самом деле Ежов родился близ Мариамполя, где он учился, вероятно, три года, а отец уже служил в местной полиции, откуда был уволен за пьянство (слабость всех Ежовых). Чайную отец открыл не в Петербурге, а в пригороде Мариамполя (единственный Иван Ежов в списке жителей Петербурга за 1895 г. был хозяином кабака). Чайная скоро прогорела, и Ежов-отец стал маляром. Тем временем сестра Ежова вышла замуж за солдата Бабулина, и они втроем уехали в Петербург, где Ежов-сын работал нянькой маленького племянника и подмастерьем в портняжной мастерской шурина. Около 1913 г. Ежов вернулся на родину – может быть, из-за легочного заболевания. В 1915 г. он вступил добровольцем в армию, откуда его комиссовали через три месяца, по-видимому из-за легкого ранения (2).
Выдумав для себя целиком русское и пролетарское происхождение, Ежов сделал правильный шаг для будущей карьеры. После Ягоды русские граждане тешились мыслью, что наконец, после власти поляков и евреев, придет в НКВД настоящий русский человек и уймет фанатизм и беспощадность, типичные для инородцев ЧК и ГПУ.
Почти все, кто вспоминает молодого Николая Ежова, особенно в 1920-х гг., говорят о дружелюбном, сочувственном парне. Даже вдовы Бухарина и Орджоникидзе настаивали, что палач их мужей был хорошим человеком, попавшим под вредное влияние, ставшим беспомощной марионеткой в руках гениального и сатанинского балаганщика. «Не винишь веревку, на которой тебя вешают», – говорил один свидетель. Но через десять лет юный Ежов превратился в неузнаваемого alter ego; как доктор Джекил и мистер Хайд, он стал алкоголиком, который был подвержен внезапным приступам насилия против тех, с кем он выпивал, ненасытным сексуальным хищником, активным и пассивным бисексуалом, соблазняя любую женщину или девочку, на которую мог положить глаз, без всякого чувства привязанности или угрызения совести.
О юности Ежова мы знаем еще меньше, чем о юности Ягоды или Менжинского. Их приучили к массовому убийству Гражданская война и революционный террор, но Ежова нельзя обвинить в кровавых делах до 1936 г., когда Сталин назначил его главой механизма, который истребит сотни тысяч людей. Может быть, короткая служба в царской армии произвела глубокое впечатление на Ежова, и даже тогда, когда он заведовал круглосуточным террором, он любил, с прекрасной, прочувствованной интонацией, петь старую песню о смертельно раненном солдате:
- Черный ворон, что ж ты вьешься
- Да над моею головой?
- Ты добычи не добьешься,
- Черный ворон, я не твой.
- Что ж ты когти да распускаешь
- Да над моею головой…
Как Ягода, так и Ежов были обязаны своей блестящей карьерой бюрократическому таланту; революционные его заслуги были скромны. Рассказы о том, что на Путиловском заводе и потом в оружейной мастерской он занимался агитацией среди рабочих, – выдумки. Когда революция дошла до Витебска, где жило столько же поляков и евреев, сколько русских, Ежов вдруг из комиссованного солдата превратился в красногвардейца и коммуниста (3) и, кажется, помог своим знанием польского языка и врожденным актерством разоружить большой отряд поляков, которые ехали в Петроград сражаться с большевиками.
После 1919 г., когда Ежов начал служить в Красной армии, факты можно проверить. Почти карлик – ростом он был полтора метра – и негодный для фронта, Ежов отправился в Саратов в школу радиотелеграфии и там стал секретарем гарнизонной коммунистической ячейки. Он зачесывал наверх густые каштановые волосы и надевал сапоги с высокими каблуками, чтобы казаться выше.
Когда белые подступали к Саратову, Ежов со своей школой отступил в Казань. Несмотря на выговор, который он получил за то, что разрешал дезертирам поступать в школу, Ежова продвинули, и в 1921 г. он стал заведующим агитпропом в Казани. Здесь, в соответствии с принципом ленинской национальной политики, Ежов должен был примирять национальные устремления татар с про-московской ориентацией местных русских.
Что делал Ежов во второй половине 1921 г., неизвестно. Может быть, в октябре вместе с Маленковым участвовал в подавлении восстания басмачей в Бухаре – этим объясняется близость Ежова с Маленковым десять лет спустя. Известно, что Ежов постоянно болел: всю жизнь его мучили кашель и лихорадки, и он время от времени лечился от туберкулеза. В Казани Ежов женился на Антонине Титовой, которая, как и сестра и приемная дочь Ежова, каким-то чудом пережила его. Никто не помнит, чтобы она когда-нибудь говорила о своем муже. Дочь деревенского портного, Антонина обучалась естественным наукам в Казанском университете, когда революция прервала все занятия. Потом она работала секретаршей. Николай Ежов, несмотря на маленький рост, был мускулистым и энергичным парнем и ей, очевидно, понравился. Целых восемь лет они казались нормальной, даже счастливой четой.
Казанский партком написал рекомендацию в Москву, откуда Ежова отправили в Йошкар-Олу (тогда Краснококшайск), где половину населения составляли марийцы, и обязанностью Ежова было снимать этническое напряжение. Когда он приехал в марте 1922 г., в местной парторганизации марийцы уже заняли все руководящие должности, на что лучше образованные русские сильно досадовали. Местный партийный начальник Петров, мариец, с презрением прозвал Ежова «Изи Миклай» (маленький Коля). Ежов нанес типичный для него ответный удар: он создал собственный аппарат из проверенных людей, чтобы перехватить у Петрова власть, написал донос в Москву на «идеологический беспорядок» партийной организации, изобличил Петрова в обмане и подделке и пригласил из Москвы целую комиссию, чтобы расправиться с марийцами. Ежов пошел еще дальше: он назначил свою жену Антонину главой партийной организации и обвинил Петрова в «марийском национализме»: Петрова надо было обуздать, и Ежов прилагал нужные документы.
Конфликт кончился вничью – и Петрова, и Ежова Москва отправила в бессрочный отпуск (4). Но Ежов выиграл тем, что произвел положительное впечатление в Москве, в особенности на Кагановича. (С Кагановичем Ежов уже столкнулся в Витебске, когда Каганович, будоража железнодорожников, к своему удивлению, узнал, что похожий на мальчика Ежов был комиссаром вокзала.)
В 1923 г. целый комитет вождей – Калинин, Рыков, Каганович, Куйбышев и Андреев – решил, что Ежова можно послать еще в один этнически сложный регион, в Семипалатинск, который тогда был ключевым городом в огромной Автономной Киргизской ССР (от старого названия казахов – «киргизы»; с 1925 г. – Автономная Казахская ССР). Ежову не минуло еще и тридцати, когда он стал фактически главой партии в области, опустошенной голодающими тюркскими кочевниками, бандитами и дезертирами. Он так хорошо навел порядок, что его перевели в Оренбург, тогдашнюю столицу Автономной КССР. К 1926 г. он был уже солидным партийным чиновником и делегатом XIV съезда партии. Умным и опытным людям Ежов нравился. Казахстанский археолог и писатель Юрий Домбровский, который прошел не один лагерь, писал о нем:
«Это был отзывчивый, гуманный, мягкий, талантливый человек. Любое неприятное личное дело он обязательно старался решить келейно, спустить на тормозах. Повторяю: это общий отзыв.
Так неужели все лгали? Ведь разговаривали мы уже после падения «кровавого режима» (5).
Другой свидетель из Казахстана, тоже побывавший в ГУЛАГе, вспоминает, как Ежов «с чувством пел народные песни».
В конце 1925 г., на партийном съезде в Москве, Ежов остановился в гостинице вместе с Иваном Михайловичем Москвиным. Москвин был с Зиновьевым на ножах, и поэтому изо всей ленинградской администрации Сталин доверял одному ему и выдвинул его, так что Москвин заведовал отделом партии по организации и распределению кадров. Москвин должен был отыскивать хороших администраторов; видя в Ежове земляка-петербуржца, полюбил его. Ежов тоже нуждался в Москвине, потому что искал работу в Москве, где в 1926 г. начала обучаться Антонина. В феврале 1927 г. Ежов поступил в отдел трудолюбивого Москвина, которого он удивлял тем, что каждое дело заканчивал до срока и никогда не уставал от бюрократической канители. Через семь месяцев Ежов стал заместителем Москвина и фактически приемным сыном Москвиных. София Москвина прозвала его «воробышком», но лучше она бы его прозвала «кукушонком», ибо через десять лет Ежов расстреляет Ивана Москвина как масона, а Софию неизвестно за что. Зять Москвина, Лев Разгон, вспоминает Ежова в 1927 г.:
«Ежов совсем не был похож на вурдалака. Он был маленьким, худеньким человеком, всегда одетым в мятый дешевый костюм и синюю сатиновую косоворотку. Сидел за столом, тихий, немногословный, слегка застенчивый, мало пил, не влезал в разговор, а только вслушивался, слегка наклонив голову» (6).
То, что Москвин рассказывал Разгону о Ежове, было сказано пророчески-проницательно:
«Я не знаю более идеального работника, чем Ежов. Вернее, не работника, а исполнителя. Поручив ему что-нибудь, можно не проверять и быть уверенным – он все сделает. У Ежова есть только один, правда существенный, недостаток: он не умеет останавливаться».
Ценил Ежова не только Москвин. Секретарь (русский еврей) партии в Татарстане просил прислать Ежова как крутого руководителя, который угомонит татар. Каганович выбрал Ежова организатором в кампании коллективизации 1929 г., когда 25 тыс. партийцев мобилизовали, чтобы запугивать крестьянство. В качестве заместителя наркома сельского хозяйства Ежов оказался самым страшным начальником. Антонина теперь занималась исследованием культуры свеклы, и супруги встречались все реже и реже. У переутомленного работой Ежова уже наблюдались признаки нервного расстройства, он искал утешения у других женщин. В 1930 г. в Сухуме Осип и Надежда Мандельштам, отдыхавшие по милости Нестора Лакобы в правительственном особняке на Черном море, наблюдали чету Ежовых. (Ежов подписал ордер на последний, роковой арест Мандельштама, поэтому его вдове трудно было поверить, что «этот скромный и довольно приятный мужчина», который возил их в город на своем автомобиле и танцевал, несмотря на хромоту, стал зачинщиком сталинского террора.) В Сухуме Мандельштамы услышали весть о самоубийстве Маяковского (событие, разбудившее лирическое вдохновение Мандельштама). Несмотря на новости, русские партийцы танцевали дальше, а грузинские гости замечали, что они, если бы умер их национальный поэт, перестали бы ликовать. Надежда Мандельштам передала это замечание Ежову, который сразу прекратил вечеринку (7). Ежов играл с Лакобой в бильярд, танцевал, пел (с абсолютным слухом и тонким чувством), разрешал жене катать абхазских детей на их автомобиле, сам вызвался увезти с собой в Московский зоопарк медвежонка, подаренного Лакобой. Антонина отдыхала в шезлонге, пока Ежов срезал розы для более отзывчивых дам.
В предыдущем году в санатории в Сочи Ежов встретил такую женщину, от которой любой мужчина, работающий в аппарате Сталина, должен был бы спасаться как от чумы. Евгения Хаютина-Фейнберг была не просто еврейкой уже со вторым мужем: ее второй муж, Александр Гладун, московский редактор, до 1920 г. жил в Америке, ив 1927 г. они с женой работали в советском полпредстве в Лондоне. Евгения умела только печатать на машинке, но у нее были литературные связи, которые, кажется, завораживали Колю-книжника. Одно время она была – и еще раз будет – любовницей Исаака Бабеля. Сам Гладун потом давал показания, что Ежов был по уши влюблен в Евгению и не хотел выходить из ее комнаты, что Евгения объяснила ему, что Ежов – восходящая звезда и что ей лучше быть связанной с ним, чем с мужем. Ежовы и Гладуны развелись, и в 1931 г. Ежов женился на Евгении. Развод спас жизнь Антонины, которая умерла в возрасте 91 года, но Гладун все-таки погиб. Евгения стала редактором журнала «СССР на стройке», и в Москве чета нашла себе квартиру на Страстном бульваре.
В ноябре 1930 г. Ежова назначили на пост Москвина. Впервые ему приходилось сидеть вдвоем со Сталиным в Кремле. Осенью 1932 г. состоялось шесть таких встреч, а в 1933 г. Ежов садился со Сталиным за один стол раз в две недели. Сталин приказал Ежову «специально заняться укреплением и усилением личного состава районных аппаратов ОГПУ», чтобы загнать крестьян назад в колхозы (8). Чем больше Сталин ругал старых большевиков за заносчивость и самомнение и чем чаще обходился без их услуг, тем усерднее он выдвигал молодых подчиненных, отсутствие революционных заслуг и квалификации которых компенсировалось тем, что они были многим обязаны Сталину. К этому времени объем ответственной работы у Ежова был огромен. Он заведовал комиссией, очищавшей партию от сомнительных членов, проверявшей документы и архивы, исключившей полмиллиона членов – то есть каждого восьмого человека. В оргбюро у Ежова было много обязанностей – он надзирал за ОГПУ и тяжелой промышленностью и распределял кадры на партийные посты.
К началу 1930-х гг. Сталин выражал поистине отцовскую, нежную заботу о своем молодом протеже. Ежова он прозвал Ежевичкой, а Лаврентий Берия, который всегда по мере сил подпевал Сталину, прозвал его Ежиком. В августе 1934 г. здоровье Ежова расстроилось. Сталин его отправил сначала в Берлин, а потом в Австрию (куда лучшие немецкие врачи убегали от Гитлера). Австрийские врачи диагностировали желудочное заболевание, и Сталин приказал послать телеграмму: «Воздержаться без острой необходимости от оперирования Ежова» (9). Сталин сам телеграфировал в советское посольство в Берлин:
«Очень прошу Вас обратить внимание на Ежова: он серьезно болен, недооценивает серьезности своего положения. Оказывайте ему помощь и окружите его заботой. Имейте в виду, что человек он хороший и работник ценнейший. Буду благодарен, если регулярно будете сообщать в ЦК о ходе лечения» (10).
Но симптомы болезни Ежова обострились, и в 1935 г. Сталин написал ему: «Вам надо поскорее уходить в отпуск – в один из курортов СССР или заграницу, как хотите, или как скажут врачи. Как можно скорее в отпуск, если не хотите, чтобы я поднял большой шум». В результате политбюро выделило Ежову с Евгенией отпуск на два месяца и 3 тыс. рублей, чтобы лечиться за границей. Ежова лечил доктор Карл фон Ноорден, лечивший не одного члена политбюро. Никто в окружении Сталина, даже Молотов или Жданов, не говоря уж о законных сыновьях Сталина, не вызывал у Сталина столько личных волнений, как Ежов.
Когда 10 мая 1934 г. умер Менжинский и Ягода унаследовал всю власть над ОГПУ, Сталин счел необходимым подчинить своим собственным людям ОГПУ и НКВД. Каганович и Ежов старательно находили недостатки во всем, что предпринимал Ягода, и – что еще хуже – во всех случаях, когда Ягода решал ничего не предпринимать. Пренебрегая Ягодой, Ежов обсуждал дела НКВД с его подчиненными, Аграновым и Евдокимовым, и с убийственным презрением докладывал политбюро о состоянии дел в НКВД. Уничтожающие доклады Ежова погубили Ягоду, и благодаря своим стараниям Ежов мог ручаться, что через несколько месяцев он будет не просто надзирать над НКВД, но полностью завладеет им и получит задание подвергнуть его такой чистке, какой до тех пор не подвергалось ни одно советское учреждение.
Чистка рядов
Александр Галич. Плясовая (11)
- Белый хлеб икрой намазан густо,
- Слезы кипяточка горячей.
- Палачам бывает тоже грустно.
- Пожалейте, люди, палачей!
- Очень плохо палачам по ночам,
- Если снятся палачи палачам,
- И как в жизни, но еще половчей,
- Бьют по рылу палачи палачей.
Как ни странно, выбор наследника Ягоды не сразу пал на Ежова, и Сталин сначала размышлял о человеке совершенно другого характера – о Несторе Лакобе, у которого руки были почти чисты от крови и которого народ подлинно любил. Как-то летом в начале 30-х годов Сталин, Берия, Лакоба с женами и с детьми играли вместе около вилл и на пляжах Сухума или в пастушьих хижинах на берегу озера Рица. Сталин полностью доверял Лакобе и, не задумываясь, охотился с ним на кабанов. Лакоба был первоклассным стрелком, который любил эпатировать гостей, одним выстрелом сбивая яйцо с головы своего повара. Сталин любил шутить: «Я Коба, а ты – Лакоба». Лакоба присылал Сталину сотни лимонов и обсадил мандаринами сталинскую дачу. Надежда Аллилуева подарила Сарии, жене Лакобы, уже традиционный среди высших эшелонов ОГПУ подарок, золоченый пистолет.
Сталин чаще и дольше разговаривал с Лакобой, чем с любым другим коллегой (12). В конце 1920-х гг. Сталин решил не применять коллективизации к Абхазии и критиковал тех, кто «не учитывает специфических особенностей абхазского уклада, сбиваясь иногда на политику механического перенесения русских образцов социалистического строительства на абхазскую почву», но в то же время деликатно уговаривал Лакобу признавать хоть на словах советскую иерархию:
«Ошибка товарища Лакобы состоит в том, что он а) несмотря на свой старый большевистский опыт, сбивается иногда в своей работе на политику опоры на все слои абхазского населения (это не большевистская политика) и б) находит возможным иногда не подчиняться решению обкома (это – тоже не большевистская политика) […] Я думаю, что т. Лакоба может и должен освободиться от этих ошибок» (13).
Хотя Абхазия не была той идиллической Аркадией, какой ее изображает Фазиль Искандер в романе «Сандро из Чегема», тем не менее Лакоба хитро правил страной, учитывая и требования сталинизма, и древние языческие абхазские обычаи.
Те родственники Лакобы, которые смогли выжить, несмотря на месть Берия, говорят, что Сталин просил Лакобу стать наркомом внутренних дел, но Лакоба отказался. Зачем Сталин это сделал? Лакоба, как Серго Орджоникидзе, был близким другом, насколько у Сталина могли быть близкие друзья, и, будучи кавказским человеком, Лакоба был и речью и мышлением понятен Сталину. Но уму непостижимо, чтобы Лакоба превратил НКВД в такую бойню, какую Сталин хотел из него сделать. Так или иначе, поведение Сталина осенью 1936 г., когда Лакоба его увидел в последний раз, незадолго до назначения Ежова, было сурово: в самом деле «в аду нет фурии страшнее» отвергнутого Сталина.
Дамоклов меч давно висел над Лакобой, и, не люби его Сталин, его бы сняли уже в 1920-е годы. В 1924 г. он принял (по просьбе Сталина и Дзержинского) Троцкого. Троцкий, хороший стрелок и охотник, очень понравился Лакобе, и еще несколько лет Лакоба и Сария писали Льву Давидовичу дружелюбные письма. Между Лакобой, уведшим Абхазию из состава грузинского государства, и Лаврентием Берия, жаждавшим вернуть Абхазию в состав Грузии, бушевали настоящие кавказские страсти (14). Подхалимство Берия сменилось гневом, когда сводный брат Лакобы, Михаил, приставил к голове Берия револьвер – за то, что тот матерился в присутствии женщин (15).
20 ноября 1936 г. Лакоба вместе с Орджоникидзе пошел к Сталину в Кремль с папкой компромата. Лакоба хотел еще раз доказать Сталину, что Берия, уже не раз заподозренный в двурушничестве, был в 1920 г. настоящим, не двойным, агентом азербайджанских националистов. Доверие Сталина к Лакобе уже испарилось; Лакобе трудно было понять, что он уже не мог считать себя свободным на Кавказе от власти Берия. 20 декабря Берия вызвал Лакобу в Тбилиси, и жена Берия пригласила абхазского вождя к себе на обед. Лакоба пошел с тяжелым сердцем; недавно у него в сухумском особняке нашли девушку, будто бы застреленную из его револьвера, и следствие, устроенное Берия, намекало, что девушка – бывшая любовница Лакобы. За обедом подали форель. Через два часа, на глазах у всех в Тбилисской опере, Лакобу схватили судороги, и он вскоре скончался (16). Тело, без внутренних органов, вернули в Сухум на похороны, на которых Берия с женой шли за гробом, и Лакобу торжественно похоронили в ботаническом саду.
Врачи, вскрывшие тело Лакобы, были арестованы. Через месяц могилу Лакобы сровняли с землей и труп выкопали. Лакобу объявили врагом народа; вдову обвинили в том, что она собиралась убить Сталина из револьвера, подаренного ей Аллилуевой. Ее пытали два года, пока она не умерла. Мать Лакобы палач Берия, Ражден Гангия, избил до смерти дубинкой. Берия перебил почти весь род, а детей держал в тюрьме, пока они не достигли расстрельного возраста. В Москве сына Рауфа пытал известный энкавэдэшник лейтенант Хват; потом Ульрих его приговорил к смерти, и в 1941 г. его расстреляли. Выжили один шурин и две племянницы. Вместе с Лакобой погибла почти вся абхазская интеллигенция; грузины и мингрелы заняли полупустые поселки Южной Абхазии. Страшная месть Берия была разрешена Сталиным без подписи Ежова, и после убийства Лакобы Сталин девять лет не ездил на Кавказ.
Осенью 1936 г. Ежов должен был сначала закончить те дела, которые оставил недоделанными Ягода. Надо было подготовить два показательных процесса, чтобы избавить государство сначала от левых, а потом от правых, скомпрометированных показаниями Зиновьева и Каменева. Чтобы НКВД работал соответственно с планами Ежова, его надо было очистить. Сами палачи стояли в первых рядах тех, кого казнят. Раньше каждый новый вождь тайной полиции осторожно садился в свое кресло, никого не сменяя, тем более не истребляя. Даже когда Ягода занял место Менжинского и поссорился с теми, кому не нравилась его унтер-пришибеевская грубость, ОГПУ – НКВД оставался цельной, сплоченной организацией. Чтобы снять группу нерусских чекистов – Станислава Мессинга, Меера Трилиссера, – которых Сталин или недолюбливал, или намечал на другую работу, Сталину пришлось вмешаться лично (17). Очень немногие, например Яков Агранов и Ефим Евдокимов, принципиально возражали против стиля правления Ягоды: они не любили сфабрикованных дел начала 1930-х гг. не потому, что любили правду и ненавидели ложь, а потому, что требовали более убедительных методов фальсификации.
Ежов опустошил НКВД, как вскоре опустошит партию, армию, интеллигенцию и советские города. Сначала он снял с постов самых выдающихся чекистов, не всегда сразу расстреливая их, но иногда на время отправляя их в глушь. Как только Ежов занял свое место, видный чекист секретно-политического отдела И. В. Штейн покончил с собой. Сразу после ареста Ягоды схватили Глеба Бокия, который так жестоко терроризировал Петроград и Туркестан. Георгий Молчанов, которого Ягода назначил главой секретно-политического отдела ОГПУ, был арестован за месяц до ареста Ягоды: он был расстрелян «в особом порядке», то есть без формального допроса, без суда и без приговора, после того как его избили коллеги Николай Николаев-Журид, латыш Анс Залпетер и вологодский палач Сергей Жупахин (все трое сами будут расстреляны через год). Красавца Молчанова пытали так мучительно, что, надо полагать, смерть стала для него избавлением. Всеволод Балицкий, которого Сталин одно время считал возможным наследником Ягоды, был расстрелян как польский шпион.
Ни тонкий ум, ни соседство со Сталиным по даче в Зубалове, ни добровольная помощь в свержении Ягоды не спасли Якова Агранова. Зря он помогал Ежову в течение первых месяцев работы и репетировал с Радеком и Пятаковым показания на предстоящем суде: его три раза переводили с одного поста на другой и наконец, в июле 1937 г., арестовали. Ефим Евдокимов, который по инициативе Сталина допрашивал Ягоду, тоже получил неожиданную награду: в мае 1938 г. его перевели в Наркомат водного транспорта, который уже приобретал репу тацию смертной камеры чекистов. В конце концов Лаврентий Берия истребит Ефима Евдокимова вместе со всеми чекистами, которые благодаря Берия начали свою карьеру на Северном Кавказе. Матвей Погребинский, начальник Управления НКВД по Горьковскому краю (Нижний Новгород), застрелился, когда узнал об аресте Ягоды; через несколько дней заместитель главы контрразведки у Ягоды, И. И. Черток, выбросился из окна и разбился насмерть. Даже один из любимцев Ежова, комиссар государственной безопасности третьего ранга Владимир Курский, который получил пост Георгия Молчанова, покончил с собой в июле 1937 г.: он впал в отчаяние, когда получил приказ допросить и убить Зинаиду Гликину, брошенную любовницу
Ежова. Последний аристократ в НКВД, барон Пиллар фон Пильхау, был арестован как польский шпион. Из ста десяти высокопоставленных чекистов, подчиненных Ягоде, Ежов арестовал девяносто, расстреляв большую часть. Еще 2273 чекиста были арестованы и, по расчету Ежова, 11 тыс. были уволены.
Чистка НКВД прежде всего убрала нерусских. Евреи и те, у кого были связи с Германией и с лимитрофными государствами (Польшей, Румынией, Балтийскими странами), от которых коммунисты не могли ждать защиты или заступничества, были обречены. НКВД дорого поплатился за былой космополитизм. В бытность Ягоды руководителем были расстреляны всего два видных чекиста – Яков Блюмкин и его друг Рабинович, но многие нерусские чекисты задумывались над будущим и уходили в другие сферы. Уходили напрасно – везде, в экономической или культурной сфере, отыскивали знаменитых латышей, таких как Петерс, и поляков – Мессинга и Уншлихта (18), и они погружались вслед за бывшими коллегами в забвение.
Рядовых энкавэдэшников, если им везло, просто увольняли или переводили: арест и расстрел были вообще участью высших кадров. Всю службу безопасности охватила паника. Новый НКВД – и Берия закончит то, что начал Ежов, – выглядит совершенно другим. 1 октября 1936 г. из 110 кадровых офицеров только 42 были русские, украинцы или белорусы; 43 объявили себя евреями, и было 9 латышей, 5 поляков и два немца. К сентябрю 1938 г., когда уже заходила звезда Ежова, было 150 кадровых офицеров, но из них большая часть – 98 – были русские; уже не было латышей, был всего один поляк, а евреев было только 32. Через год Берия повысил число русских до 122 и сократил число евреев до шести. Единственными неславянами оказались двенадцать грузин, которых Берия привез в Москву (19).
Ежов русифицировал НКВД, потому что Сталин явно воскресил русский шовинизм в советской политике. Заграничные операции НКВД, сильно пострадавшие, когда Сталин, в угоду Гитлеру, прикрыл сеть советских шпионов в Германии, полностью провалились после того, как переводчики балтийского, немецкого или еврейского происхождения были уволены или расстреляны. Ежов избавился от Абрама Слуцкого, руководителя иностранного отдела НКВД, посредством смертельной инъекции, так как арест мог бы встревожить подчиненных Слуцкого, и они перебежали бы к врагу. Потом Ежов арестовал Артура Артузова, полушвейцарца, полуэстонца, соседа Ягоды и самого лучшего контрразведчика в СССР.
К тому же Ежов устроил в НКВД классовую уравниловку. У Ягоды было больше белоручек, а под Ежовым больше людей из рабочих и крестьян. Для Ягоды работали бывшие дворяне, буржуи, даже один поп-расстрига и один балтийский барон; Ежов всех перестрелял. Уровень образования кадров НКВД соответственно падал. 35–40 % чекистов окончили лишь начальную школу (Берия улучшит положение, введя двухлетние курсы грамоты и арифметики), но тем не менее Ежов сократил пропорции кадров с высшим образованием с 15 до 10 % (Берия, наоборот, будет вербовать интеллигентов, так что к 1939 г. у трети кадров НКВД будут университетские дипломы).
Из-за чисток молодые офицеры начали быстро подниматься по службе, а новых людей призывали из комсомола и детских домов. С 1937 по 1939 г. средний возраст старшего энкавэдэшника упал с 42 до 35 лет. Преимущество молодых над старыми, славян над неславянами, крестьян над образованными горожанами отражало сталинское пристрастие к людям без прошлого и без сторонних привязанностей.
Те немногие, кто оставался на посту в НКВД, несмотря на громкие смены руководства, были коварными везунчиками, умеющими прятаться в глуши и как можно реже давать знать о себе в центре. Примером служит Дмитрий Орлов, который надзирал над выселенными кулаками в степях Северного Казахстана и оттуда не выезжал. Некоторые энкавэдэшники сразу поняли, что вызов в Москву, якобы на новое назначение или чтобы получить награду, на самом деле означал смертный приговор. Удивительно только, что очень немногие из них прилагали усилия, чтобы избежать такой судьбы. Кое-кто просто кончал с собой после звонка от Ежова, например Василий Каруцкий, начальник Управления НКВД по Западной, Смоленской, Московской области, или (в конце ежовщины) Даниил Литвин, которого поздравили с тем, что он расстрелял почти 50 тыс. ленинградцев в 1938 г. Бежали единицы, например Генрих Люшков, который в густом тумане перешел маньчжурскую границу, будто бы на свидание с агентом, а потом работал на японцев, пока они не избавились от него в 1945 г. Комиссар украинского НКВД Александр Успенский инсценировал собственное самоубийство, получил новые документы и пять месяцев метался по всей Европейской России, ночуя у бывших любовниц или друзей, пока его не поймали в камере хранения на какой-то станции на Урале.
Чаще всего энкавэдэшники, как их хозяин Ежов, алкоголем и садизмом глушили в себе страх за собственную жизнь. Они ненавидели тех невинных, которые не хотели ни в чем признаться, ибо тот следователь, который не мог добиться признаний, часто сам шел за своим заключенным в подвал. Никто уже не звал Ежова «ежевичкой»; о нем отзывались не иначе как о «ежовых рукавицах».
В 1937 г. Сталин разрешил применение физических пыток, и ужасам Лубянки с энтузиазмом подражали во всех провинциальных центрах (20). По архивам, например, новосибирского НКВД можно представить себе, до какой степени невиданные и ужасные жестокости обесчеловечивали людей (21). Ежов сам хвалил Новосибирск как второй самый эффективный город (после Москвы) с точки зрения выявления шпионов, вредителей и враждебных обществу элементов из населения. В Новосибирске были иностранные консульства, к тому же туда сослали троцкистов и кулаков – легко было выполнить и перевыполнить норму арестов. В апреле 1937 г. Ежов отправил туда подопечного Ягоды, Льва Миронова, чтобы арестовать как можно больше врагов в гарнизонах и железнодорожных депо области. Через два месяца замучившегося Миронова арестовали и в августе 1937 г. заменили Карлом Карлсоном, латышом, бывшим заместителем наркома внутренних дел УССР и фактически заместителем Ежова. К январю 1938 г. и Карлсона арестовали; его заменили опытным человеком, Григорием Горбачом, который почти до конца года держался за место, наводя террор на коллег, отыскивая врагов не только среди населения, но и в недрах местного НКВД (22). Горбача заменили майором Иваном Мальцевым, самым безумным из всех и обреченным на смерть в ГУЛАГе.
В Новосибирске энкавэдэшники были повязаны кровью: все офицеры участвовали в массовых казнях, называемых «свадьбами». Офицер Константин Пастаногов донес на своего дядю, но не решался его расстрелять: он выжил только потому, что Лев Миронов неожиданно сжалился над ним. Особые и секретно-политические отделы новосибирского НКВД из-за внутренних чисток лишились половины работников. Ряды пополняли рекрутами, для которых составление протокола было гораздо труднее, чем избиение жертвы, которая должна была подписать этот протокол. Ежову пришлось выслать на помощь экстренным порядком пятьдесят курсантов из московской школы НКВД.
Пределы истребления
Бертольт Брехт. В подражание По Чю-И[15]
- Что наделали маленькие поросята,
- Чтобы их резали год за годом, только чтобы
- Содержать в роскоши этих лис?
- Знает ли священный Дракон
- В девяти кругах своего пруда,
- Что лисы грабят его и пожирают его поросят,
- Или не знает.
Весной 1937 г. террор распространился с партийного руководства на городское население. Ежов назначил лимит арестов, казней (категория 1 – всего 73 тыс.) и тюремные сроки (категория 2 – без малого 200 тыс.) на каждую область (23). Эту операцию рассчитывали провести за четыре месяца, начиная с 5 августа и расходуя 75 млн рублей (главным образом на оплату железнодорожного тарифа). Место и дата расстрела не подлежали разглашению.
Прошло четыре месяца, и террор только набирал силу. Через полтора года первоначальные лимиты превысили вдевятеро. Главе смоленского НКВД Ежов советовал, что лучше сделать слишком много, чем недостаточно. Новосибирск почти сразу превысил свою норму в 5 тыс. человек: к 4 октября местный НКВД арестовал 25 тыс. и приговорил больше половины к расстрелу. Так как японское и немецкое консульства существовали в Новосибирске до конца 1938 г., тысячи людей были заклеймены шпионами. НКВД помогала милиция, которая перестала задерживать воров и хулиганов и начала охотиться на врагов народа. Любого человека, зашедшего в участок милиции по невинному делу, арестовывали; милиция приезжала в колхозы и забрала несколько процентов колхозников как вредителей – за 1937 г. новосибирская милиция таким образом погубила 7000 человек.
Был один очаг сопротивления: прокурор, М.М. Ишов, арестовал самых ретивых палачей, среди них Мальцева, и освободил их жертв. Вскоре самого Ишова арестовали, вместе с братом и коллегами, и тяжело избили, хотя каким-то чудом он выжил и в конце концов был реабилитирован. В конце 1938 г., когда подпись Ежова уже ничего не значила и Москва высылала всем областным НКВД выговоры за незаконные излишества, Мальцев не смог остановиться. Берия убрал самых необузданных новосибирских энкавэдэшников, но весь край остался во власти их подчиненных, пьяных психопатов, которые били своих жен, падали в горные шахты, воровали частную и государственную собственность и годились только для сумасшедшего дома.
В Южной России и на Кавказе, даже до того, как Сталин разрешил применение пыток, НКВД проявлял такой садизм, что Новосибирск казался бы раем, и живые завидовали мертвым: после кавказского допроса очень немногие были в физическом состоянии, приемлемом даже для ГУЛАГа.
Только одной-единственной мерой Ежов снискал себе подлинную популярность. Он отменил советскую политику в отношении уголовников, которых считали братьями рабочего класса, способными перевоспитаться. В апреле 1937 г. Ежов предложил и Сталин одобрил новую меру: арестовать и выселить или казнить рецидивистов и профессиональных уголовников. К июлю арестовали около 40 тыс. уголовников (и довольно многих кулаков-беженцев): расстреляли каждого пятого. Ночные улицы Москвы и Ленинграда были еще не совсем безопасными, но теперь, когда бандитов наказывали почти так же сурово, как рассказчиков антисоветских анекдотов, население начало чувствовать себя более защищенным.
Тех, кого он щадил от пули, Ежов отправлял в ГУЛАГ, который расширил до масштабов ада. Когда сняли Ягоду, в ГУЛАГе работали около 800 тыс. рабов (и сотни тысяч других переселенцев трудились в условиях, мало отличающихся от рабства). К 1936 г. ежегодная смертность в ГУЛАГе упала на 20 тыс., и в этом, последнем ягодинском году казнили всего 1118 человек (24). Пользуясь определениями Анны Ахматовой, была «травоядная» эра; теперь же наступила эра плотоядная.
Единственное, что мешало Ежову расширить ГУЛАГ до бесконечности, – это суровый климат, огромные просторы советской Арктики и проблемы транспорта, охраны и эксплуатации рабского труда в таких условиях. Чистки в рядах НКВД лишили Ежова лучших управленцев в ГУЛАГе. В декабре 1938 г. больше миллиона людей работало в ГУЛАГе и почти миллион сидел в тюрьмах или исправительных колониях. В этом году смертность в перенаселенном, хаотичном ГУЛАГе, с неопытной и запуганной администрацией, взлетела до 90 тыс., то есть на 10 %. Даже при такой смертности лагеря не справлялись с лавиной массовых арестов. Те, кого держали в битком набитых камерах, часто умирали от тифа, дизентерии, жары, голода или пыток, до того как их переслали в лагерь или к палачу в подвал.
Поэтому Сталин и Ежов решили, что число «врагов», подлежащих не принудительному труду, а расстрелу, надо повысить от 0,5 до 47 %. В 1937 и 1938 гг., по статистике НКВД, были осуждены за контрреволюцию 1444923 человека, из которых были расстреляны 681692. Таким образом, приток в ГУЛАГ замедлили, но обрабатывать столько заключенных оказалось почти невозможно. Надо было все быстрее и быстрее выбивать из арестантов признания, обрекающие других людей и дающие еще больше работы для НКВД. Даже бумаги не хватало, чтобы записывать приговоры и расстрельные справки.
Нетрудно было казнить много и быстро – опытный палач в Тбилиси или Ленинграде сам без помощников расстреливал за одну ночь 200 человек, – но избавляться от трупов было труднее – бульдозеров было мало, и около городов подходящих мест для захоронений недоставало. Иногда жертв возили туда, где офицеры НКВД жили на дачах: там они копали собственные могилы, на которых потом энкавэдэшники сажали сосны и строили домики. После конца 1937 г. НКВД перестал посылать трупы в больничные морги, которые раньше жгли или хоронили всех мертвых без различия. Смертность в Ленинграде, благодаря НКВД, стала втрое выше, и морги не справлялись. НКВД занял одиннадцать гектаров в Парголове, близко от тогдашней финской границы, и там было зарыто 46 771 тело.
Благодаря стараниям некоторых самоотверженных людей нам полностью «возвратили» имена жертв; составлены мартирологи для Ленинграда, некоторых русских областных городов и районов Москвы. «Ленинградский мартиролог», например, дает полные сведения о тех 47 тыс. мужчин и женщин, которых НКВД отправил на смерть за полтора года (25). Ни один из арестов не был результатом какого-нибудь следствия, и среди жертв минимальным было число уголовников. Вначале Ежов задал Ленинграду с июля по октябрь 1937 г. норму 4 тыс. на расстрел и 10 тыс. в ГУЛАГ. По инструкциям Ежова, надо было забирать всех кулаков, уголовников, немцев, поляков и репатриантов из Маньчжурии (после японской оккупации) и посылать два раза в неделю список арестов; Ежов предупреждал своих офицеров, что если норма не будет выполнена, то сделают надлежащие выводы и заберут самих офицеров НКВД.
Известные категории населения подлежали аресту прежде всего. Во-первых, 95 % расстрелянных – мужского пола. Во-вторых, нерусские составляли всего 18 % населения Ленинграда, но 37 % жертв. Поляки, финны, эстонцы и латыши выделялись: в СССР к концу 1937 г. численность поляков упала наполовину по сравнению с предыдущим годом. Почти все советские поляки – их было 144 тыс. – были арестованы, и три четверти были расстреляны.
Ирония состоит в том, что главным палачом Ленинграда с убийства Кирова до марта 1938 г. был латышский еврей, Заковский, урожденный Штубис. Другой нерусский чекист, Александр Радзивиловский, который начал свою карьеру в 1921 г. в Крыму, повторил инструкции Ежова насчет нерусских, когда бериевцы допрашивали его в 1939 г.
«Я спросил Ежова, как практически реализовать его директиву о раскрытии антисоветского подполья латышей, он мне ответил, что стесняться отсутствием конкретных материалов нечего, а следует наметить несколько латышей из членов ВКП(б) и выбить из них необходимые показания: “С этой публикой не церемоньтесь, их дела будут рассматриваться альбомным порядком. Надо доказать, что латыши, поляки и др., состоящие в ВКП(б), шпионы и диверсанты”. […] Фриновский рекомендовал мне, в тех случаях, если не удастся получить показания от арестованных, приговаривать их к расстрелу даже на основе косвенных свидетельских показаний или просто непроверенных агентурных материалов» (26).
Третья уязвимая категория – квалифицированные профессионалы. Чернорабочие и крестьяне составляли от 24 до 28 % арестованных – меньше, чем их было в составе населения, но квалифицированные профессионалы составляли 12 % – гораздо больше, чем их было в составе населения. Поэтому такие чистки, как ленинградская, ударили главным образом по врачам, ветеринарам, агрономам, инженерам, не говоря уже о священниках или людях, уже не раз обвинявшихся в контрреволюции. Из рабочих особенно страдали железнодорожники, благодаря бдительности Кагановича. Из нацменьшинств СССР некоторые фактически исчезли из-за ежовщины, но бунтовали против НКВД только группы горных чеченцев и ингушей.
Единственным относительно счастливым народом во время террора оказались немцы. Политбюро, опасаясь, что Гитлер примет ответные меры и начнет казнить своих коммунистов, приняло решение заменить расстрел десятилетним тюремным сроком (27).
Жить в одном здании или быть в родстве с арестованным оказывалось достаточным, чтобы человека забрали. Энкавэдэшники просматривали в домовом комитете списки жильцов и арестовывали за шпионаж всех с необычными фамилиями. Стало опасно жить в комфортабельной квартире или обзаводиться хорошей мебелью.
Приговоры жертвам выносила или тройка, или совместная комиссия из прокуратуры и НКВД; некоторые получали квазиюри-дический приговор от Военной коллегии Верховного суда. Почти всех обвиняли по статье 58 (контрреволюция) советского Уголовного кодекса, и большей частью по пунктам 10 (пропаганда или агитация) и 11 (организационная деятельность), которые требовали минимальных улик – случайное замечание или игра с друзьями в карты могли кончиться расстрелом.
В Москве и в Московской области, где жило много правительственных чиновников, квалифицированных профессионалов и иностранцев, погибло втрое больше, чем в Ленинграде (хотя в Москве было всего вдвое больше населения). Палачи сбивались с ног. Правда, в 1937 г., даже раньше Гитлера, НКВД производил опытные убийства, загрузив голых, связанных осужденных в закрытые машины (надпись на фургоне читалась «Хлеб»), закачав в кузов выхлопные газы, пока все не умирали, но эти опыты производились главным образом на Урале.
Общество «Мемориал» уже идентифицировало 21 тыс. трупов, захороненных на военном полигоне Бутово. Среди них были сотни местных крестьян, почти все монахи и священники Троице-Сергиевой лавры, кто остался в живых после предыдущих чисток, рабы-рабочие из Дмитлага, которые строили канал Москва —
Волга, и тысячи заключенных из разных московских тюрем. Очень много специалистов, казалось бы, необходимых советскому хозяйству, например профессор радиоэлектроники Леопольд Эйхенвальд, учились и занимались наукой за границей: таких обрекали за «шпионский образ жизни и антисоветскую агитацию». Никакой благодарности за бывшие услуги не было: дряхлый царский генерал и шеф жандармерии Джунковский, который обучал ЧК и ГПУ всему, что он знал о контрразведке и о борьбе с подрывными элементами, был расстрелян. Любой контакт с Европой был смертелен. Наркомат иностранных дел потерял десять дипломатических курьеров, брошенных в бутовские ямы. Сорок восемь австрийских беженцев от Гитлера были расстреляны как немецкие шпионы. Бутовские палачи были специалистами по искусству: больше сотни художников, иконописцев, скульпторов и архитекторов – весь цвет московского авангарда 1920-х годов – погибли в декабре 1937 и январе 1938 г.
Расстреливая мужчин и женщин, палачи вычеркивали фамилии из бесконечных машинописных списков, на которых стояли подписи тройки НКВД или членов политбюро (для тех семи процентов осужденных, которые раньше что-то значили в партии или в государстве). К спискам были прикреплены фотографии замученных и избитых людей, снятых почти сразу после ареста: у НКВД был, наверное, самый большой (в десять миллионов снимков) фотоархив в мире. Ордер на расстрел состоял из единственной инструкции: «При исполнении приговора обязательно сверить человека с фотографией».
С 8 августа 1937 по 19 сентября 1938 г. Бутово превратилось в бойню. Приток трупов достиг максимума (3165) в сентябре 1937 г. и в марте 1938 г. (2335). За одну ночь расстреливали до 474 человек. Маленькая команда палачей – М.И. Семенов, И. Д. Берг и П.П. Овчинников – расстреляла большую часть из 21 тыс. жертв. В НКВД такие люди вообще оставались в низших чинах (и, конечно, почти никогда не привлекались к ответственности – их наказанием были беспробудные запои). В провинции расстрелы производились еще более зверским образом: в лесах около Куйбышева, например, народ натыкался на тела расстрелянных.
Когда Ежов в начале 1939 г. наконец исчез, неоплаканный, даже не упомянутый в прессе, публика предполагала, что сам Сталин взял обратно в свои руки временно отпущенные вожжи и остановил чистки, о размерах которых он якобы и не подозревал. Теперь, однако, не подлежит сомнению, что Сталин был в курсе каждого поступка Ежова, заранее и во всех подробностях. Ежов с азартом просил разрешения очищать еще новые сферы промышленности или новые категории личностей; но и сам Сталин подстегивал Ежова – например, указывая на бакинских нефтяников как на группу, где должно быть много вредителей и шпионов (28). Каждый раз, когда осуждали старших партийцев или ключевых специалистов, политбюро заранее получало список, и Сталин, Каганович, Молотов или Ворошилов прибавляли свои замечания и подписи (очень редко смягчая приговор или вычеркивая человека из списка). Один или больше из этой четверки просматривали расстрельные списки на 40 тыс. человек. Раз за один день они утвердили 3 тыс. смертных приговоров. Сталин чаще других членов политбюро смягчал приговор; Молотов, по причинам, которые он потом не мог вспомнить, наоборот. У всех примечания были ругательные: «заслуживает», «проститутка», «сволочь». Начальник Управления кадров ЦК, Георгий Маленков, ломал голову в поисках новых кадров, и Сталин приказывал каждому новому наркому назначать по два заместителя, по всей вероятности, чтобы легче было заменить арестованного наркома. Только изредка, по причинам, нам неизвестным, Сталин притормаживал, требуя, чтобы некоторые аресты одобрил партийный секретарь или прокурор. (На самом деле только на одну неделю, с 1 декабря 1937 г., Сталин заставил Ежова согласиться на отпуск за городом.)
Ежов, как заметил Москвин, не знал, что такое тормоза в машине. Он умел только давать газу. Вначале Сталин полностью поддержал увеличение вдевятеро лимитов с 200 тыс. арестов и 73 тыс. казней, и молодые подопечные Сталина – Маленков, Хрущев и Андреев – ни на миллиметр не отклонялись от этой восходящей линии – они играли видную роль в тех тройках, которые посылали десятки тысяч на смерть. Сталин сделал Ежова членом политбюро и виделся с ним почти каждый день. В 1937 и 1938 гг. они провели вместе в кремлевском кабинете Сталина 840 часов. Только Молотов проводил с хозяином еще больше времени.
Сталин не отпускал Ежова от себя и, видно, так увлекся массовым убийством, что в 1937 и 1938 гг. впервые за двенадцать лет не уезжал из Москвы на юг отдыхать на два-три месяца. После террора наступит война, и до октября 1945 г. Сталин отдыхать не будет.
Последние показательные процессы
Свобода личности заключается главным образом в защите от вопросов. Самая страшная тирания – та, которая позволяет себе ставить перед людьми самые страшные вопросы.
Элиас Канетти. Массы и власть[16]
Шоковые волны показательных процессов, с помощью которых Сталин истребил последних старых большевиков, смели во всех областях и крупных центрах СССР два, даже три слоя управленцев: десятки тысяч лояльных сталинистов пожирала та чудовищная система, которую они сами создавали и воспевали. Последние показательные суды являлись эпицентром волн, но глубже всего страдала периферия, обыватели и рабочие без всяких политических интересов.
В этих двух последних процессах, которые сотрут с лица земли последние следы оппозиции, Ежов играл вторую скрипку. Он умел бить заключенного, пока тот не станет готовым подписывать любой документ, но сочинять сценарии, которые иностранные журналисты могли слушать с доверием, было Ежову не под силу. Поэтому Сталин договаривался прямо с Андреем Вышинским о том, что прокурор и обвиняемые будут говорить в зале суда. Сталин доверял Ежову, как и Кагановичу, на пленарных заседаниях лаять на членов ЦК, и лейтенанты Ежова будут мучить обвиняемых, пока они зубрили наизусть показания, написанные Вышинским.
Несмотря на лишение сна и другие пытки, целый месяц ушел на то, чтобы сломать обвиняемых «Параллельного антисоветского троцкистского центра», которых судили с 23 по 30 января 1937 г. Карл Радек, единственный подсудимый, которого Сталин хоть в малейшей степени уважал, согласился признать себя виновным только при условии, что сам напишет свои показания. Желание Радека блеснуть перед судом было сильнее, чем надежда как-нибудь выжить. По словам Сталина, Радек говорил: «Вы можете расстрелять или нет, это ваше дело, но я бы хотел, чтобы моя честь не была посрамлена». В отличие от Радека другие подсудимые уже сдались на суде бывших троцкистов в Сибири. Пятаков готов был не просто осудить собственную жену как изменницу, но и своей рукой перестрелять всех осужденных. (Сталин вежливо отклонил предложение Пятакова, объясняя ему, что в СССР палачи должны оставаться анонимными.)
Несмотря на обильную – в 400 страниц – документацию, этот второй показательный суд был еще более халтурно сфабрикован, чем суд над Каменевым и Зиновьевым. Пятакова обвиняли в том, что он летал в Осло, хотя норвежское правительство объявило, что никаких иностранных самолетов за это время не прибывало. Сами преступления были еще неправдоподобнее, чем «убийства», в которых обвиняли Зиновьева и Каменева. Вышинский с пафосом привел случай стрелочницы, искалеченной крушением поезда, организованным Троцким. Все обвиняемые, кроме четырех, были расстреляны, но и оставшиеся в живых очень скоро умерли в лагерях. До начала суда Радек прочитал Вышинскому свои показания. «И это все? – негодовал Вышинский. – Не годится. Переделать, все переделать. Потрудитесь признать то и то, признаться в том-то и в том-то, осудить то-то и то-то и т. п… Вы же журналист!» (29) Радек открыто дразнил Вышинского нелепостью обвинений. Он подтверждал, что никто его не пытал, но прибавил: «Если здесь ставился вопрос, мучили ли нас за время следствия, то я должен сказать, что не меня мучили, а я мучил следователей, заставляя их делать ненужную работу». Несмотря на свое озорство, Радек получил относительно мягкий приговор (тем не менее в 1939 г. его убили в лагере). Радек написал жене письмо, которое НКВД понял по-своему, а она – по-своему:
«Я признал, что я был членом центра, принимал участие в его террористской деятельности… Незачем тебе говорить, что такие признания не могли у меня быть вырваны ни средствами насилия, ни обещаниями…» (30)
Вышинского наградили дачей Леонида Серебрякова, бывшего наркома сухопутного транспорта, которого он только что проводил на расстрел.
Западная реакция на этот второй процесс была заглушена широко распространенным мнением, что теперь не подобает свободолюбивым интеллигентам критиковать Советский Союз, последнюю опору Испанской республики во время гражданской войны. Британские депутаты и журналисты уверяли публику, что обвиняемые признались, потому что доказательства прокурора были неоспоримы. Японские и немецкие журналисты кричали, что процесс – явная и возмутительная фабрикация, но никто в Великобритании или в США им не верил, так как они были фашисты. Любые неправдоподобности в признаниях, замеченных западными наблюдателями, – объяснял немецкий романист Лион Фейхтвангер, – вытекали из ошибок переводчиков.
Спрашивается, почему подсудимые на открытом суде не отрекались от своих губительных признаний? Конвоиры не могли избивать их тут же, и они не могли верить сталинским обещаниям щадить родственников, так как уже знали об истреблении всей родни и Зиновьева, и Каменева. Неужели они так слепо верили, что партийный долг требует, чтобы человек признался в преступлениях, которых не совершал? По-видимому, их не одурманивали. Протоколы допросов до сих пор засекречены, и очень вероятно, что тоже сфабрикованы. Или их пытали и угрожали чем-то, нам неизвестным, или у них была мотивировка, которая для нас совершенно непостижима. Одним страхом не объяснишь поведение подсудимых на этом процессе.
Третий и последний великий показательный суд 1930-х гг., когда избавились от Бухарина, Рыкова, Ягоды, трех кремлевских врачей и других, потребовал целого года на подготовку. Неизвестно, почему она так затянулась: из-за неспособности Ежова сплетать все нити в одну веревку, из-за несговорчивости Ягоды, или – вероятнее всего – из-за садизма Сталина. Сталин уже десять лет играл с Бухариным, как кот с мышью, и тот еще в 1936 г. оставался в редакторском кресле «Известий», когда сама газета уже разоблачала его. Бухарину Сталин даже позволил (с разрешения Гитлера) съездить в Германию за архивом немецкой социал-демократической партии и встретиться с историком-эмигрантом Николаевским. Мышь добровольно вернулась к коту в когти. И до самого смертного конца Бухарин был последним человеком (кроме семьи), с которым Сталин был на «ты». (Даже Берия, которому Сталин тыкал, не смел даже по-грузински «тыкать» в ответ.) Письма Бухарина к Сталину 1936 и 1937 гг. звучат, как псалмы Давида к Иегове, и в этом, может быть, ключ к мученическому комплексу всех обвиняемых:
«Если бы ты знал по-настоящему мою теперешнюю «душу»! […]
Но мне хочется сделать еще что-нибудь хорошее. И тут я прямо должен тебе сказать: у меня одна надежда на тебя» (31).
В Германии Бухарин разговорился с Борисом Николаевским (шурином Рыкова): казалось, что он уже примирился с судьбой. Но письма к Сталину становятся еще более елейными, и Бухарин все уверял Сталина, до чего тот нужен стране и миру, как он ему дорог. В августе Сталин еще раз отпустил Бухарина, в этот раз путешествовать по Памиру. Осенью, однако, Сталин захлопнул ловушку: Радека арестовали, и Бухарин написал отчаянное письмо, защищающее человека, «готового отдать последнюю каплю крови за нашу страну». Чем чаще подсудимые упоминали фамилию Бухарина, тем отчаяннее он умолял Сталина:
«Я горячо прошу тебя разрешить мне к тебе приехать… Большей трагедии, когда тебя, ни в чем не повинного ни на йоту, окружает враждебное недоверие, – нельзя иметь.
Я измучил весь свой мозг. Только ты можешь меня вылечить.
Я и так видел твою руку в некоторых событиях. […]
Я не о сожалении прошу, не о каком-нибудь прощении, ибо ни в чем не виновен. Но такая атмосфера, что только сверхавторитет (только ты) до конца может взять на себя смелость спасти невинного человека, попавшего из-за тактики врагов в исключительное положение. […] Допроси меня, выверни всю шкуру […]»(32)
Когда Сталин милостиво приказал Бухарину не уходить из редакции «Известий», тот сочинил «в одну из бессонных ночей» и послал вождю «Поэму о Сталине в семи песнях». Написанная белыми (и беспомощными) стихами, поэма начинается со смерти гения Ленина и описывает великую клятву Сталина, его огненный путь, и борьбу, и победу. Пятая песня называется «Вождь»:
- Вот он стоит, в шинели серой, вождь
- Бесчисленных творящих миллионов,
- Что вышли из низин глубоких,
- Из тьмы времен, из плесени подвалов…
- Все, все проходит чрез него. И властно
- Могучую он силу придает
- Разбегу новой жизни триумфальной (33).
Поэма заканчивается примирением народов и трубными гласами, после чего Сталин ведет свои армии на сражение с фашизмом: «И мудро смотрит вдаль, пытливым взором глядя / На полчища врагов, Великий Сталин».
Когда Сталин натравил на Бухарина «Правду», тот еще громче провозглашал свою неповинность «словом, делом и мыслью». Как только он узнал, что Зиновьева и Каменева расстреляли, Бухарин опозорился, заявив Вышинскому: «Я страшно рад, что собаки расстреляны». Затем у него в кремлевской квартире появились три чекиста: они ушли, после того как Бухарин позвонил Сталину. Смерть Серго Орджоникидзе в феврале 1937 г. лишила Бухарина последнего друга в политбюро. 20 февраля он признался Сталину:
«Я… был против тебя озлоблен (это правда): твоей объективной политической правды я не понимал… […]
Смерть Серго, которая меня потрясла до глубины души (я ревел часы навзрыд, я любил этого человека очень и очень, как действительно родного), эта смерть вскрыла до конца весь ужас моего положения… […] Ведь я уже не я. Я даже не могу плакать над телом старого товарища. Наоборот, его смерть для кое-кого послужит предлогом для моего обесчещения. […]
Я знаю, что ты подозрителен и часто бываешь очень мудр в своей подозрительности. […] Но мне-то каково? Ведь я живой человек, замуравленный заживо и оплеванный со всех сторон. […] Повторяю к тебе просьбу о том, чтоб меня не теребили и оставили “дожить” здесь» (34).
Февральско-мартовский пленум ЦК 1937 г., несомненно, представляет собой одно из самых чудовищных собраний в истории человечества (35). Из 1200 делегатов через два года останется в живых всего одна треть, но тем не менее все бешено требовали усиления террора против мнимых врагов. Бухарин и Рыков приходили прямо из НКВД, как из огня в полымя, с очных ставок с бывшими товарищами, доносившими на них и избитыми следователями. Пока толпа безумно ревела и Сталин, Молотов, Каганович и Ворошилов от имени политбюро дразнили жертв и подыгрывали толпе, Бухарин тщетно умолял о пощаде:
«Товарищи, я очень прошу вас не перебивать, потому что мне очень трудно, просто физически тяжело, говорить… я четыре дня ничего не ел, я вам сказал, написал, почему я в отчаянии за нее [голодовку] схватился, написал узкому кругу, потому что с такими обвинениями… жить для меня невозможно» (36).
На это, среди потока издевательства, Сталин спросил: «А нам легко?» Бухарин не посмел оспорить Сталина, утверждавшего, что до сих пор все обвиняемые признавались по своей собственной воле; над Бухариным просто смеялись, когда он объяснял, что все в признаниях подсудимых «троцкистов» было верно, кроме того, что осуждало его самого. Во время этой охоты на ведьм Сталин вмешивался не меньше ста раз, больше, чем кто-нибудь. Иногда он делал вид, что смягчается:
«Ты не должен и не имеешь права клеветать на себя. […] Ты должен войти в наше положение. Троцкий со своими учениками Зиновьевым и Каменевым когда-то работали с Лениным, а теперь эти люди договорились до соглашения с Гитлером».
Бухарин заявил, что он душевно болен, на что Сталин махнул рукой: «Извинить и простить. Вот, вот!»
Рыков же пытался защищаться более бойко, даже хваля НКВД за тщательное следствие его дела, но, когда он замолвил слово за Бухарина, Сталин возразил: «Он не сказал правды и здесь, Бухарин».
Последнее слово осталось за Ежовым, который обвинил Бухарина в том, что он скрыл от НКВД папку, набитую антисоветскими заявлениями, и обещал арестовать его: «Я думаю, что пленум предоставит возможность Бухарину и Рыкову на деле убедиться в объективности следствия и посмотреть, как следствие ведется». Назначили комиссию из 35 человек (включая двух главных жертв), которая и разработала формальности этого ареста. Ежов предложил расстрел, меньшинство комиссии голосовало за десять лет тюрьмы. Сталин надел маску беспристрастности и предложил комиссии передать дело в НКВД: все прекрасно поняли, что этим он дал инструкцию уничтожить Бухарина и Рыкова – единственных членов комиссии, которые воздержались от голосования при этом предложении.
Сталин и Ежов добродушно отвели Бухарину камеру, где ему разрешалось целый год курить и писать в ожидании суда, перед которым он предстанет в марте 1938 г. вместе с двадцатью другими (37).
Даже воображение Вышинского с трудом справилось с этим процессом. Он должен был в одном сценарии связать Генриха Ягоду, правую оппозицию Бухарина, трех кремлевских врачей, трех бывших троцкистов и секретарей Горького и Куйбышева, и фабула должна была начинаться с 1917 г. и проходить через целый ряд умышленных убийств, саботаж, специально подстроенный голод, измену родине и терроризм в пользу разведывательных служб почти всех государств Европы и Азии. На такой процесс надо было пускать только публику, подготовленную так же хорошо, как и подсудимые.
Как Ягода, так и Бухарин признали себя виновными вообще, но подвергали сомнению каждую подробность обвинения. Как Ягода, так и Бухарин отвергали всякую попытку Вышинского очернить их как иностранных шпионов. Тем не менее Бухарин закончил свои испытания крайним самоунижением: единственная причина, говорил он, почему его можно не расстрелять, – это что «бывший Бухарин уже умер, его не существует на земле». После такого признания любой объективный наблюдатель на процессе должен был заключить, что, кроме маленького круга, сплотившегося около Сталина, вся ленинская партия в 1917 г. почему-то симулировала большевистскую революцию в угоду мировому капитализму.
Бухарин наконец – не без гениального ясновидения – убедил себя, что были веские причины, почему он должен умереть: у Сталина