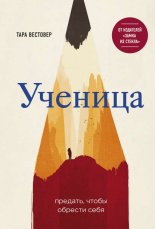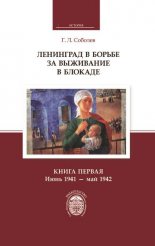Сталин и его подручные Рейфилд Дональд

«…имеется какая-то большая и смелая политическая идея генеральной чистки а) в связи с предвоенным временем, b) в связи с переходом к демократии. Эта чистка захватывает а) виновных, b) подозрительных и с) потенциально подозрительных. Без меня здесь не могли обойтись. Одних обезвреживают так-то, других – по-другому, третьих – по-третьему. […]…большие планы, большие идеи и большие интересы перекрывают все, и было бы мелочным ставить вопрос о своей собственной персоне наряду с всемирно-историческими задачами, лежащими прежде всего на твоих плечах» (38).
Тем не менее Бухарин надеялся на милосердие: в случае вынесения смертного приговора заменить расстрел смертельной дозой морфия, или, еще лучше, послать его в северные лагеря, чтобы он там строил музеи и университеты, или в Америку, где он будет вести смертельную борьбу против Троцкого.
Накануне расстрела Бухарин написал карандашом Сталину: «Коба, зачем тебе нужна моя смерть?» Эту записку Сталин не отдавал в архив, а спрятал навсегда под газетой в ящик на даче. 15 марта 1938 г. мучения Бухарина кончились. Тех подсудимых, кого не расстреляли вместе с ним, расстреляли в орловской тюрьме в 1941 г.
Через пять дней после ареста Бухарина за него заступился Ромен Роллан, убеждая Сталина, что «ум порядка бухаринского ума является некоторым богатством для его страны, его можно бы и нужно бы сохранить для советской науки и мысли». Роллан взывал к памяти Горького; он предупреждал Сталина о том, что французы, даже якобинцы, сожалели, что казнили великого химика Лавуазье (39). Сталин даже не ответил. Расстреляв Бухарина, вместо ответа, он приказал экранизировать суд: фильм «Приговор суда – приговор народа» показывал Вышинского в роли взбешенного обвинителя.
Были другие обреченные большевики, которые, несмотря на пытки, не хотели – или из-за пыток уже не могли – давать показаний: Авеля Енукидзе и Яна Рудзутака, например, расстреляли после закрытого заседания. В других городах уже давно приговорили всех, кто внушал Сталину подозрение. Берия уже истребил Буду Мдивани, Мамию Орахелашвили и большую часть старых грузинских большевиков.
В этот третий раз оказалось труднее обмануть западных наблюдателей, за ярким исключением американского посла, Джозефа Дэвиса, который доложил своему правительству о «доказательстве, не подлежащем разумному сомнению, что приговоры – правильны». Такой друг Советского Союза, как Ромен Роллан, был потрясен – ему уже ясно видно было, что Сталин разрушает единство левых антифашистов не только этим процессом, но и междоусобными убийствами, свершаемыми НКВД в Испании. Сталин до того разочаровал французских и английских сторонников, что не оставил себе другого выхода, кроме как договориться для безопасности СССР с Гитлером. Официальная газета Муссолини, «Народ Италии», недоумевала: неужели Сталин стал скрытым фашистом? Сам итальянский вождь потирал руки от удовольствия: «никто не истреблял столько коммунистов, как Сталин».
Обезоруживая армию
В ту пору промежду начальства два главных правила в руководстве приняты были.
Первое правило: чем больше начальник вреда делает, тем больше Отечеству пользы принесет. Науки упразднит – польза, город спалит – польза, население напугает – еще того больше пользы. […] А второе правило: как можно больше мерзавцев в распоряжении иметь… […]
Тогда он [начальник] собрал «мерзавцев» и сказал им:
– Пишите, мерзавцы, доносы!
[…] Пишут доносы, вредные проекты сочиняют, ходатайствуют об оздоровлении… И все это, полуграмотное и вонючее, в кабинет к ретивому начальнику ползет. […]
Снова он собрал «мерзавцев» и говорит им:
– Сказывайте, мерзавцы, в чем, по вашему мнению, настоящий вред состоит?
И ответили ему мерзавцы единогласно:
– […] Чтобы нас, мерзавцев, содержали в холе и в неженье, прочих всех в кандалах. Чтобы нами, мерзавцами, сделанный вред за пользу считался, прочими всеми если бы и польза была принесена, то таковая за вред бы считалась. Чтобы об нас, об мерзавцах, никто слова сказать не смел, а мы, еврейцы, о ком задумаем, что хотим, то и лаем!
М. Салтыков-Щедрин. Сказка о ретивом начальнике (подчеркнуто Сталиным в собственном экземпляре около 1951 г.) (40)
Сталин производил отбор не только всех подозрительных субъектов в советском народе; на пленуме февраля – марта 1937 г. он заставил ЦК принять решение начать кампанию еще более сумасшедшую, которая грозила советскому хозяйству полным крахом. Сталинская логика гласила, что в каждом наркомате должны находиться вражеские гнезда. Нарком здравоохранения Григорий Каминский и Серго Орджоникидзе, нарком тяжелой промышленности, усомнились: они были уверены, что у них в наркомате все чисто. Отказы стоили им жизни: Каминского арестовали (и потом расстреляли), а 18 февраля 1937 г. Орджоникидзе, последний, кто еще говорил со Сталиным как с равным, или застрелился, или был застрелен человеком, подосланным Сталиным (41).
Вначале и Ворошилов, нарком по военным и морским делам, колебался, когда услышал тезисы Сталина и Ежова. Ворошилов говорил, что армия берет только самых лучших сыновей народа, но быстро передумал и объявил пленуму содержание признания арестованного секретаря комкора Примакова: «И пишет так, что даже ваши закаленные сердца должны будут… дрогнуть» (42). Нескольких командиров уже арестовали. На пленуме 42 офицера-делегата говорили против собственных командиров в поддержку Ворошилова – такие речи не спасли 34 из них от расстрела. Ворошилову придется председательствовать над убийством почти всех главных героев Красной армии, что не помешает ему сохранить их подарки, подушки, сшитые их женами.
Как упреждающий удар, нельзя отрицать, обезглавливание Красной армии великолепно удалось. Армия, состоящая из младших офицеров, не могла бы организовать государственного переворота, и расправа со старшими офицерами Красной армии не возбуждала среди интеллигенции и народа такой паники, или даже сострадания, как раскулачивание или террор против горожан. Как Зиновьев и Каменев, Тухачевский и остальные обреченные маршалы и комкоры, участвовавшие в Гражданской войне, стояли по пояс в крови. В ударе, нанесенном Сталиным главной основе его власти, скрывался некий параноидальный смысл. Вне НКВД армия оставалась последней силой, которая могла бы хоть теоретически свергнуть Сталина, и ею все еще командовали офицеры из царской армии. Хуже того, самые блестящие военачальники были назначены Троцким и открыто презирали военные достижения (скорее промахи) Сталина и Ворошилова. Два офицера даже опубликовали откровенные истории кампании 1920 г. против поляков, где Сталин доказал свою полную некомпетентность. К тому же уже пятнадцать лет советские офицеры сотрудничали с немецкой армией в вопросах тактики и техники, а возможно, и идеологии. Сталин особенно подозревал маршала Тухачевского, обаятельного человека, которым так любовались за границей, что немецкая и эмигрантская пресса указывала на него как на нового Бонапарта, который покончит с революционной политикой СССР.
Тухачевского впервые арестовали в 1923 г.; в 1930 г., вместе с другими командирами, он вызвал своим независимым мышлением недоверие Менжинского. В результате этих опасений Сталин разослал самых подозрительных офицеров по всем странам
Европы военными атташе, но при ежовщине они своим пребыванием за границей якобы превращались в агентов иностранной разведки. Уже семьдесят лет задается вопрос: существовал ли в самом деле военный заговор против Сталина? Престарелый Молотов не переставал утверждать, что Тухачевский участвовал в заговоре, а перебежчик из НКВД, Александр Орлов, был уверен, что Тухачевский собрал компромат на Сталина, как на агента охранки. Несомненно, что мысль о перевороте не могла не приходить Тухачевскому в голову, но так же несомненно, что он моментально отгонял такие мысли, ибо вездесущий НКВД и всезнающая партия, политические комиссары которых следили за каждым движением командиров и которые сами стерегли Кремль, мешали даже разговорам о перевороте, не говоря уж о подготовке к нему.
Поразительна вопиющая неблагодарность Сталина к блестящим вождям Красной армии, без которых он мог бы в 1919 г. оказаться на белогвардейской виселице. Некоторые историки приписывают действия Сталина немецкой провокации. Советские агенты в 1930-х годах передавали разговоры немецких офицеров о том, что готовится военный заговор против Сталина. «Правда» в начале 1937 г. получала и передавала Сталину, но не печатала информацию, что Альфред Розенберг встречался с антисемитски настроенными советскими офицерами. Есть мнение, что гестапо и абвер вместе состряпали документы, доказывающие, что штаб Тухачевского финансируют немцы, и передавали эти документы в НКВД через Бенеша, чехословацкого министра иностранных дел (43).
11 июня 1937 г. восемь выдающихся командиров – Михаил Тухачевский, Иона Якир, Иероним Уборевич, Август Корк, Роберт Эйдеман, Борис Фельдман, Виталий Примаков и Витовт Пут на – предстали перед судом. В записанном Ежовым списке желаний Сталина каждая фамилия отмечена карандашом «а» (ордер на арест) и галочкой (уже арестован). Девятая жертва – Ян Гамарник был болен, но успел застрелиться до прихода офицеров НКВД. С утонченным садизмом Сталин назначил судьями над восьмеркой их товарищей: Екабса Алксниса, Василия Блюхера, Ивана Белова, Семена Буденного, Павла Дыбенко, Николая Каширина и Бориса Шапошникова. До начала суда из подсудимых выбили показания, дискредитирующие их судей. Только двое из этих судей – уже дряхлый командир Конармии Буденный и бездарный Шапошников – избегут судьбы своих подсудимых, остальных расстреляют к концу 1939 г. (44) Все обвиняемые, кроме Бориса Фельдмана, подвергались страшным пыткам, а Фельдман, подписывая сразу все, что от него требовал следователь (45), получил хорошую камеру, яблоки, даже печенье к чаю.
Тухачевский уже несколько месяцев чувствовал, что ему несдобровать. Его поездку в Лондон на коронацию Георга VI отменили из-за возможности «покушения немецких и польских агентов». 13 мая 1937 г. Сталин принял его в Кремле; встреча, на которой также присутствовали Ежов, Молотов, Ворошилов и Каганович, продолжалась сорок пять мину т и, по всем догадкам, была зловещая. Через девять дней его арестовали; не прошло и недели, как, искалеченный дубинками Зиновия Ушакова и Израиля Леп-левского, Тухачевский сознался лично Ежову, что был в заговоре с Троцким. Потом его заставили сочинить их план, как устроить будущую войну, чтобы Германия поразила СССР. Этот «план», вместе со всеми другими показаниями, положили Сталину на стол на редактирование. (Показания Тухачевского были в пятнах крови.) Ушаков затем хвастался, как работал круглосуточно, недосыпая до самого суда, пока не заставил Фельдмана, Тухачевского и Якира обвинить друг друга. 7 июня все подсудимые признались во всех обвинениях, и Сталин, Каганович и Ворошилов вызвали Ежова с Вышинским, чтобы отрепетировать процесс. Уже 9 июня Сталин принимал и отвергал просьбы о помиловании. На самой горячей мольбе, от Якира, политбюро намарало свои замечания: «Подлец и прости тутка. И. Сталин», «Совершенно точное определение, К. Ворошилов», «Мерзавцу, сволочи и бляди – одна кара – смертная казнь, Л. Каганович». Вечером к Сталину зашли Вышинский, Ежов и Лев Мехлис, редактор «Правды».
Насколько мы можем судить – стенограмма процесса сильно отредактирована, – подсудимые не отходили от зазубренного сценария. Судьям было неловко, даже стыдно участвовать в этом процессе, и они, почти извиняясь, просили обвиняемых входить в подробности своих преступлений, но, кроме Фельдмана, ни один из восьмерки толком не мог объяснить, каким образом изменял родине. (Фельдман говорил охотно и очень помогал прокурору в его хромом изложении «фактов».) Как и другие судьи, Буденный посылал отчеты Сталину о поведении подсудимых, а Белов сказал Ворошилову, что обвиняемые «не всю правду сказали, многое унесли с собой в могилу». Без двадцати пяти минут полночь Ульрих приговорил всех к смерти. Выслушав приговор, только Фельдман еще надеялся: «Где забота о живом человеке, если нас не помилуют?» Почти сразу командиров вывели одного за другим на расстрел. Их убил комендант и главный палач Лубянки, Василий Блохин, и по пути в подвал Ежов и Вышинский просили каждого давать последние признания.
Все следователи НКВД получили медали. Сталин и Ворошилов затеяли широкую рекламу новой армии, «очищенной от гнилой гангрены до здорового мяса», то есть из которой в течение следующих полутора лет выгнали 34 тыс. офицеров (не считая младших офицеров и рядовых) (46). Смертность можно сравнивать с потерями во время крупных военных действий, с той лишь разницей, что в этом случае список убитых высших рангов равнялся списку убитых рядовых в обычной войне. Чем ниже ранг, тем меньше шансов увольнения, ареста и казни. Из 90 уволенных комкоров выжили всего 6; из 180 дивизионных командиров – 36; капитанов уволили 7403, но арестовали всего 1790, и из арестованных кое-кто попал в ГУЛАГ и в 1941 г. вышел, в большей или меньшей степени искалеченный, чтобы воевать с Гитлером.
Даже после падения Ежова, когда прекращали следствие и арестовывали следователей за фальсификацию, Лаврентий Берия не переставал казнить армейских офицеров. Некоторых, например Блюхера, били еще более зверски, чем при Ежове, – Блюхер умер 9 ноября 1938 г. на допросе, потеряв один глаз, с тромбом в легких и с размозженными печенью и почками. (Берия позвонил Сталину, который приказал сжечь тело.)
Циничный военный историк может утверждать, что казнить генералов и щадить лейтенантов – скорее оживляет, чем парализует армию. Можно даже предположить, что последующие поражения – Финская кампания 1939–1940 гг. и отступление в 1941 г. – компенсировались гениальностью молодой команды 1943 г. Но даже недалекий Ворошилов не мог бы поверить, что хирургия, которой они со Сталиным и Ежовым подвергли Красную армию, оздоровит ее и сделает способной защищать СССР от внешних врагов. Не военная логика, а мстительность и паранойя руководили сталинской чисткой.
С точки зрения военной разведки Японии, Германии, Польши и Прибалтики обезглавливание Красной армии казалось Божьей милостью; советский народ, однако, не громко аплодировал казни героев Гражданской. За несколько лет люди привыкли смотреть на Зиновьева, Троцкого и Бухарина как на отщепенцев, но герои Красной армии оставались официальными героями вплоть до ареста. Трудно было вдруг изменить мнение о Тухачевском, написавшем в 1935 г. об угрозе гитлеровской армии, и осудить его как немецкого шпиона. Интеллигенты, которые искали у культурного и обаятельного Тухачевского покровительства, когда стало уже губительно-опасно ютиться у таких старых большевиков, как Бухарин, не слагали гимнов в честь палачей генералов.
Сталин в этом году оказался щедрым на подарки своим соседям: мало того что он избавил СССР от лучших генералов – он сразу обратил внимание на Коминтерн, бросая иностранных и советских коммунистов на растерзание ежовским волкам, в особенности следователю Александру Ивановичу Лангфангу. Лангфанг обрабатывал иностранцев с особым энтузиазмом: он так избил эстонского коммуниста Яана Аанвельта, что тот умер 11 декабря 1937 г. (Лангфанг получил выговор за то, что «препятствовал своими неуклюжими действиями разоблачению опасного государственного преступника»), Те, кто выжил, – Иосип Броз (Тито), Георги Димитров, Клемент Готвальд, Эрколи (Пальмиро Тольятти), Вильгельм Пик, Отто Куусинен – заработали жизнь тем, что донесли на всех своих соперников. Но и они зависели от прихоти Сталина, так как Александр Лангфанг выбил из своих заключенных показания на всех коминтерновцев, включая Мао Цзэдуна, Чжоу Эньлая (и на членов политбюро Андреева, Жданова и Кагановича). Члены Коминтерна старались доказать, что душой и телом принадлежали Сталину: когда арестовали сына Куусинена и Сталин спрашивал, почему он не заступился, Куусинен-старший ответил: «Без сомнения, были серьезные причины арестовать его». (Сына освободили.) Некоторые коммунисты, такие как Гарри Поллит или Жак Дюкло, находились в относительной безопасности, потому что Великобритания и Франция не отмахивались от своих граждан, даже если те были коммунистами.
Сталин не переставал намекать, что Коминтерн заражен троцкизмом и космополитизмом. На пленуме февраля – марта Осип Пятницкий, бывший секретарь Коминтерна, вместе со своим другом Каминским, наркомздравом, с потрясающим мужеством объявили, что Ежов – «жестокий человек без души». Сталин дал Пятницкому две недели, чтобы отречься от своих слов, и при голосовании, осуждающем Пятницкого, воздержались только Крупская и Литвинов (47). В ноябре 1937 г. на банкете в честь разреженных рядов Коминтерна под руководством опозорившегося Димитрова Сталин провозгласил, что они уничтожат любого врага, даже старого большевика, вместе со всем его родом.
Мученичество поэтов
В 1937 г. все организации, от союзов писателей до колхозов, устроили под надзором местных партийцев и энкавэдэшников собственные миниатюрные февральско-мартовские пленумы. Писатели, композиторы и художники, инженеры, врачи и академики приговаривали друг друга к исключению и аресту. В надежде умиротворить богов политбюро впавшие в панику приносили в жертву самых талантливых.
С писателями НКВД и политбюро уже были на ножах. В. Остроумов, помощник Ежова по литературным делам, собирал доклады о разговорах всех авторов, от Исаака Бабеля до Демьяна Бедного. Бабель, как любовник второй жены Ежова, привлек особое внимание (48). Донесли, что Бабель распространял слухи, что Горького якобы убили по приказу свыше. О Троцком Бабель будто бы говорил: «А возьмите Троцкого. Нельзя себе представить обаяние и силу влияния его на людей, которые с ним сталкиваются» – и называл Каменева «самым блестящим знатоком русского языка и литературы» (49). Пастернак, имевший родственников на Западе, восхваленный Бухариным, делавший комплименты Андре Жиду, тоже был в центре внимания.
В сентябре 1938 г. прямо от Остроумова Сталин узнал, что поэт Михаил Светлов жаловался:
«Что творится? Ведь всех берут, буквально всех. Делается что-то страшное. Аресты приняли гиперболические размеры. Наркомы и заместители наркомов переселились на Лубянку. Но что смешно и трагично – это то, что мы ходим среди этих событий, ровно ничего не понимая. Зачем это, к чему? Чего они так испугались? […] мы лишь жалкие остатки той умершей эпохи…
Это не процесс, а организованные убийства, а чего, впрочем, можно от них ожидать? Коммунистической партии уже нет, она переродилась» (50).
Демьян Бедный еще раз опоздал на политическом повороте: в 1936 г. написал либретто на музыку Бородина для сатирической оперетки «Богатыри», издевавшейся над крещением Руси. Бедный не понимал, что Сталин теперь считал крещение Руси назидательной прелюдией к собственной идеологической работе. Оперетту запретили, и Демьяна исключили из партии за «нравственное разложение». НКВД предупреждал Сталина, что настроение Бедного самоубийственно, ибо он говорил друзьям:
«Зажим и террор в СССР таковы, что невозможна ни литература, ни наука, невозможно никакое свободное исследование. […] Оказывается, я шел с партией, 99,9 процентов которой шпионы и провокаторы. Сталин – ужасный человек и часто руководствуется личными счетами. Все великие вожди всегда создавали вокруг себя блестящие плеяды сподвижников. А кого создал Сталин? Всех истребил, никого нет, все уничтожены. Подобное было только при Иване Грозном. […]
Армия целиком разрушена, доверие и командование подорвано, воевать с такой армией невозможно […] крестьяне ничего не боятся, потому что они считают, что все равно: что в тюрьме, что в колхозе» (51).
Сталин милосердно оставил старого друга в покое, и Бедный медленно умирал от диабета. Сталин набросал записку с тем, чтобы ее прочли Демьяну; 20 июля 1937 г. через Мехлиса он узнал:
«Так как у нас (у советских людей) литературного хлама и так не мало, то едва ли стоит умножать залежи такого рода литературы еще одной басней, так сказать… Я, конечно, понимаю, что я обязан извиниться перед Демьяном-Данте за вынужденную откровенность» (52).
Из самых великих поэтов России к 1938 г. Ежов уже наметил трех для уничтожения – Осипа Мандельштама, Николая Клюева и Николая Заболоцкого. Секретарь Союза писателей, Владимир Ставский, сделал первый шаг, написав Ежову:
«В части писательской среды весьма нервно обсуждался вопрос об Осипе Мандельштаме.
Как известно – за похабные клеветнические стихи и антисоветскую агитацию Осип Мандельштам был года три-четыре тому назад выслан в Воронеж. Срок его высылки окончился. Сейчас он вместе с женой живет под Москвой (за пределами «зоны»).
Но на деле – он часто бывает в Москве у своих друзей, главным образом – литераторов. Его поддерживают, собирают для него деньги, делают из него «страдальца» – гениального поэта, никем не признанного. […] Вопрос об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей. И я обращаюсь к Вам, Николай Иванович, с просьбой помочь.
За последнее время О. Мандельштам написал ряд стихотворений. Но особой ценности они не представляют – и по общему мнению товарищей, которых я просил ознакомиться с ними (в частности, тов. Павленко, отзыв которого прилагаю при сем)» (53).
Петр Павленко, давно сочетавший роли критика и стукача, подтвердил, что Мандельштама можно расходовать – «не поэт, а версификатор, холодный, головной составитель рифмованных произведений» (54). В мае Мандельштама заманили в санаторий Саматиха, где его арестовали и приговорили к десяти годам на Колыме – срок, который даже здоровый мужчина вряд ли переживет. Мандельштам умер в лагере под Владивостоком до конца года.
Сталин редко осведомлялся о судьбе тех, кого НКВД упекал в ГУЛАГ, даже тогда, когда арест заказывал он сам. Люди сразу становились для него лагерной пылью, все равно что мертвецами. Сталин только сначала хищнически заинтересовался Мандельштамом, хотя никто лучше Мандельштама не понимал сути этого второго Иосифа. В 1937 г. Мандельштам представил себе Сталина обесчеловеченным пленником Кремля:
- Внутри горы бездействует кумир
- В покоях бережных, безбрежных и счастливых,
- А с шеи каплет ожерелий жир,
- Оберегая сна приливы и отливы. […]
- Кость усыпленная завязана узлом,
- Очеловечены колени, руки, плечи.
- Он улыбается своим тишайшим ртом,
- Он мыслит костию и чувствует челом
- И вспомнить силится свой облик человечий (55).
Террор сметал как московских, так и ленинградских писателей: в Ленинграде НКВД изобрел заговор, связывающий детских писателей, переводчиков и поэтов с Николаем Тихоновым, поэтом Гражданской войны. Как Павленко в Москве, Николай Лесючевский в Ленинграде был консультантом НКВД по литературным делам. Но заговор пришлось перестроить, когда энкавэдэшники узнали, как Сталин и Тихонов понравились друг другу на пушкинских торжествах того года. Тем не менее аресты продолжались, и следователи свели с ума не одного поэта, например Даниила Хармса, только что написавшего для детей то, что теперь было понятнее взрослым:
- Из дома вышел человек
- С дубинкой и мешком
- И в дальний путь,
- И в дальний путь
- Отправился пешком.
- Он шел всё прямо и вперед
- И всё вперед глядел.
- Не спал, не пил,
- Не пил, не спал,
- Не спал, не пил, не ел.
- И вот однажды на заре
- Вошел он в темный лес.
- И с той поры,
- И с той поры,
- И с той поры исчез.
Среди арестованных поэтов был неприкаянный оригинал, Николай Олейников. Следователь, майор Яков Перельмутер, которого самого расстреляют через два года, сказал поэту: «Я знаю, что вы неповинны, но на вас выпал жребий, и вы должны подписать этот липовый протокол, в противном случае вас будут бить до тех пор, пока вы не подпишете или не умрете» (56). 24 ноября 1937 г. Олейникова расстреляли, как японского шпиона.
По сравнению с Олейниковым или Хармсом Заболоцкому повезло: его арестовали 19 марта и пытали, но с помощью своего фантастического воображения он почти сразу сошел с ума. Психиатрические случаи только раздражали мучителей из НКВД, и они быстро упекли Заболоцкого в ГУЛАГ, где талант чертежника и врожденное обаяние спасли его от непосильного труда. Заболоцкий был единственным великим поэтом, прошедшим ГУЛАГ и передавшим стихами то, что он там испытывал:
- Так вот она, страна уныний,
- Гиперборейский интернат,
- В котором видел древний Плиний
- Жерло, простершееся в ад! (57)
Если Ягода ссылал поэта, то этот поэт мог быть уверен, что Ежов его расстреляет. Николай Клюев, после того как на него донес Гронский, редактор «Известий», очутился в сибирской глуши. Многочисленные взывания к Политическому Красному Кресту и к Калинину остались без ответа, несмотря на его отречение от ереси: «Я уважаю и превозношу Великого Вождя мирового пролетариата, товарища Сталина!» Перевезли Клюева ближе к Москве, в Томск, где, несмотря на полупарализованное состояние, НКВД включил его в фиктивный «Союз для спасения России». 24 октября 1937 г., после нескольких мучительных месяцев, Клюева расстреляли вместе с сотнями людей на пустоши около Томска. Когда жертв перезахоронили в 1956 г., в присутствии человека, арестовавшего Клюева, а теперь уже ректора Томского университета, рядом с костями поэта нашли чемодан с рукописями, дотоле считавшимися потерянными стихотворениями и поэмами.
К театральному миру НКВД подходил более осторожно, так как члены политбюро ценили ложи театров как место выходов к народу и свиданий. Большой театр и МХАТ, поставлявшие танцовщиц и певиц для постелей политбюро и стукачей для НКВД, получали только награды и премии (арестовали всего одного директора МХАТа, Боярского). Другие театры тряслись от страха, и Сталин играл на самолюбии режиссеров, натравливая Мейерхольда и Таирова друг на друга. Но из всех ленинградских и московских театров только Театр Мейерхольда был полностью обречен, частично потому, что жена Мейерхольда, Зинаида Райх, позволила себе такой менторский тон в письме к Сталину 29 апреля 1937 г.:
«Я с Вами все время спорю в своей голове, все время доказываю Вашу неправоту порой в искусстве. […]
Вас так бесконечно, бесконечно обманывают, скрывают и врут, что Вы правильно обратились к массам сейчас. Для Вас я сейчас тоже голос массы, и Вы должны выслушать от меня и плохое и хорошее. […]
Задумала я еще на 5-е мая свидание с Вами, если Вы сможете.
[…] Об организации этого свидания сейчас напишу Николаю Ивановичу Ежову» (58).
Два крупных прозаика, Пильняк и Бабель, тоже были обречены на мученичество года через два, хотя из-за террора они уже замолкли. Андрея Платонова не убили, а ввергли в отчаяние, арестовав его больного сына-подростка. Единственным великим прозаиком, который еще творил хоть для письменного стола, был Михаил Булгаков, но он, диктуя последнюю часть романа «Мастер и Маргарита» с манихейским воплощением Сталина-Сатаны, профессором Воландом, который олицетворяет великое космическое зло, охраняющее художника от пошлости врагов, умирал от нефрита.
Только один прозаик, Михаил Шолохов, осмелился в длинном письме к Сталину обличить жуткий произвол ежовщины (59). Или богатырское бесстрашие, или слепое отчаяние заставило Шолохова так рискнуть жизнью, и, может быть, его письма навели Сталина на мысль, что уже пора остановить Большой террор или продолжить его уже без Ежова. Живя как удельный князь, с прислугой, автомобилем и собственными стадами среди тех казаков, из жизни которых он сплетал эпопею «Тихий Дон», Шолохов решил не молчать. Вместе с друзьями он заседал в районном комитете партии и управлял, поскольку можно было, станицей Вешенская. Дописать «Тихий Дон» он не мог, до такой степени его волновали НКВД и областная парторганизация в Ростове-на-Дону, с которыми он вел постоянную борьбу. Его враг был союзник Ежова, Ефим Евдокимов, который обвинил двоюродного брата Шолохова и нескольких знакомых в контрреволюционной деятельности и подверг пыткам. Шолохов добился освобождения одного близкого друга и направил атаку на самого Ежова.
Осенью 1937 г. Сталин вместе с Молотовым и Ежовым два раза приняли Шолохова – они разговаривали по два часа. 16 февраля 1938 г. Шолохов послал Сталину письмо в двадцать страниц. Он обвинил местный НКВД в том, что они хотят уничтожить все большевистское руководство, и настаивал: «Надо покончить с постыдной системой пыток». Он разоблачил фальсификации и роль Евдокимова в местных ужасах. Двоюродного брата Шолохова, директора школы, обвинили в том, что он вырубил 10 тыс. фруктовых деревьев на площади в тридцать соток.
Сталин до такой степени ценил художественную прозу Шолохова, что на это критическое письмо не только не рассердился, но распорядился, чтобы друзей Шолохова освободили. Однако общий страх, охвативший вешенских казаков, уменьшился ненамного.
На письме Шолохова Сталин написал «Проверьте!» и послал на юг Матвея Шкирятова из Контрольной комиссии. Из сотен арестованных в Вешенской Шкирятов освободил всего трех и не счел нужным наказать ни одного энкавэдэшника. Шолохов не унимался, а приехав в Москву, зашел два раза к Сталину, на этот раз опередив Ежова. 31 октября 1938 г. на второй встрече Шолохова сопровождала делегация, составленная из преследовавшихся вешенских партийцев и из ростовского НКВД. Тогда Сталин вызвал и Ежова, которого он допрашивал в присутствии Берия.
В этот раз Шолохов, кажется, пошел на совершенно сумасшедший риск: он заехал к Ежову и потом, как и Бабель, переспал с женой Ежова. (Их занятия любовью в гостинице «Националь» подслушивали бдительные энкавэдэшники и передали запись Ежову) (60). Но к этому времени у Ежова оставалась чисто символическая власть: без подписи Берия он уже не имел права на контрудар. Тем не менее Шолохова, единственного не расстрелянного из любовников Николая и Евгении Ежовых, спасло то, что Сталин лично был заинтересован в его спасении.
Голос Шолохова звучал одиноко. Другие интеллигенты старались не замечать террор, приветствуя мираж счастья, на советском небосклоне. Пользуясь черновиками Бухарина, Сталин уже в 1936 г. провозгласил новую конституцию, обещающую тайну голосования, свободу слова, неприкосновенность личности и переписки. Чтобы стушевать демографическую катастрофу последних лет, все данные переписи населения 1937 г. отдали в макулатуру. О 1930-х годах писали, и еще пишут, воспоминания как о золотом веке. Новая советская элита со своими распределителями, санаториями, особняками и прислугой могла делать вид, если достаточно часто выпивала, что чувствует себя обеспеченной. Точно так же как престарелые немцы до сих пор утверждают, что не знали об участи своих бывших соседей-евреев, и вспоминают только отсутствие безработицы, национальную гордость и общественный порядок, так и престарелый русский человек, иногда балованное дитя сталинского бюрократа, отрицает, что ему тогда было страшно за себя и жалко других. Сегодняшние неосталинисты скажут, что из-за террора страдало всего полтора процента населения и что этой ценой дешево откупились от поражения в наступающей войне.
На самом деле какая советская семья не была затронута и травмирована сталинской тиранией? Цена победы во Второй мировой войне была тем выше, что мораль страны, структура населения и Вооруженных сил были исковерканы террором. В тех дневниках 1930-х гг., которые восторженно говорят о счастье, звучит истеричная фальшь, выдающая скрытые страх и чувство вины.
Цвет советской интеллигенции и их отношение к НКВД сильно напоминают элоев Герберта Уэллса в романе «Машина времени», которые днем резвятся на лугах, а ночью спят, тесно обнявшись от страха, потому что из подземных тоннелей выползают морлоки с обезьяньими чертами лица и бледной, как тесто, кожей, подобные паукам с получеловеческим обликом, которые хватают и пожирают элоев. Тот же Владимир Ставский, который заманил Мандельштама в ловушку НКВД, писал в своем дневнике с умилением о том, как спасал свою кошку, смотрел на зайцев и мышей на снегу, на звездное небо и любовался новыми московскими небоскребами и стройной фигурой Лазаря Кагановича. Но Ставский был глубоко озабочен собственной неспособностью написать хотя бы одну художественно годную строку. И летом 1938 г. на раньше битком набитых семьями хороших коммунистов сочинских пляжах теперь мало кто отдыхал. В тюрьмах, в лагерях и на кладбищах свободных мест уже не было, а научные и правительственные институты переставали функционировать из-за недостатка квалифицированных кадров.
Сталин сам играл большую роль в управлении террором, но тем не менее террор убирал именно тех людей, от которых сталинское государство зависело. Сколько астрофизиков было потеряно, когда произвели аресты в Пулковской обсерватории; Лаборатория низкотемпературной физики в Москве чуть не взорвалась вместе с центром Москвы, когда НКВД забрал ключевых экспертов. Хочется понять, что пришло Сталину на ум, когда он узнал из отчаянного письма одного родственника, что в апреле 1938 г. среди многих тысяч женщин, задержанных НКВД прямо на улице и исчезнувших в лагерях, оказалась его собственная незаконнорожденная дочь, Паша Михайловская (61).
Осенью 1938 г. так же внезапно, как начался полтора года назад, террор остановился. Уже десять месяцев Ежов получал от Сталина не бывшую отцовскую ласку, а противоречивые знаки милости и немилости. В июле 1937 г. Ежова наградили орденом Ленина – он побрил голову именно тогда – ив октябре сделали членом политбюро. Ежов, однако, знал, что Сталин чаще всего выделял новых выдвиженцев перед их уничтожением. 20 декабря 1937 г. Ежов был самым почетным гостем на праздновании двадцатилетия ЧК. Сталин не приехал, а воспевать железных комиссаров прислал Анастаса Микояна. Несмотря на то что Ежова поставили на пьедестал не ниже, чем Дзержинского, что дагестанские и казахские поэты слагали о нем эпосы и что название не одного города меняли на Ежовск, Сталин им пренебрег.
Ежов запил, и из-за запоев в декабре 1937 г. политбюро назначило ему два месяца отпуска. В феврале 1938 г. Ежов еще не протрезвел: он повез своего протеже Успенского в Киев, где тот стал главой украинского НКВД. В Киеве, с помощью более трезвого Никиты Хрущева, Ежов и Успенский, сами без задних ног от водки, произвели свирепую чистку киевского НКВД. Ежов начал арестовывать собственных подручных – кто погиб из-за бывших отношений с Ягодой, кто – как Яков Дейч в Ростове-на-Дону или Петр Булах во Владикавказе – под раньше немыслимым предлогом «излишеств». Такие «излишества» вообще-то разрешали: еще в сентябре 1938 г. Сталин инструктировал местные НКВД расстреливать, не дожидаясь подтверждения центра, то есть Ежова. Последняя неистовая волна убийств, унесшая 105 тыс. людей, расстрелянных по приговорам провинциальных троек, длилась всего два месяца. Вместе с этой волной кончилась и карьера Ежова.
Избавление от ежова
Сын Джорджи сделал свое дело так основательно, что его сочли чересчур исполнительным, чтобы оставить в живых, и в полдень того же дня жизнь его трагически окончилась. Еще один пример грустной участи, которая частенько выпадает на долю собак и прочих философов, пытающихся доходить в своих рассуждениях до логического конца и поступать с неуклонной последовательностью в мире, где все держится главным образом на компромиссах.
Томас Гарди. Вдали от обезумевшей толпы[17]
В апреле 1938 г. Ежов понял, что все кончено, когда его назначили комиссаром водного транспорта, таким же образом, как Ягоду перевели в Наркомат связи. Предыдущего наркома водного транспорта расстреляли всего через месяц после назначения. Ежов довольно вяло углубился в водный транспорт: руководствуясь своим опытом, он арестовал кое-кого из служащих и заменил их своими энкавэдэшниками.
Кроме перегибов в терроре у Ежова были, с точки зрения Сталина, более серьезные промахи. Троцкого он не смог убить. Свое неудовлетворение Сталин выражал намеками, что у слишком общительной и любвеобильной жены Ежова было много связей с троцкистами. Уничтожив почти всех своих лучших агентов и целиком иностранный отдел НКВД, Ежов тем не менее сумел ввести своих людей в круг близких к Троцкому людей и даже украсть часть архива Троцкого. Почти последним компетентным агентом был Сергей Шпигельглас, специалист по ликвидации перебежчиков и эмигрантов: последней акцией Шпигельгласа было умерщвление сына Троцкого, Льва Седова, на больничной койке в Париже, где он поправлялся после операции по удалению аппендикса (62). Но это последнее убийство только встревожило Троцкого и сделало его более осторожным; к тому же Шпигельглас оставил столько кровавых следов, что нанес сильный ущерб франко-советским и швейцарско-советским отношениям.
Сталина могла бы также разгневать неуклюжесть, с которой Ежов вызывал в Москву тех энкавэдэшников, которых он собирался арестовать. Слишком много их перебежало к империалистам. 12 июня 1938 г. Георгий Люшков нашел убежище у японцев, а 14 июля Александр Орлов остался в Америке. Люшков издавал по-японски откровенные рассказы о преступлениях Сталина. Орлов оказался умнее всех: он предложил Ежову и Сталину договор – в обмен на жизнь своих родственников он обещал не раскрывать американцам фамилий всех агентов, которых НКВД завербовал на Западе.
Летом 1938 г. Ворошилов, чуткий к переменам в настроении Сталина, что-то уловил, и начал говорить об НКВД как об учреждении, которое заставляет всех признаваться во всем, виновны они или неповинны. Ответом Ежова на сгущение атмосферы было расстреливать всех подчиненных, способных давать показания против него, включая самых надежных подручных, например Ваковского в Ленинграде и Льва Миронова в Сибири. В то же время Сталин подкапывался под Ежова, арестовывая других видных энкавэдэшников: Фриновского Сталин тоже потопил, сделав его наркомом флота. Как Ягода два года назад, Ежов как будто замер и никаких разумных шагов не предпринимал. Конечно, у него было еще меньше возможностей, чем у Ягоды. Больше не с кем было размышлять о перевороте, больше не было старых большевиков, с которыми можно было объединиться. Его собственный наркомат боялся и ненавидел его, ибо Ежов убивал не только слуг прежнего хозяина, но и тех, кого сам выдвинул. Он очутился в полном одиночестве, кроме группы старых собутыльников, с которыми он мог тешиться мужеложством и запоями. Единственный человек, которого он, кажется, еще любил, – его семилетняя приемная дочь Наталья – вряд ли могла давать советы или утешение.
22 августа Сталин назначил комиссаром госбезопасности Лаврентия Берия, который, как наместник всего Кавказа, был фактически также главой кавказского НКВД. После самоубийств Ломинадзе и Орджоникидзе Сталину больше не с кем было в Москве перемолвиться по-грузински. Берия он разглядел давно и готовил на место Ежова, точно так же, как он готовил Ежова на место Ягоды.
К концу сентября 1938 г. Берия закончил страшную чистку Кавказа и передал то, что осталось от грузинской партии и интеллигенции, в более мягкие руки Кандида Чарквиани, а грузинский НКВД – в жесткие руки Авксентия Рапавы, сына мингрельского сапожника, который раздавил Абхазию после убийства Лакобы. Как только Берия приехал в Москву, он сразу зашел к Ежову. За шесть лет до этого они будто бы подружились в особняке Лакобы, а теперь Берия был готов сначала перехитрить, а потом уничтожить Ежова. Берия привез с собой из Тбилиси полдюжины своих извергов, еще более жестоких, чем люди Ежова. Теперь Ежов без подписи Берия никаких приказов не выдавал. Он укрылся с женой, дочерью и няней у себя на даче и спивался: бороться за власть и жизнь было ему уже не под силу. К началу октября ни одного из доверенных подопечных Ежова не осталось на свободе. 7 ноября на трибуне на Красной площади место Ежова занял Берия. (В этом же месяце побег и инсценированное самоубийство Александра Успенского оказались последним гвоздем, вколоченным в гроб Ежова.)
Сворачивая террор, политбюро и ЦК провозглашали восстановление уравновешенного правления: законопослушные судьи под справедливым надзором Андрея Вышинского будто бы достигли равенства власти с ранее незаконопослушным НКВД. Встречи в Кремле между испуганным Ежовым и лицемерным Вышинским были еще более неловки, чем встречи Ежова с Шолоховым. В результате таких «обсуждений» было составлено постановление Совета народных комиссаров и ЦК 17 ноября 1938 г.: «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия». НКВД перестал быть сочетанием прокурора, судьи и палача. Это ханжеское постановление, конечно, полностью никогда не вступило в силу, но в принципе делом НКВД было арестовывать, пытать и казнить, а органы Вышинского вмешивались в этот процесс, занимаясь обвинением и судопроизводством. Местные тройки были лишены права расстреливать своих заключенных. Политбюро отмахнулось от «необоснованных арестов» как от дел «иностранных шпионов и врагов народа».
Ежов и жена были в отчаянии. В мае 1938 г. Евгения заболела психически и редко куда-нибудь выезжала. Ежов ругал ее за романы с Шолоховым и Бабелем, и, не считаясь с собственными сексуальными связями с ее подругами и их дочерьми, со своими подчиненными и их женами, объявил, что разводится. 19 сентября она написала Сталину, умоляя его примирить мужа с ней. Ежов разводиться передумал, но обоих бывших мужей Евгении арестовал: (второго, Александра Гладуна, расстреляли, а первый, Лазарь Хаютин, выжил); ее самую близкую подругу, Зинаиду Гликину, Ежов тоже арестовал (ее расстреляют в том же месяце, как Ежова).
29 октября Ежов положил Евгению в санаторий. Дома она оставила записку: «Колюшенька! Очень прошу тебя, настаиваю проверить всю мою жизнь. Я не могу примириться с мыслью о том, что меня подозревают в двурушничестве, в каких-то не содеянных преступлениях» (63). Она снова написала Сталину: «Товарищ Сталин, дорогой, любимый, да, да, пусть я опорочена, оклеветана, но Вы для меня и дорогой и любимый, как для всех людей, которым Вы верите. Пусть у меня отнимут свободу, жизнь, я все это приму, но вот права любить Вас я не отдам… У меня ощущение живого трупа» (64). Через три недели Евгения покончила с собой, приняв большую дозу люминала, который ей передал Ежов. Самый старый друг Ежова, его давнишний любовник Владимир Константинов, потом давал показания, утверждающие, что Ежов объяснил ее смерть словами: «Я должен был пожертвовать ею, чтобы спасти себя».
На похороны жены Ежов не пошел. Затем он принес в Кремль письмо, в котором просил отставку. Четыре часа Ежов должен был сидеть и слушать упреки Сталина, Молотова и Ворошилова. Когда они его ругали за перегибы, он слепо бичевал себя за то, что слишком мало делал, за отсутствие «большевистской бдительности», за то, что упускал из виду столько шпионов, перебежчиков и самоубийц, что не поддерживал нужного контакта с партией. После ноября 1938 г. Сталин больше не принимал Ежова, хотя еще несколько раз пожимал ему руку перед публикой. К декабрю у Ежова еще остались три места работы: он был секретарем ЦК, председателем Контрольной комиссии и наркомом водного транспорта (в наркомате он появлялся очень редко и то всего часа на два). Он спивался с Владимиром Константиновым.
На Новый год Ежов должен был передать всю Лубянку новому хозяину, но был слишком пьян, чтобы выйти из дома. Он оставил на Лубянке все досье, которые составлял на членов политбюро. Берия собрал эти папки вместе с другими вещественными доказательствами, губительными для Ежова. За книгами в кабинете Ежова нашли шесть бутылок, три с водкой, три из-под водки, и четыре пули, обернутые в бумажку, с надписями «Каменев», «Зиновьев», «Смирнов» (в Смирнова палач выстрелил дважды). У Ежова оказалось больше револьверов, чем у Ягоды, и гораздо меньше книг – всего 115.
За некомпетентность в делах водного транспорта Ежов получил от Молотова формальный выговор. 21 января 1939 г. «Правда» в последний раз напечатала его фотографию, и через восемь дней он в последний раз заседал на политбюро. В марте его не переизбрали даже делегатом на XVIII съезде партии (на этом съезде Ежов оказался одним из 32 членов, еще живых, из 139 членов XVII съезда) и лишили слова. 13 марта он написал записку на имя Сталина: «Очень прошу Вас, поговорите со мной одну минуту. Дайте мне эту возможность» (65). Ответа не было. Когда 10 апреля его арестовали, газеты промолчали. Внимательный читатель понял, что случилось, узнав о назначении новых наркомов морского и речного транспорта. Вместе со своим наркоматом Ежов исчез. Граждане города Ежово-Черкесска проснулись 11 апреля в городе Черкесске.
Ежова увезли в тайную тюрьму Сухановка, которую Булганин и Берия только что перестроили из монастыря, превратив церковь в камеру для расстрелов и алтарь в крематорий. Следователи – подручный Берия Богдан Кобулов вместе с суровым и озлобленным Борисом Родосом (66) – били его беспощадно. Родос уже искалечил других подследственных, и его предостерегали от умерщвления этого хилого чахоточного алкоголика. Ежов, который после побоев от младшего брата Ивана всю жизнь боялся физического насилия над собой, был в истерике. Его обвинили в шпионаже, в заговоре против правительства, в убийстве и – что, может быть, в глазах Сталина было хуже всего – в мужеложстве (67). Ежову дали карандаш, и он написал Берия:
«Лаврентий! Несмотря на всю суровость выводов, которых я заслужил и воспринимаю по партийному долгу, заверяю тебя по совести в том, что преданным партии, т. Сталину остаюсь до конца. Твой Ежов» (68).
Мучительные допросы продолжались все лето: вначале Ежов не препирался, когда ему представляли обвинения в измене и шпионаже. Когда 26 апреля ему предъявили обвинение в шпионаже в пользу Германии, он довольно правдоподобно объяснил, что в 1934 г. по приезде на лечение в венскую клинику доктора Ноордена его застали в объятиях медсестры и шантажом завербовали в германскую разведку. Дальнейшие же показания о планах Ежова захватить власть, убрав Сталина и Молотова, не представляют собой ничего, кроме бреда. С июля его начали допрашивать об интимной жизни и дегенерации. В отличие от грехов Ягоды все это было спрятано от чужих глаз, хотя Берия старался разочаровать Сталина в своей «ежевичке». Ежова заставили написать автобиографию, после чего все его политические грехи показались банальными.
Осенью Ежова передали в руки более тихого следователя, Анатолия Есаулова, который не выпивал до допроса и не бил во время. В результате Ежов начал отказываться от кое-каких обвинений. В январе он был на грани смерти от воспаления легких и заболевания почек: врачи в Лефортове восстановили его и передали военному прокурору Афанасьеву, который будет надзирать над судом и казнью. 1 февраля 1940 г. Ежову вынесли обвинения в пяти расстрельных преступлениях. Он грозился, что откажется от всех показаний, если ему не разрешат поговорить с членом политбюро. У Берия в Сухановке был кабинет, куда привели Ежова. Берия попотчевал Ежова водкой – первой рюмкой за девять месяцев – и обещал, что родственников Ежова не тронут (хотя брата Ивана и двух из трех племянников уже расстреляли). Другие обещания Берия, а именно что полное признание спасет Ежова от смертной казни, были для опытного главы НКВД просто формальной чепухой: он сам часто давал такие гарантии и ни разу слова не держал. К тому же он знал кавказский навык у Берия – искоренить вместе с врагом все его племя.
На следующий день Ежова судил Ульрих (всего год назад принесший Ежову на день рождения букет цветов и бутылку коньяка). Обвинения были чисто политические – о содомии и убийстве жены речи уже не было. По самым достоверным отчетам, Ежов в последний момент с отчаянной храбростью отказался от всех показаний, выбитых из него немилосердным Родосом. Он признался только в небдительности, в том, что, избавляя НКВД от 14 тыс. человек, пропускал многих диверсантов и шпионов. Он доказывал, что не мог бы быть террористом, а то без труда убивал бы членов правительства. А его частная жизнь и пьянство не мешали ему работать как вол. Но Ежов, как Мария Стюарт, несправедливо погибшая за чужие преступления, признался, что за ним были другие грехи, которые заслуживают смерти. Ульрих с исключительным терпением разрешил ему говорить в свое оправдание целых двадцать минут. Последние слова Ежова наводят на мысль, что он все принимал, но ничего не понимал из того, что с ним делали:
«1. Судьба моя очевидна. Жизнь мне, конечно, не сохранят, так как я и сам способствовал этому на предварительном следствии.
Прошу одно – расстреляйте меня спокойно, без мучений.
2. Ни суд, ни ЦК мне не поверят о том [sic], что я не виновен.
Я прошу, если жива моя мать, обеспечить ее старость и воспитать мою дочь.
3. Прошу не репрессировать моих родственников – племянников, так как они совершенно ни в чем не повинны. […]
5. Я прошу передать Сталину, что все то, что случилось со мною, является просто стечением обстоятельств, и не исключена возможность, что и враги приложили свои руки, которых я проглядел.
Передайте Сталину, что умирать я буду с его именем на устах» (69).
Судьи сделали вид, что совещаются целых полчаса, потом вынесли приговор по всем пунктам. Говорят, что Ежов упал в обморок и потом быстро написал просьбу о помиловании. Ее прочитали по телефону кому-то в Кремле и получили отказ. Почему-то из тринадцати приговоренных троих, включая Ежова, расстреляли не сразу, а через двое суток. Ежова повезли ночью на Лубянку, в подвал, им же устроенный, с цементным полом и бревенчатой стеной, где его ждал Василий Блохин. В то же время Берия дал Сталину расстрельный список из 346 человек, связанных с Ежовым, – среди них шестьдесят энкавэдэшников и пятьдесят родственников или любовниц и любовников.
Из родственников Ежова выжили старуха мать Анна Антоновна, сестра Евдокия и – после пяти лет ГУЛАГа – один племянник. Приемная дочь Наталья, как и сын Ягоды, попала в детский дом, где ей дали другую фамилию. В конце 1950-х гг. она переселилась (как свободная гражданка и учительница музыки) на Колыму. Там она узнала, за что отца репрессировали, и после объявления гласности смело требовала его реабилитации, обосновывая свою просьбу тем, что Ежов был не больше виновен в убийствах, чем другие члены политбюро, которые исполняли сталинские приказы.
8. Восхождение Лаврентия Берия
Почему Берия?
Если Сталин в середине 1938 г. размышлял о стране, где большинство было парализовано террором, а меньшинство – мнительностью и фанатизмом, где проявляли инициативу только в писании доносов, где были вынуждены обходиться без лучших специалистов – офицеров, физиков, переводчиков, инженеров, агрономов, – возможно, он терялся в раздумьях. Был разрушен и личный мир Сталина: жена предпочла жизни с ним смерть; оба сына чувствовали к отцу только страх и отвращение; своих ближайших грузинских друзей, Авеля Енукидзе и Серго Орджоникидзе, он умертвил. Остались услужливые роботы Каганович, Молотов, Ворошилов, Андреев и Жданов, с которыми можно было развлекаться только пением, но не беседами: даже из записок Сталина к Молотову совсем исчезает бывшая нотка товарищеской привязанности.
Выдвинув Ежова, Сталин сместил центр власти и сделал НКВД не просто главной исполнительной силой партии, но и внутренней мощью, способной свергнуть любого хозяина. Поэтому было логично поручить Лаврентию Берия сначала надзирать за Ежовым, а потом сменить его. В личном плане Берия годился идеально, так как Сталин за пятнадцать лет изучил все его недостатки – лживость и похотливость, как и достоинства – умную, гибкую и бессердечную целеустремленность. В отличие от Ежова Берия знал, когда нужно отступать, сдерживаться. Он был не только злопамятным садистом, но и догадливым прагматиком, способным быстро овладеть целой сферой знаний и распутать сложный узел спорных вопросов. В истории СССР Берия оказался вторым после Сталина мастером расстановки кадров. Как станет ясно в конце его карьеры, Берия мог бы приспособиться к другому политическому режиму и стать ведущим политиком в любой стране мира.
На Кавказе Берия проявил себя, как Сталин в миниатюре, убивая и терроризируя, и как гибрид Ежова и Сталина, управляя хозяйством более ловко, чем Каганович, а интеллигенцией – более мастерски, чем Андрей Жданов. Энергия и бессовестность Ежова слились у Берия с тонким умом и изощренностью Менжинского; вдобавок он любил, как ни один другой шеф ЧК – ОГПУ – НКВД, лично принимать участие в побоях и заплечных делах. Он с равным рвением поддерживал атмосферу общего террора и в то же время чинил испорченные террором механизмы в хозяйстве и Вооруженных силах СССР. Единственной помехой выдвижению Берия являлось почти неодолимое отвращение, которое он внушал многим знавшим его на Кавказе большевикам, и только после истребления большей части этих ненавистников Сталин сумел перевести Берия с Кавказа в Москву. После смерти Кирова, Енукидзе и Орджоникидзе в окружении Сталина никто уже не смел брезговать таким кровавым, лживым, честолюбивым и беспринципным коллегой-развратником. Пройдет пятнадцать лет, прежде чем он напугает Кагановича, Молотова и Ворошилова до такой степени, что покажется им страшнее и опаснее, чем Ежов.
Берия на Кавказе
Лаврентий Берия родился 29 марта 1899 г. в поселке Мерхеули, недалеко от Сухуми. Отец и мать, Павле и Марта, мингрельские крестьяне, жили в хижине без четвертой стены и с дырой в крыше над очагом. Как и Сталин, Лаврентий был у них третьим и единственным здоровым ребенком (1). Как и мать Сталина, мать Берия была набожной и волевой женщиной и стремилась сама решить судьбу своего сына; она была по происхождению из дворянской семьи Джакели, феодальных правителей Самцхе (Южной Грузии). На сбережения матери Берия удалось получить образование в городском училище в Сухуми. Он начал учиться на инженера-гидравлика. Когда летом 1917 г. его призвали в армию, Берия работал инженером, потом, в период существования Закавказской республики, переехал в Баку, где опять начал учиться на нефтяника.
О революционной деятельности Берия в Баку до сих пор спорят. В 1919 г. он работал разведчиком для Мусавата, партии азербайджанских националистов, которые сотрудничали с британскими оккупантами и преследовали большевиков. Всю жизнь Берия уверял, по всей видимости не греша против истины, что он участвовал в Мусавате в качестве агента большевиков. Подозрения возникали постоянно, и Берия не раз тщательно проверяли в 1920, 1930 и 1950-е гг. (2). В 1920 г. Михаил Кедров предлагал расстрелять его; в 1926 г. Дзержинский начал следствие; в 1931 г. группа грузинских коммунистов, а в 1936 г. вдова Лакобы посылали в Москву Орджоникидзе компромат на Берия. Каждый раз Берия наносил своим обвинителям жесткий контрудар (3).
К середине 1920 г. Берия вернулся в Грузию, где независимое правительство арестовало его за шпионаж и посадило в Кутаисскую тюрьму. Сергей Киров, тогда посол Советской России в Грузии, тайно подготавливал тбилисскую пятую колонну ко вступлению Красной армии и требовал, чтобы грузины освободили Берия. Берия вернулся в Баку, где новая азербайджанская ЧК его арестовала: только благодаря ее шефу Мир Джафару Багирову Берия быстро освободили. Судьба его, кажется, висела на волоске: из Архангельска приехал сумасшедший палач Михаил Кедров, чтобы навести порядок в развращенном национализмом и коррупцией Баку, и первым делом набросился на Берия и Багирова за панибратство с духовными лицами всех вероисповеданий и за дискриминацию армян и русских в угоду азербайджанцам и грузинам. В этот раз Берия и Багиров были спасены поручившимся за них Микояном.
К октябрю 1922 г., всего полтора года спустя после установления советской власти, Берия уже возглавлял секретно-политический отдел в грузинском ГПУ. Он женился на шестнадцатилетней девушке, Нине Гегечкори, незадолго перед тем арестованной ЧК за участие в антисоветской демонстрации.
В Тбилиси, как в Москве, ЧК была составлена большей частью из представителей некоренного населения – латышей и русских. В этом многоязычном городе очень ценили Берия, который говорил по-русски, по-грузински, по-мингрельски и по-азербайджански (4). В характеристиках Берия, данных начальством, иногда отмечалась его трусость, но отзывы о его усердии были похвальными: Уншлихт, заместитель Дзержинского, так высоко оценил заслуги Берия, что в 1923 г. наградил его браунингом с дарственной надписью. В следующем году Берия оправдал доверие Уншлихта, руководя кровавым подавлением грузинского народного восстания, хотя, по-видимому, он рыцарски предупреждал мятежников о том, что ГПУ все заранее известно.
Это предостережение показывает, что в Берия еще не заглохла человечность: в конце года он даже попытался подать в отставку, попросив правительство отправить его в Бельгию, чтобы заниматься инженерным делом и потом работать в бакинской нефтепромышленности. Но ГПУ в Закавказье уже не могло справиться без Берия. Оставаясь в этой организации, Берия, очевидно, решил сделать блестящую карьеру и сразу взялся за дело, очерняя или высылая на работу в глушь своих соперников. Грузинские чекисты, недолюбливавшие Берия, по доброй воле разъезжались по всему СССР в поисках работы в более приятной компании.
Гибель коллег ускорила восхождение Берия, и вскоре он приобрел репутацию опытного убийцы и фальсификатора. В 1925 г. в результате аварии самолета «Юнкере» под Тбилиси погибли начальники Берия – Соломон Могилевский, председатель Закавказского ГПУ, и любимец Сталина Георгий Атарбеков, кровожадный армавирский чекист. Три экспертные комиссии не смогли определить причину аварии. Берия сам сочинил некролог Могилевскому:
«Я видел потрясающее место гибели наших товарищей. Я видел обезображенные останки того, под чьим руководством на протяжении двух лет я вел работу в ЧК… Не верится, не хочется верить… И я больше не услышу мягкого голоса Соломона Могилевского. […] Помню его особо внимательное отношение ко мне и к работе АзЧК: “На вас мы здесь опираемся”, – говорил он в дружеских беседах со мной» (5).
Берия был опасен своим соперникам и начальникам, но верен своим подчиненным. Потом он изобретал более осторожные методы, чтобы устранить тех, кто ему мешал. В 1926 г. свояк Сталина, Станислав Реденс, стал главой Закавказского ГПУ. Реденс в Одессе и в Крыму во время Гражданской войны вел себя бессердечно, но и безалаберно. В Тбилиси, не зная грузинского, он оказался не начальником, а марионеткой Берия. Первой ошибкой Реденса было то, что вопреки советам Берия он запретил аджарским мусульманкам носить чадру и закрыл батумские медресе. Аджарцы ответили вооруженным бунтом, который Берия усмирил без кровопролития, отменив все запреты Реденса. Политический рейтинг Берия поднялся, а Реденс потерял весь авторитет. В конце концов Берия споил Реденса, которого нашли на улице пьяным и голым; Сталин перевел его на Украину.
К 1931 г. Берия комплектовал ГПУ своими людьми, грузинами и мингрелами. Вначале тбилисская публика, привыкшая к коррумпированным и ленивым вождям, относилась к Берия положительно: он работал аккуратно, не причиняя никому лишних хлопот, и казался непритязательным – пил только вино и одевался скромно; к тому же на фоне троцкистов и воинствующих коммунистов Берия казался либералом. При помощи минимума средств, но максимально используя хитрость, Берия особенно ловко справлялся с политическими кризисами, например с восстанием в Аджарии против коллективизации. Эти таланты Сталин заметил и оценил.
Берия подражал в Тбилиси любому московскому новшеству. Когда Менжинский разгромил Русскую православную церковь, Берия такими же методами атаковал Грузинскую, заточив в тюрьму на девять лет католикоса Амбросия. В 1927 г. Берия «избрал» патриархом Грузинской церкви послушного Христофора и затем запретил своим коллегам преследовать тех священников, которые еще служили. Когда Менжинский и Сталин начали искать вредителей среди инженеров и экономистов, Берия подверг унижениям и арестам закавказских специалистов: бакинских нефтяников он судил за то, что они якобы работали на британское консульство и дореволюционных хозяев – Нобелей. Как в России, так и в Грузии была создана, а потом разгромлена «левая» и «правая» оппозиция. Для Сталина Кавказ являлся микрокосмом СССР, и Берия стал идеальным наместником, подавляющим все центробежные тенденции местных народов. Кое в чем наместничество Берия оказалось мягче, чем можно было ожидать. Коллективизация была введена в Грузии больше на бумаге, чем в действительности, но единственный упрек, который Берия заслужил от Сталина по этому вопросу, был за то, что он недостаточно занимался борьбой с вредными насекомыми в виноградниках. В 1932 г. Берия, в отличие от Косиора, удалось уговорить Кагановича снизить наполовину нормы реквизиции зерна в Грузии, он также выпросил у Кагановича для Тбилиси грузовики и автобусы, намеченные для Москвы.
Сталину Берия подобострастно льстил. Через Нестора Лакобу, у которого Сталин проводил летние сезоны в конце 1920-х и в начале 1930-х годов, Берия сблизился с вождем. Берия подавлял презрение к абхазам и старался любезностью преодолеть отвращение, которое тбилисские гэпэушники внушали абхазам в Сухуме. Типичным фактотумом Берия был Надарая, который потом стал виртуозным палачом в метехской тюрьме в Тбилиси и с улицы забирал девушек для Берия. Первые записки Берия к Лакобе в 1928 г. уже отдают нарочитой доверительностью; часто Берия просит, чтобы Лакоба простил какому-нибудь грузинскому чекисту преступление или грубость; или чтобы Лакоба замолвил слово Сталину за Берия. В 1929 г. Берия отблагодарил Лакобу своим обычным подарком, трофейным револьвером с патронами, и очень любезно подыскал для маленького Рауфа Лакобы хорошее издание Жюля Верна.
В начале 1930-х грузинские вожди, чета Мамия и Мариам Орахелашвили, сильно раздражали Сталина своим потворством бывшим меньшевикам и троцкистам и небрежным отношением к героическим подвигам молодого Сталина на Кавказе (6). Берия же выделялся – как единственный сталинист в Грузии.
Сталинскую оценку подтвердил Менжинский своим поздравлением по случаю десятилетия служебной деятельности Берия в 1931 г.:
«10 лет существования органов ГПУ Грузии записали славную страницу в историю ВЧК – ОГПУ, страницу, полную самоотверженной, героической борьбы с врагами пролетариата…
Вся эта огромная напряженная работа в основном проделана своими национальными кадрами, выращенными, воспитанными и закаленными в огне боевой работы под бессменным руководством товарища Берии, сумевшего с исключительным чутьем всегда отчетливо ориентироваться и в сложнейшей обстановке, политически правильно разрешая поставленные задачи» (7).
Берия окончательно восторжествовал в октябре 1932 г., когда Сталин сделал его главой не только грузинской, но и всей закавказской партии, то есть фактически кавказским наместником. Решающую для назначения характеристику дал Нестор Лакоба, таким образом назначив собственного палача. В июне и июле 1932 г. Серго Орджоникидзе, Лакоба и Сталин обсуждали смену руководства в Грузии. На смену Орахелашвили предлагались два кандидата, Лаврентий Берия и В. И. Полонский, который враждебно относился к «пересаливанию» Берия. В архиве Лакобы сохранилась копия, написанная карандашом, с записью разговора, которую он немедленно переслал Берия:
«Дорогой Лаврентий! Пишу кратко о том, на что, по-моему, необходимо тебе обратить свое внимание. […]
Коба: Создав Бюро ЦК, не следовало его увеличить. Берия хочет получить голоса, что ли? […]
Коба. Когда приедет Берия? (Вопрос этот был мне задан и в начале разговора.)
Я. Он хотел закончить неотложные дела до 27–28 июня, а потом приехать. Может быть, ему раньше следовало бы приехать?
Коба. Это дипломатия?!
Я. Если нужно, Берия приедет теперь же.
Коба (шутя): У нас свобода передвижения, приехать в тот или иной срок не воспрещается. […]
12 июля я застал Кобу, Серго и Ворошилова. Произошел следующий разговор (диалог):
Серго: Что, вышибаете Мамию?
Я: Нет, мы его не вышибаем.
Серго: А кто его вышибает?
Я: Он сам себя вышибает.
Серго: Как это он себя вышибает?
Я: Мамия никого и ничего не организует, никого не призовет к порядку, он хочет, чтобы все делалось само по себе. […]
Коба – обращаясь ко мне, спросил (указывая на Серго): Говорит, что надо Полонского посадить секретарем ЗК Крайкома. Как вы понимаете?
Я: Это было бы грубейшей ошибкой, – и обращаясь к Серго: – Серго, неужели вы серьезно Полонского предлагаете секретарем Заккрайкома?
Коба: Не он (Серго) предлагает это, а такое мнение существует в Москве.
Я: Откуда бы взялось такое мнение, ничего не поймешь?
Коба: А Берия подойдет? В Закавказье?
Я: Единственный человек, который работает по-настоящему, – это Берия. Мы можем быть пристрастны к нему. Это вам виднее. Я могу сказать только одно.
Серго: Берия молодец, работает» (8).
Став первым секретарем Закавказского крайкома, Берия мог, прямо апеллируя к Сталину, действовать независимо от любого члена политбюро или партии. Кроме политических источников власти он располагал и другими: двоюродная сестра его жены, Александра Накашидзе, работала экономкой Сталина в Москве и десять лет передавала Берия сведения обо всем, что случалось без него на кунцевской даче. Лето 1933 г. Берия провел вместе с Лакобой, Сталиным и их детьми. Он сажал осиротевшую Светлану к себе на колени; хвастался преданностью, замахиваясь топором на кусты в саду Лакобы, как будто они – головы сталинских врагов. Был, правда, один опасный эпизод, вполне вероятно, инсценированный Берия, когда пограничники открыли огонь по катеру Сталина, – Берия тогда телом заслонял вождя. Следующие три лета прошли так же счастливо – охота, экскурсии в горы, игра в городки. Насторожили патриархальных абхазов только ухаживания Берия за их женами и дочерьми.
Берия-сатрап
В Тбилиси первым делом Берия решил исправить ошибку Енукидзе, выпустившего историю подпольных типографий Закавказья, где имя Сталина почти не упоминалось, и заказал новую историю большевистского движения на Кавказе. Он не любил читать, тем более писать книги, и поэтому выбрал в «соавторы» ректора университета и председателя Союза писателей, Малакию Торошелидзе, и наркома просвещения, Эдуарда Бедия, которые собирали и фальсифицировали материалы, чтобы представить Сталина в качестве Ленина кавказского большевизма. Передав книгу Сталину на редактирование, Берия приписал себе авторство, и книга стала обязательным чтением во всех вузах Закавказья. Соавторы скоро стали фантомными авторами – фантомными и в прямом, и в переносном смысле.
Применяя методы ежовщины у себя на Кавказе, Берия превзошел и Ежова, и Сталина своими познаниями о местных людях науки и искусства. Партийцев старого закала, кого еще не забрали Ягода и Ежов, сам Берия арестовал в 1936 и 1937 гг. Многие из них считали Сталина другом семьи и писали ему – ответа не было. Когда осенью 1932 г. Сталин в последний раз приехал в Тбилиси повидаться с матерью, Малакия Торошелидзе, Сталин и Берия обнимались и пели песни (9). 16 декабря 1936 г. Сусанна Торошелидзе умоляла Сталина:
«Отец, мать и старший брат арестованы… мне 17 лет… брат исключен…
Вы поймите, дядя Сосо… брат Леван всегда нервный [подчеркнуто Сталиным. —Д.?.]. Дядя Сосо, мы обожаем отца… “дети не отвечают за своих отцов”» (10).
Берия правил Закавказьем до 1936 г., когда этот союз республик опять разделили на три республики, Грузию, Азербайджан и Армению, но его влияние осталось сильным и в Армении (Азербайджан тоже превращался в ад благодаря другу Берия Багирову). Берия обращался с национальными меньшинствами еще более жестоко, чем с грузинами и мингрелами: абхазы и южные осетины подверглись насильственной грузинофикации. В июле 1936 г. Берия лично застрелил Ханджияна, главу армянской партии (11); через пять месяцев он отравил Нестора Лакобу и разгромил абхазов. Пока Ежов и Сталин наполняли политбюро русскими, Берия делал свою партию чисто грузинской.
Еще теснее, чем старые московские большевики, грузинские большевики были связаны с интеллигенцией. Расправившись со старыми большевиками, Берия лично и беспощадно набросился на грузинских писателей, художников, музыкантов и актеров. (В отличие от Сталина Берия композиторов не щадил.) К середине 1938 г. был уничтожен каждый четвертый член Союза писателей Грузии, а остальные потеряли, иногда навсегда, способность творить. Писателей уничтожить было легко, до такой степени они рассорились друг с другом. До прихода Берия Паоло Яшвили и Тициан Табидзе сами составили комиссию, которая подвергала членов союза подобию суда и лишала некоторых права издаваться. Архив союза содержит бесконечные дела о спорах и драках: пьяная реплика или попытка воспользоваться принадлежащим союзу «фордом» приводили к кровной мести, а фактически бериевской чистке. Мало кто предвидел, чем угрожал приход к власти Берия.
Берия скреплял свои связи с грузинской интеллигенцией не на чтениях, выставках или концертах – он заходил в гости к интеллектуалам и участвовал в их ссорах. Он любил без приглашения появляться в театре во время репетиции или приглашать писателей на встречи. Летом 1937 г. он арестовал двенадцать видных писателей и созвал остальных. «У некоторых из вас, – говорил он, – есть необъявленные связи с врагами народа. Пропускаю фамилии». Затем Берия подозвал Тициана Табидзе и сказал ему: «Среди пропущенных фамилий, товарищ Табидзе, была и ваша».
Старые большевики, например Бесо Ломинадзе, учились в одной школе с такими поэтами, как Паоло Яшвили и Тициан Табидзе, основателями группы «Голубые рога», которая хотела сочетать лазурь французских символистов с грузинской жизнерадостностью и примирить оба элемента с большевизмом. Вначале Берия поощрял таких поэтов, назначив Паоло Яшвили членом ЦК Закавказья, Галактиона Табидзе – членом ЦК грузинской партии, и даже ненадежного Тициана Табидзе – членом Тбилисского совета.
Режим Орахелашвили иногда проявлял такую идеологическую строгость, что запрещал классиков грузинской литературы – Руставели как феодала и Чавчавадзе как буржуазного идеалиста. Берия же объявил, что народ будет праздновать годовщины обоих писателей, таким образом одновременно сметая и ханжеский троцкизм, и русский шовинизм.
Несмотря на свое невежество, Берия выказал поистине театральный талант. Он учился у тех режиссеров, которых репрессировал. Он начал с директора Театра Руставели, Сандро Ахметели, ученика Станиславского. Ахметели бежал в Москву, где Ежов по просьбе Берия задержал его и отправил назад в Тбилиси. Берия объявил его британским шпионом, пытал, пока тот не онемел и не был разбит параличом, и расстрелял. 28 июня 1937 г. Берия сделал последний жест, устроив открытый аукцион всей собственности Ахметели не где-нибудь, а в театре.
Следующей добычей оказались «Голубые рога». Их вождь Григол Робакидзе, поклонник Гумилева, имел такой громкий успех в Москве, что Серго Орджоникидзе доверчиво позволил ему с женой и приемной дочерью поехать пожинать лавры в Германию. Но Робакидзе там остался и засел за писание антисоветских романов. Один из них, «Убитая душа», содержит «гороскоп Сталина», проницательный психологический этюд:
«Поглощенный деятельностью, Сталин сидел в Кремле, провод с током, а не властелин: провод революционных сил, существо, но не человеческое. Электрический провод с предупреждением “Опасно доя жизни”. […] Он торчал, наполненный жестоким током, непобедимый, холодная, слепая судьба советской земли и, может быть, всего мира» (12).
Невозвращение Робакидзе оказалось достаточным поводом, чтобы перебить всех друзей писателя.
В 1936 г. грузинские писатели соперничали друг с другом в оказании гостеприимства Андре Жиду, когда он приехал в Тбилиси, Цхалтубо и Сухуми с группой французских коммунистов. Писатели, которые предлагали Жиду обед и не менее щедрые похвалы, автоматически превратились в фашистских агентов, как только Жид опубликовал свою вежливую, но убийственную антисоветскую критику «Возвращение из СССР». Лучший прозаик Грузии, Михеил Джавахишвили, обрек себя на смерть замечанием: «У Андре Жида есть хорошие идеи». Отрекаться было поздно. Паоло Яшвили тщетно доказывал, что гостеприимство по отношению к приезжим знаменитостям – его подхалимская, рецидивистская болезнь, и написал стихи «К предателю Андре Жиду». «Предательский, черномордый пес Троцкого, иди за своим хозяином!» Но грузинские поэты ничем не могли спастись от того ада, который Берия им приготовил в мае 1937 г.
Журнал «Литературная Грузия» стал рупором Берия. Целый выпуск был посвящен речи Берия об успехах грузинских писателей в перестройке своего творчества и личного поведения в соответствии с требованиями Берия и Сталина. Знаком работы над собой было участие в новых соревнованиях или компиляциях. Сначала надо было писать о детстве вождя (не говоря правды, но и не сочиняя лжи): Гиорги Леонидзе сумел написать поэму, которая соблюдала все правила игры. Берия любил систему тендеров, будь то на покрытие улиц Тбилиси асфальтом или на писание восхвалений Сталину Он всегда принимал самый средний результат – без новаторства, но и без дешевого подобострастия. В 1934 г. каждый грузин, способный к стихоплетству, вносил свой вклад в антологию грузинской поэзии о Сталине. В 1935 г. был открыт конкурс на художественную биографию вождя. Почти все писатели, еще остававшиеся в живых в 1939 г., написали прозу или стихи в этом духе.
Берия напоминал грузинским писателям, что издает Руставели в то время, когда Гитлер сжигает Гейне. Он настаивал, что единственный покровитель писателей – он сам. К 1937 г. те произведения, что еще не были присвоены Берия, восхваляли его мудрость. Молодой подхалим Григол Абашидзе написал:
- Вы везде, там, где добывают уголь,
- На открытых лугах, усердно вспаханных.
- Вы ведете вперед, и в нашей земле
- Сталинская быль стала явью[18].
К лаврентию берия
15 мая 1937 г. Берия ошеломил интеллигенцию своим докладом на съезде грузинской партии. Надев форму энкавэдэшника, он прочитал список за списком – сколько произведений опубликовано или снято, как если бы это были посаженные или выкорчеванные деревья, или же эксплуатируемые или заброшенные шахты. Жанр за жанром Берия подытоживал достижения и неудачи в поэзии, в прозе, в драматургии и в критике. С особенной ядовитостью Берия обрушился на критиков, будто бы вводивших публику в заблуждение. Почти сразу после этой речи Берия арестовал критика Бенито Буачидзе, который тщетно старался отвлечь внимание НКВД от своего фашистского псевдонима (ошибка футуризма, он рано полюбил Муссолини) и от своих слишком левых рапповских взглядов. Критикуя Буачидзе, Берия позаимствовал все упреки, которыми Буачидзе раньше осыпал недостаточно пролетарских грузинских писателей. Этому первому аресту грузинские поэты рукоплескали. Но за ним последовала целая волна новых.
Берия доверил другому, более мягкому, критику – Давиту Деметрадзе организовать серию заседаний Союза грузинских писателей с мая по октябрь 1937 г., где с семи часов вечера до половины четвертого утра писатели должны были осуждать себя и своих коллег. Только два поэта не ходили на эти заседания – Галактион Табидзе и Иосеб Гришашвили: их читал с удовольствием сам Сталин, и Берия поэтому освободил их от страшного испытания (13).
На очередном собрании писатели должны были сначала, как бы совершая ритуал, превозносить мудрость Берия, а потом признаваться в связях с теми, кого арестовали на предыдущем заседании. Злосчастную жертву выводили в фойе, где ее ждали энкавэдэшники. Голуборожцы или признавали обвинения против себя, или доказывали свою невиновность и виновность других (14). Николо Мицишвили, который в 1920 г. увлек Мандельштама грузинской поэзией и благодаря тому сам заинтересовал русского читателя, был арестован прямо в Доме писателей. В 1934 г. Мицишвили напечатали на первых страницах антологии стихотворений о Сталине, и стихотворение перевел сам Пастернак. Но однажды, напившись, он вдруг откровенно высказал свое мнение о советском руководстве: из всех голуборожцев его расстреляли первым.
Русские поэты были ошеломлены смертью другого поэта, Паоло Яшвили, который дружил с Пастернаком и блестяще переводил Пушкина. Яшвили был таким убежденным большевиком, что в феврале 1921 г. сел на белую лошадь, чтобы встретить Красную армию на окраине Тбилиси. Он был хорошо знаком и с московской, и с парижской красной интеллигенцией и любил общаться со звездами науки, бактериологом Гоги Элиава и с инженером Володей Джикия. Чем больше этих людей арестовывали, тем труднее становилось Яшвили выбраться из когтей Берия. Громче всех он требовал на митингах смерти для Каменева и Зиновьева, но знал, что и сам обречен. На заседании, где его допрашивали сотоварищи по Союзу писателей, он воскликнул:
«Как должен поступать советский писатель, когда он пьет вино в каком-то притоне и какой-нибудь пьяный человек, незнакомец, вдруг встает, говорит неискреннюю речь о тебе, хвалит твои литературные достижения, и ты должен сам встать и перед всеми ответить речью благодарности к человеку, который часто очень подозрителен?» (15)
22 июля, пока коллеги обсуждали исключение поэта, Паоло Яшвили достал припрятанное охотничье ружье и застрелился. Пленарное заседание писателей сразу постановило, что отныне нельзя будет вспоминать о Яшвили иначе как с «безбрежным отвращением» и что каждый должен осудить его «предательскую» деятельность. Тициан Табидзе молча вышел из зала, и ему инкриминировали декадентство и связи с невозвращенцем Робакидзе. Тициан спокойно дожидался ареста, написав за это время свои самые прочувствованные и мудрые стихи:
- Еще немало прейдет племен,
- Может быть, высохнет Понт Эвксинский,
- Но все-таки горло поэта, разрезанное от уха до уха,
- Будет жить в атоме стиха[19].
Табидзе медленно пытали, пока он не умер. Когда палачи потребовали, чтобы он назвал своих сообщников, он перечислил всех покойных поэтов Грузии – рассылая плохо образованных энкавэдэшников по всем кладбищам Тбилиси.
На этих заседаниях только один писатель говорил, что хотел. Это был отец будущего президента Грузии романист Константин Гамса-хурдия. Гамсахурдия защищал Тициана Табидзе и требовал, чтобы писатели, работающие в НКВД, молчали. Он передал собранию слова, сказанные ему Орджоникидзе, о том, что «нельзя посылать несогласных интеллигентов в лагеря, потому что такая политика – подражание Гитлеру». Он намекал, что можно и не подражать московскому террору, – грузинам нельзя подрезать деревья грецкого ореха так, как русские подрезают елки. Гамсахурдия был, как и Берия, мингрел, но с совершенно другим прошлым. Он был уполномоченным независимой Грузии в Германии (16) и по возвращении в Грузию был сослан на Соловецкие острова. Когда его освободили, он перевел на грузинский язык дантовский «Ад» и в начале коллективизации написал гротескный роман, «Похищение луны», в котором активист, похожий на Берия, насилует собственную мать и убивает отца. Тем не менее Берия любил Гамсахурдия (он знал, что из всех здравствующих грузинских прозаиков Сталин ценит только Гамсахурдия, хотя он его читал с редакторским карандашом в руке). Берия подарил ему револьвер с серебряной надписью. Однажды Гамсахурдия арестовали за роман с троцкисткой Лидией Гасвиани, главой государственного издательства. Берия лично выпустил его, заметив, что связи с врагами народа разрешаются, если они чисто сексуального характера. Гамсахурдия и Берия связывала странная смесь взаимных увлечений, уважения и ненависти.
В Грузии был еще один прозаик, который по гениальности и популярности не уступал Гамсахурдия, – Михеил Джавахишвили. Но, храбро похвалив Яшвили за мужественное самоубийство, он обрек себя на гибель. 26 июля 1937 г. грузинский Союз писателей постановил: «Михеил Джавахишвили, как враг народа, шпион и диверсант, должен быть исключен из Союза писателей и физически уничтожен». Один храбрый друг Джавахишвили, Геронти Кикодзе, не принимал участия в голосовании и демонстративно вышел из зала. (Его почему-то не арестовали.) Джавахишвили били в присутствии Берия, пока он не подписал признания; и расстреляли 30 сентября. Его имущество разграбили, брата расстреляли, а вдову превратили в затворницу на следующие сорок пять лет.
Берия истребил почти всех видных армянских, абхазских и южноосетинских интеллигентов, но русских он не имел права трогать, если ранее они еще не подвергались аресту. К концу 1937 г. Берия приостановил террор и собрал в оперном театре оставшихся в живых интеллигентов. Он объяснил, что все жертвы – инженеры, режиссеры, поэты – были замешаны в одном огромном заговоре, имевшем целью распространить эпидемию тифа, продать Аджарию туркам и убить Лаврентия Берия.
Как и Ежов, Берия совращал или насиловал женщин, заблаговременно арестовывая мужей, любовников или отцов. В отличие от Ежова он не скрывал своих пороков от публики. На заднем сиденье своего открытого «бьюика», сидя между двумя телохранителями, Сихарулидзе («сыном радости») и Талахадзе («сыном грязи»), Берия медленно патрулировал улицы, заманивая или похищая школьниц. Когда его перевели в Москву, Берия пришлось на какое-то время воздержаться от таких экспедиций, и только после Второй мировой войны вместе с новыми телохранителями, Саркисовым и бывшим палачом Надарая, Берия опять начал охотиться на молодых девушек. Он внушал отвращение партийным товарищам, таким же кровожадным, как и он, похотью, с которой смотрел на их жен, любовниц и дочерей.
Наведение порядка после Ежова
Первые два месяца в Москве Берия осваивался с осторожностью. С середины ноября 1938 г. он уже с большей уверенностью приступил к смене курса. Жертв террора брали теперь не наугад, а – как до 1936 г. – на основании связей с уже арестованными. Те чистки, которые Ежов затеял в армии, НКВД, комсомоле, Наркомате иностранных дел и среди интеллигенции, были или прекращены, или расширены. Расстреляв людей, назначенных Ежовым, Берия осчастливил НКВД, штат которого почувствовал, что новый шеф не только пользуется доверием Сталина, но и вводит кавказскую систему отношений между начальством и рядовыми служащими. За предательство Берия будет наказывать жестоко, но верных он не предаст. После непредсказуемой скорпионьей неблагодарности Ежова Берия показался чекистам принципиальным человеком.
Берия быстро научился своему делу, но вначале часто спрашивал у Сталина советов – в отличие от Ягоды и Ежова, он плохо знал московскую элиту, писателей, журналистов, военных, дипломатов. Начиная с сентября 1938 г., с небольшими перерывами, Сталин и Берия работали в одном кабинете, по крайней мере два раза в неделю, иногда каждый день. Вначале эти встречи продолжались меньше часа, но к весне 1939 г. их длительность увеличилась до двух часов. В 1940 г. Берия иногда запирался со Сталиным с шести часов вечера до пяти утра. Даже после 1949 г., когда Сталину минуло семьдесят и он принимал все меньше людей, проводя с ними все меньше времени, Берия приходил каждую неделю на два часа.
Первым делом Берия было избавление НКВД от последних ежовцев и горсточки людей Ягоды. С сентября 1938 по февраль 1939 г. было арестовано девяносто семь кадровых энкавэдэшников (столько, сколько Ежов арестовал за все свое время). Большую часть расстреляли даже до расстрела Ежова, но кое-кого доили до последней капли, чтобы накопить материал для дальнейших арестов. Такой жертвой оказался свояк Сталина Станислав Реденс, арестованный по ордеру, лично подписанному Берия. Ключевые вакантные места заполнили бериевцы из Тбилиси.
Что касается рядовых чекистов, то Берия за один год повысил их уровень грамотности: он завербовал столько людей с высшим образованием, что они составили 35 % (раньше —10) всего состава НКВД, а людей без среднего образования стало меньше – их доля упала с 42 до 18 %. Славянский шовинизм Ежова был разбавлен переводом кавказцев из Тбилиси (не все были грузинами). Самыми влиятельными из вновь пришедших были Серго Гоглидзе, бывший и при Ежове комиссаром госбезопасности, и заместитель Гоглидзе, Михеил Гвишиани. Берия отправил Гоглидзе в Ленинград, а Гвишиани во Владивосток; над Белоруссией надзирал Лаврентий Цанава (17). Узбекистан тоже получил грузина, точнее мингрела, Алексия Саджая, который за двадцать лет до того под псевдонимом доктора
Калиниченко прославился как самый страшный садист в одесской ЧК. Таким образом, можно сказать, что в 1939 г. большая часть территории СССР оказалась под контролем грузин и мингрелов.
Из подопечных Берия самыми влиятельными были тбилисские армяне, братья Богдан и Амаяк Кобуловы, бакинский грузин Владимир Деканозов и Соломон Милынтейн, виленский еврей, который работал с Берия изначально и был самым страшным из мучителей тбилисской ЧК. Амаяк Кобулов вскоре стал советником в советском посольстве в Берлине, а Деканозова потом назначили советским послом в гитлеровской Германии. Богдан Кобулов, на редкость самоуверенный зверь, стал заместителем Берия (18). Милынтейн выполнял одну из ключевых миссий НКВД – контроль над советскими железными дорогами.
Был среди команды Берия один интеллигент, кавказский русский Всеволод Меркулов, недоучившийся физик из Петербургского университета, выказавший свою твердую волю в подавлении аджарского восстания 1929 г. Самый дикий чекист в команде Берия, тбилисский еврей Леонид Райхман, заведовал учебными заведениями НКВД. У Берия имелся и любимый аристократ, князь Шалва Церетели, храбрый, но очень недалекий сокамерник Берия в кутаисской тюрьме, который одно время был бандитом, а потом служил в грузинской ЧК в качестве профессионального убийцы. Как и у Ягоды, у Берия был не только символический аристократ, но и символический латыш – А. П. Эглитис из Тбилиси. Берия дополнил свою команду двумя военными – Сергеем Кругловым, танковым механиком, а теперь главой отдела кадров, и Иваном Серовым, который научился своему ремеслу, будучи комиссаром украинского НКВД (и потом прославился на весь мир подавлением Венгерского восстания 1956 г.). Берия допустил большую ошибку, назначив двух русских, Круглова и Серова, – в конце концов они его предадут.
Из людей, назначенных Ежовым, Берия сохранил лишь нескольких. Павел Мешик, украинский специалист по госбезопасности, оказался слишком необходимым человеком, и его сделали главным экономистом НКВД; Яков Рапопорт, единственный долгожитель из латышских евреев, не переставал применять рабский труд для строительства каналов; Леонид Баштаков, заведующий дисциплиной в школах ОГПУ и НКВД, отвечал за все тайные убийства, так называемые спецоперации; Лев Влодзимирский, русский, несмотря на польскую фамилию, при Ягоде управлял Северным
Кавказом, у Ежова работал в отделе госбезопасности в Москве, а у Берия возглавил государственную охрану.
У Ежова были некоторые особо даровитые следователи, которых казнить было нельзя. Есаулов, выжавший из Ежова полное признание вины, и Лев Шварцман, полуграмотный палач, выдвинутый Ежовым за эффективное избиение заключенных и сочинение их показаний. Борис Родос, до полусмерти избивший Ежова, также оправдал доверие Берия, который поручил ему уничтожить всех чекистов и партийцев, которые могли или хотели бы бросить тень на бакинское прошлое Берия. Чтобы угодить Берия, Родос пытал и убивал многих кавказцев, включая Бетала Калмыкова, первого секретаря Кабардино-Черкесии, и младших братьев и секретарей Серго Орджоникидзе. Каким-то чудом сам Родос, посвященный во множество тайн из прошлого своего хозяина, уцелел.
Летом 1939 г. партийное руководство Средней Азии вслед за кавказцами познало всю тяжесть руки Родоса. Он работал в тюрьме Лефортово, специально оборудованной для палачей, но сам не использовал для пыток дубинки, наркотические препараты или электрический ток – он просто избивал людей ногами и мочился им в рот. Берия приобрел еще одного садиста, Александра Лангфанга, который начал свою карьеру бетонщиком, а потом стал известным палачом, превращая дипломатов и коминтерновцев в неузнаваемые куски мяса. Но страшнее всех был Шварцман, который особенно любил мучить женщин и потом записывать их признания, с грамматической изящностью, которая удивляла всех, кто знал о его полной необразованности (19).
Как и Ежов, Берия неумолимо разыскивал бывших энкавэдэшников, перешедших на службу в другие ведомства. Вообще, из тех чекистов и коминтерновцев, кого арестовал Ежов, Берия почти никого не щадил. Белу Куна допрашивали еще целый год, пока не расстреляли в конце 1939 г., зато его сожительница Розалия Землячка, любимица Сталина, сохранила свое кресло в Комиссии советского контроля.
Из энкавэдэшников, арестованных Ежовым, Берия сохранил только одного, Андрея Свердлова, сына Якова Свердлова. Мальчиком он воровал у Ягоды сигареты и, как только подрос, стал самым молодым следователем в ОГПУ. Когда Ежов его арестовал, его допросили с удивительной мягкостью и повели к Берия в кабинет. Берия извинился перед Свердловым от имени ЦК и назначил его помощником того следователя, который только что допрашивал его. В 28 лет Свердлов стал специалистом по академикам, поэтам и женам старых большевиков: его особенно боялись за странную смесь интересной умной беседы с жесточайшим физическим насилием. Он зубы и заговаривал, и выбивал.
Из всех чекистов только один осмелился протестовать против назначения Берия. Михаил Кедров, который, поправив свои расшатанные садизмом нервы, стал директором Института нейропсихологии, вместе с сыном Игорем решил еще раз осведомить Сталина о двурушничестве Берия в Баку. В начале 1939 г. Берия арестовал сначала отца, а потом и сына. Но неожиданно для Берия Верховный суд оправдал Михаила Кедрова. Только в октябре 1941 г., когда целый поезд увозил заключенных из Москвы в Саратов, Берия смог без приговора расстрелять Кедрова.
Берия без колебаний уничтожил последний островок гуманности в империи Ежова – лефортовскую больницу, куда временно помещали заключенных, чтобы привести их в нужное состояние для дальнейших пыток. Анна Анатольевна Розенблюм, «лефортовская добрая фея», следовала старинным традициям русских тюремных врачей, например «святого доктора» Федора Петровича Гааза, ставшего образом идеального филантропа и для Герцена, и для Достоевского. В течение двух лет в Лефортове Анна Розенблюм засвидетельствовала сорок девять случаев смерти под пыткой и гораздо большему числу людей восстановила здоровье. Люди, прошедшие Лефортово и ГУЛАГ, помнят ее как последнего порядочного человека в НКВД. 31 января 1939 г. она была арестована по приказу Берия, и вскоре Борис Родос пытал ее. Осужденная как польский шпион, она вернулась в Москву через пятнадцать лет и дала показания против своих палачей.
Казалось, что НКВД удалось реформировать. Правда, офицеры все еще присваивали мебель и квартиры арестованных, но теперь Берия постановил, что «мебель подлежит учету и выдается временно служащим, поселенным в этих квартирах». Арестантов возили по городу уже не в «черных воронах», но менее демонстративно – в фургонах с надписью «Хлеб», «Овощи», таким образом пропагандируя сразу две неправды.
Берия еще хотел придать НКВД ту видимость культуры, которой могла похвастаться Красная армия, и поэтому учредил единственный в мире ансамбль песни и пляски тайной полиции. Первое выступление ансамбля было приурочено к официальному шестидесятилетию Сталина в декабре 1939 г. (20). В1941 г. именно в этом ансамбле нашел себе приют драматург Николай Эрдман, который в 1920-х годах разгневал Сталина своей «антисоветской» пьесой «Самоубийца». Затем в 1933 г. Эрдман был арестован и получил три года ссылки в Сибири за то, что уговорил великого актера Качалова декламировать перед членами политбюро его легкомысленные басни, например:
- Однажды ГПУ явилося к Эзопу
- И – хвать его за жопу.
- Смысл басни сей предельно ясен:
- Довольно этих самых басен (21).
Советские граждане начали думать, что Берия вернет в НКВД правосудие и умеренность, когда освобождали сотни, даже тысячи арестованных, а энкавэдэшников арестовывали или увольняли за фальсификацию дел. Освобожденные могли объявлять свою невиновность и разоблачать незаконные пытки, но они не знали, что Сталин в том же году подтвердил в письменной форме свое разрешение НКВД пользоваться «физическими методами воздействия».
Генеральный прокурор Андрей Вышинский с привычной гладкостью сменил систему на бериевский «правовой порядок» (хотя целый год ему понадобилось писать записки Сталину, требуя, чтобы НКВД согласовывал аресты с прокуратурой). Он инсценировал открытые демонстрации законности: группа ветеринаров, осужденных за распространение сибирской язвы среди скота, нашла себе адвоката, Бориса Менынагина, которому удалось добиться их оправдания и ареста прокурора НКВД (22). Сам Вышинский ушел из прокуратуры в правительство, став заместителем председателя Совнаркома, где продолжал выживать своих коллег, бросая их волкам на съедение. Он истреблял любого прокурора, имевшего хоть каплю совести и законности в душе. Фаина Нюрина, находившаяся в опасности уже потому, что была еврейкой, подписала себе смертный приговор в 1937 г., когда процитировала революционерку Олимпу де Гуж: «Женщина имеет право всходить на эшафот, ей должно быть дано право всходить и на трибуну» (23). А после падения Ежова Вышинский спокойно отдал в руки Берия своего беспощадного подчиненного, Григория Рогинского, с помощью которого Вышинский избавился от такого опасного соперника, как Крыленко; Берия передал Рогинского, заклейменного как контрреволюционер, Кобулову и Влодзимирскому на избиение (24). Прокуратура в 1940 г. была поручена Виктору Бочкову, военному без всякого юридического образования, который советовал Ежову и Берия, каких офицеров лучше арестовать. Берия не сомневался, что Бочков будет перегибать палку по требованию НКВД.
В армии было гораздо меньше арестов после заключения под стражу Ежова. В 1939 г. уволили всего 847 офицеров и арестовали только сорок одного. (При Ежове уволили 38 тыс. и без малого 10 тыс. арестовали.) Офицер флота Петр Смирнов-Светловский, арестованный в марте 1939 г., был почти последним обвиняемым заговорщиком в Вооруженных силах. В том же году Берия снова принял в армию 5570 уволенных офицеров (25). Через два года НКВД составил список 18 тыс. военных, еще не умерших в ГУЛАГе, и перевел несколько тысяч прямо из ГУЛАГа на фронт.
Тем не менее при Берия население ГУЛАГа продолжало расти: к началу 1939 г. насчитывалось 1344408 человек, не говоря о 315 584 в лагерях исправительного труда и приблизительно столько же – в тюрьмах. Суды теперь оправдывали кое-кого из обвиняемых в контрреволюции. Гораздо меньше людей расстреливали. В 1939 г. за контрреволюцию расстреляли 2552 (по сравнению с 328618 в 1938 г.), а в 1940 г. еще меньше – всего 1649, если не считать 22 тыс. пленных поляков, убитых в Катыни и других местах, или зэков, уничтоженных охраной в ГУЛАГе. Смертность в лагерях упала – в 1939 г. умерло 50 тыс. человек, вдвое меньше, чем в 1938 г. Говорят о бериевской амнистии, но факты свидетельствуют об обратном. В 1939 г. освободили из ГУЛАГа 223622, то есть меньше, чем в 1938 г. (279966). В 1940 г. освободили больше: приблизительно 300 тыс. Если сравнить эти цифры с притоком новых заключенных – в 1939 г. 749647 и в 1940 г. 1158402, – то становится очевидным, что никаких послаблений на самом деле не было. Бушевал такой же массовый террор, как раньше, только смерть осужденных наступала уже не так быстро и неизбежно.
Сталину нужен был не более гуманный, а более гибкий НКВД. Теперь он все чаще издавал приказы убить кого-либо без ареста и суда. При Ягоде и Ежове такие убийства большею частью происходили за границей, теперь они становились почти нормальным явлением в СССР. В лагерях бывшие работники НКВД уничтожали таких неудобных и болтливых заключенных, как Карл Радек. В Москве подобные убийства свершались прямо-таки мастерски. Одним из первых в июле 1939 г. был убит советский посол в Китае
Иван Бовкун-Луганец. Его решили не арестовывать, чтобы остальные советские дипломаты в Пекине не впали в панику. Берия и Кобулов забронировали целый железнодорожный вагон, чтобы везти Бовкуна-Луганца с женой в Цхалтубо. В том же вагоне ехали три офицера НКВД – двое приближенных Берия, Влодзимирский и Шалва Церетели, а также эстонский еврей Веньямин Гульст. Церетели убил посла, Влодзимирский избил жену, а Гульст задушил ее. На вокзале в Кутаиси тела погрузили в мешки. Глава грузинского НКВД, Авксентий Рапава, повез тела по горным дорогам, где инсценировали аварию. Шофера застрелили, и всех троих похоронили в Тбилиси. По приказу Сталина тела посла и его жены эксгумировали и перезахоронили со всеми почестями.
Тем же летом Сталин решил наказать маршала Григория Кулика за недовольство, высказанное во время чистки Красной армии. Самого маршала надо было хотя бы на время сохранить, так как его опыт артиллериста был необходим в начавшейся вскоре финской войне. В 1940 г. решили убить его жену. Две недели Влодзимирский, Церетели и Гульст стерегли квартиру Кулика, пока жена не вышла одна. Ее допросил Берия, якобы вербуя как агента НКВД, а затем Кобулов отправил ее в Сухановку, где Блохин ее расстрелял. Отчаявшийся Кулик объявил жену в розыск – неизвестно, догадывался ли он о ее судьбе (26). Влодзимирский и Церетели получили награды, Гульста сделали заместителем наркомвнудела в только что захваченной Эстонии. У Сталина, кажется, еще были планы таким же незаметным образом избавиться от Максима Литвинова и Петра Капицы, но он приказал Берия пока не приводить приговор в исполнение. Алексея Каплера, первого любовника своей дочери, Сталин приказал просто избить.
Последние интеллигенты
Первой большой задачей, которую Сталин поручил Берия, был показательный процесс над огромной сетью так называемых шпионов. Десятки интеллигентов и партийцев давали показания, обрекающие чуть ли не всех еще неарестованных писателей, послов и служащих Наркомата иностранных дел. С момента первого ареста до последней казни прошло два года, но сам показательный процесс не состоялся. Сталин раздумал, может быть потому, что был озабочен своим новым договором с Гитлером и разделом Восточной Европы. К тому же многие из обвиняемых или намеченных для арестов могли еще пригодиться.