Человек смотрящий Казинс Марк
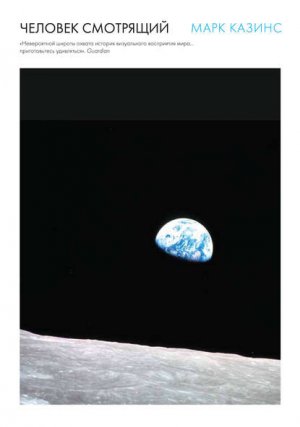
Но наблюдение за «лунами» Галилея сулило нечто еще более поразительное. Рёмер и его парижский коллега заметили, что интервал между затмениями сокращался, когда Земля и Юпитер сближались, и увеличивался, когда они удалялись друг от друга. Если бы свет двигался с бесконечной скоростью, как тогда считалось, этих колебаний не было бы. Значит, свету нужно время, чтобы от спутника Юпитера достичь Земли. У света есть вполне определенная скорость. Была открыта важнейшая составляющая зрительного восприятия. Все последствия этого открытия будут осмыслены лишь к началу ХХ столетия.
Телескопы связали наблюдение не только с пониманием нашего места в мире, но и с математическими расчетами. 3 июня 1769 года британский исследователь капитан Кук и другие ученые продолжили опыты Рёмера. На этот раз наблюдалось прохождение Венеры по диску Солнца. Отметив моменты «контакта» Венеры и солнечного диска на Таити и в Европе, астрономы сумели вычислить расстояние от Земли до Солнца с точностью, превышавшей 99 процентов.
В официальном заявлении, сделанном в 1992 году, спустя триста пятьдесят девять лет после оглашения приговора Галилею, папа Иоанн Павел II в весьма осторожных выражениях признал, что Церковь ошибочно настаивала на столь буквальной трактовке Святого Писания. Наконец-то Церковь с неохотой повинилась в своих агрессивно-колонизаторских стремлениях навязать всем собственные представления о мироздании, вместо того чтобы всматриваться в него и внимать тому, что оно может поведать.
Мы вернемся к теме взаимоотношений веры и зрительного восприятия, когда речь пойдет о Реформации, а сейчас продолжим историю научных наблюдений и обратимся к человеку, родившемуся спустя одиннадцать месяцев после смерти Галилея. Его открытия покажут, какую опасность метод научного наблюдения может представлять для религиозных догматиков и блюстителей косных традиций, но тогда, в середине XVII века, люди были еще далеки от понимания законов мироздания. Долгое время считалось, что капли дождя, брошенные мячи, сосновые шишки падают на землю, потому что Земля – это центр мира. Но если дело обстоит иначе, почему все-таки они падают? Стали появляться иные объяснения. Размышляя над тем, что заставляет планеты вращаться по их орбитам, некоторые ученые делали осторожные предположения: должно быть, движением планет и падением шишек управляют одни и те же силы. Но подобные теории подразумевали, что все сущее во вселенной поддерживают в равновесии и дергают за ниточки некие «волшебные пальцы», эта мистическая гипотеза вновь наводила на мысли о Святом Духе, к которым человечеству уже не хотелось возвращаться.
Исаак Ньютон
На сцену выходит Исаак Ньютон. Он родился раньше срока, в школе подвергался травле, а его влияние на науку, по словам Кёстлера, можно уподобить «взрыву наоборот». Подбирая осколки научных озарений, казалось бы не пригодных ни для какой стройной теории, он складывал их воедино. Одно из главных озарений снизошло на него в результате самого знаменитого визуального опыта со времен принимавшего ванну Архимеда. Эту историю принято считать легендой, но Ньютон лично поведал ее как минимум пятерым своим знакомым. Одним из тех, кто написал о прославленном яблоке, был французский философ Вольтер. По его словам, сэр Исаак Ньютон впервые задумался о своей теории тяготения, прогуливаясь по саду, когда увидел падающее с дерева яблоко.
Вулсторп, родовое поместье Исаака Ньютона в английском Линкольншире и знаменитая яблоня © Tim@ awe / Dreamstime.com
Вот то самое дерево. В поместье Вулсторп в английском Линкольншире, где родился и вырос Ньютон.
Вообще-то, это ферма, однако Ньютон всячески отлынивал от хозяйственных забот, предпочитая всему размышления и одиночество. О случае с яблоком его друг Уильям Стьюкли писал:
…Мы вышли в сад и пили чай под яблонями – только мы вдвоем. Говорили о том о сем, и он, между прочим, сказал мне, что идея тяготения пришла ему в голову при таких же точно обстоятельствах. «Почему яблоко всегда падает отвесно?» – подумал он. На эту мысль натолкнуло его упавшее яблоко, когда он пребывал в созерцательном настроении. «Почему не в сторону, не вверх? Но всегда к центру Земли? Разумеется, причина в том, что Земля притягивает его. В материи должна существовать притягательная сила. А средоточие притягательной силы материи Земли должно быть в центре Земли, а не с какого-то ее боку. Вот почему яблоко падает отвесно, то есть по направлению к центру. И если материя притягивает другую материю, следовательно существует пропорциональность ее количеству. То есть яблоко притягивает Землю так же, как Земля яблоко».
Наблюдение ведет к размышлению. Закон всемирного тяготения, согласно которому тела притягиваются с силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними, был сформулирован Ньютоном. Упавшее яблоко наполнило вселенную волшебными пальцами гравитации.
Наблюдения и изыскания Ньютона привели к множеству других открытий, не последнее место среди которых занимает его работа, посвященная видимому свету и составляющим его цветам, привлекшая внимание Гёте. До Ньютона считалось, что свет, проходя сквозь стеклянную призму, превращается в нечто иное, а именно в цвета. Казалось бы, наблюдение это подтверждает. Но какова же природа этого «превращения»? Ньютон придумал визуальный эксперимент, чтобы это выяснить. Ему понадобились две призмы: свет, разложенный на цвета первой призмой, он пропустил через вторую. Пройдя через вторую призму, свет вновь сделался бесцветным, и таким образом было доказано, что призма не преобразует свет во что-то новое (цвет), а лишь выявляет его составляющие (спектр компонентов различной цветности). Свет открывал свои тайны тем, кто умел видеть. В дальнейшем Ньютон также смог доказать, что лучи разного цвета имеют разную степень преломления. Если бы у света был свой святой покровитель, на эту почетную роль мог бы претендовать Исаак Ньютон. Он слыл большим чудаком, разрабатывал множество гипотез в самых разных областях, никогда не был женат, а после смерти в его волосах обнаружилась ртуть. Весьма возможно, что научные эксперименты сократили ему жизнь. «Он держит призму, – писал Уильям Вордсворт. – Тихое лицо как циферблат ума»[9]. Одно из самых знаменитых высказываний Ньютона тоже относится к способности видеть – и прозревать: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов».
Альфред Рассел Уоллес и Чарльз Дарвин
Неутомимые естествоиспытатели вглядывались в планеты, человеческое тело, падающее яблоко и солнечный свет. А что же видели проницательные наблюдатели, когда обращали свой взор на природу, животных и насекомых? В 1802 году великий немецкий ученый Александр фон Гумбольдт поднялся на вершину Чимборасо, самого высокого вулкана Эквадора, и там «единым взглядом», как он выразился, обнял природу в ее живом, неразрывном единстве. До появления таких прозорливцев, как валлиец Альфред Рассел Уоллес, родившийся в 1823 году, и его младший современник английский натуралист и страстный поклонник Гумбольдта Чарльз Дарвин, господствовала вера в неизменность биологических видов. Рыбы – это рыбы, а птицы – это птицы. Но Уоллес и Дарвин зорко подмечали детали и различия, обращая особое внимание на появляющееся со временем внутривидовое и межвидовое разнообразие. Их взгляд был направлен на видимые изменения.
К примеру, окраска этой бабочки, березовой пяденицы, делает ее незаметной на стволе дерева. Благодаря такой природной маскировке возрастает вероятность, что ей удастся провести хищников.
Березовая пяденица © Natural History Museum, London, UK / Bridgeman Images
Глядя на эту фотографию, мы с трудом различаем контуры бабочки. Во время промышленной революции, когда стволы деревьев, на которые садились насекомые, почернели от дыма и копоти, их тела и крылья тоже потемнели. К середине ХХ столетия воздух стал чище, стволы светлее, а с ними и бабочки, и не потому, что они сделались менее грязными, а потому, что светлые особи чаще выживали.
Это простой пример быстрых изменений, которые Уоллес и Дарвин наблюдали во время своих путешествий. История Уоллеса менее известна. В отличие от Дарвина, он происходил из небогатой семьи и искренне сочувствовал радикальным идеям: поддерживал суфражисток и критиковал политику свободной торговли Соединенного Королевства. Четыре года он собирал образцы и проводил исследования в бассейне Риу-Негру, одного из притоков Амазонки. Там и на Малайском архипелаге, где Уоллес составил поразительную коллекцию из 126 500 образцов, он заинтересовался несхожестью представителей одних и тех же видов фауны в местах, долгое время разделенных естественными границами, к примеру большой рекой. Животные на одном берегу разительно отличались от тех, что жили на другом, следовательно, заключил Уоллес, их различия стали следствием того, что в течение долгого времени они приспосабливались к разным условиям. Другими словами, эволюционировали. Рыбы – это не просто рыбы, а птицы – не просто птицы.
Дарвина в некотором роде можно уподобить Пикассо по отношению к Уоллесу – Браку. 24 ноября 1859 года вышел в свет труд Дарвина «О происхождении видов». Весь тираж, 1250 экземпляров, разошелся в первый же день. Его книга – мастер-класс по наблюдению и наблюдательности, настоящий гимн зрению. Сбор образцов во время путешествий он уподоблял прозрению слепого. Историк и писательница Андреа Вулф утверждает, что его методы были одновременно и теле-, и микроскопическими.
За двадцать два года до этого Дарвин сделал в своей записной книжке следующий рисунок:
По сути это времення шкала. В ее точке отсчета (внизу слева) всего один биологический вид. Но шли тысячелетия, появлялись внутривидовые различия – ветви вида, которые затем эволюционировали независимо друг от друга, то ли оказавшись по разные стороны естественной границы, например реки, то ли из-за изменившихся условий среды обитания: наступления ледникового периода или индустриальной революции.
Ветви на рисунке Дарвина – гибридные виды. Уоллес и Дарвин внимательно изучали процессы гибридизации и мутации в живой природе и окаменелостях. Они искали промежуточные звенья, межвидовые скрещивания, типические признаки и примеси. Когда вы настроились искать что-то конкретное – пусть даже самое простое, скажем желтый цвет, – вы начинаете видеть его повсюду. Уоллес и Дарвин были такими охотниками за «желтым». Доказательства естественного отбора и эволюции видов были у нас под носом, просто мы их не искали, не видели в упор. Нужно было смотреть внимательнее. Если провести звуковую аналогию, иногда полезно перестать говорить и начать слушать. Научное наблюдение означает умение прислушаться.
Одно из доказательств и достоинств теории естественного отбора – это предсказуемость. Изучая ископаемые останки позвоночных организмов, мы хорошо знали, что одни окаменелости некогда были обитателями моря, другие – суши. Эволюционная биология предрекла существование промежуточного звена. На зоологической полке было оставлено место для фоссилий земноводных (амфибий), и в конце концов на юге Шотландии такие окаменелости были найдены.
Дмитрий Менделеев
Недостающее звено подсказывает ученым, чт они должны найти, и задает верное направление поискам; именно так и случилось еще в одном сюжете о научном наблюдении. Изысканиями занимался вот этот человек. Какие у него проницательные, красивые глаза, словно созданные для того, чтобы узреть пробелы в наших знаниях о мире природных элементов.
Дмитрий Менделеев происходил из небогатой семьи; он родился в 1834 году в Сибири и был младшим из четырнадцати детей. После того как его отец ослеп, управление стекольной фабрикой взяла на себя мать.
Самым знаменитым его открытием стала периодическая система химических элементов, привидевшаяся ученому во сне: «Ясно вижу во сне таблицу, где элементы расставлены как нужно. Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги и заснул опять. Только в одном месте впоследствии оказалась нужной поправка». Принимая во внимание провидческое содержание таблицы, это поразительно. Сперва Менделеев расположил известные твердые, жидкие и газообразные элементы в соответствии с их основным свойством, атомной массой. И раньше выдвигались предположения, что элементы как-то оотносятся друг с другом, но ни у кого не было ясного понимания, как именно. Менделеев пытался это осмыслить, записав на карточках названия всех элементов; он тасовал их так и эдак в поисках закономерностей. Для начала он записал…
Литий (относительная атомная масса 7)
Бериллий (9)
Бор (11)
Углерод (12)
Азот (14)
Кислород (16)
Фтор (19)
…последовательность, которая ничего бы нам не прояснила, поскольку литий (щелочной металл, который можно резать, как сыр, и который в природе встречается только в соединениях) имеет мало общего с углеродом, азотом и кислородом, составляющими основу нашей жизни и присутствующими буквально во всем. Но Менделеев начал составлять второй столбец…
Литий (7) Натрий (23)
Бериллий (9) Магний (24)
Бор (11) Алюминий (27)
Углерод (12) Кремний (28)
Азот (14) Фосфор (31)
Кислород (16) Сера (32)
Фтор (19) Хлор (35)
…и теперь что-то стало вырисовываться. Если смотреть по горизонтали, станет заметно очевидное сходство между литием и натрием (еще один мягкий легкий металл), или между углеродом и кремнием, или фтором и хлором. Однако только третий столбец по-настоящему вознаградил Менделеева за идею представить свои догадки в виде таблицы. Калий прекрасно вписался в первый ряд мягких металлов, а твердый титан следовал в той же строке, что и стабильные углерод с кремнием. Но справа от алюминия зиял пробел.
Литий (7) Натрий (23) Калий (39)
Бериллий (9) Магний (24) Кальций (40)
Бор (11) Алюминий (27)?
Углерод (12) Кремний (28) Титан (48)
Азот (14) Фосфор (31)
Кислород (16) Сера (32)
Фтор (19) Хлор (35)
Менделеев столкнулся с недостающим звеном, в точности как Уоллес и Дарвин. Что было делать? Вероятно, у него возникало опасение, что в периодическую систему вкралась ошибка, однако он решил, что ошибочны были научные представления того времени. Его таблица наглядно демонстрировала необходимость существования еще одного элемента, и это подтвердилось. В 1879 году, менее чем через десять лет после того, как Менделеев создал свою периодическую систему, был открыт скандий (45). Ежегодная добыча этого металла во всем мире составляет лишь десять тонн, и используется он – как это и предвидел Менделеев – в сплавах с алюминием. Графическое выражение связей между элементами позволило ему предсказать то, что еще не было открыто в природе: это был беспорочный круг, в котором зримое ведет к прозрению, расширяя поле нашего зрения. Как и у жившего много столетий назад аль-Хайсама, у Менделеева есть собственный лунный кратер, а также названный в его честь элемент менделевий (258), который был открыт в 1955 году и занял свое место в его системе.
Луны, утробы, деревья, бабочки, яблоки, элементы: без наблюдений не было бы научных достижений. Топливом и трамплином для них стала наша способность вглядываться в материальный мир. Наблюдение предшествовало знанию и обуславливало его. Ибн Сина, известный в западном мире как Авиценна, великий мусульманский ученый, живший на рубеже 1-го и 2-го тысячелетий н. э., писал об «опытном знакомстве с объектами материального мира, из которого выводятся универсальные понятия». Наши ученые были эмпириками. Их движение навстречу миру не ставило целью насаждение христианства или навязывание торговли, оно было нацелено на то, чтобы чутко воспринять историю, которую поведает им мироздание. Их терпеливый, восприимчивый взгляд преобразил нашу жизнь. «Очевидная достоверность» Фрэнсиса Бэкона – громкое заявление в защиту наблюдения. Такие заявления были необходимы в эпоху, в которую он родился и с которой начался наш рассказ, поскольку зрительное восприятие никогда не подвергалось таким нападкам, как в то время. Человек по имени Мартин Лютер готов был предать созерцание суду и полагал его ущербным, если не сказать греховным. В XVI веке многие боялись смотреть, а страх, как известно, вызывает агрессию. И скоро люди будут воевать и умирать за образы.
Глава 8
Битва образов и сила взгляда в XVI и XVII веках: протестантство, барокко, Османская империя
Исследования Галилея положили начало эпохе линз и увеличения. Европейский Ренессанс заново открыл классическое прошлое. Города, подобные Исфахану, и строения, возведенные в Индии в период правления Акбара, стали знаками и символами созерцания. Колумб отправился в плавание. XVI и XVII века были настоящим паноптикумом.
Если в эти столетия и имелся общий для всей Европы сюжет, так это битва за зрительское внимание. На протяжении веков Католическая церковь оставалась главным поставщиком визуальных образов (сравниться с ней сумеет только Голливуд – в отдаленном будущем). В христианских странах, при общем низком уровне грамотности, алтари, фрески, сцены Страстей, витражи, мистерии, символическая наглядность соборов представляли церковное вероучение в живых и доходчивых образах. Стены капеллы Скровеньи в Падуе сплошь покрыты рядами фресок со сценами из жизни Христа, каждый ряд напоминает отснятую, разбитую на кинокадры 35-миллиметровую кинопленку или панели комикса. В кульминационный момент католической мессы священник поднимает перед верующими освященный хлеб и, повторяя слова Иисуса, произносит: «Сие есть Тело Мое». Этому телу суждено было стать полем боя.
К началу XVI века мастерство в изображении натуры достигло больших высот. Посмотрите на образ распятого Христа, созданный немецким художником Маттиасом Грюневальдом, автором находящегося во Франции Изенгеймского алтаря.
Изможденное тело все в язвах и струпьях после бичевания. Из желтеющей плоти торчат шипы. Кажется, оно вот-вот переломится посередине. Мука, явленная через телесность. Этот образ терзает душу, вызывает желание ласковым прикосновением утишить боль страдальца. «Давид» Микеланджело был создан всего несколькими годами ранее. Два великих художника устремили взгляд на мужское тело, один с восхищением, другой с глубочайшим состраданием.
Маттиас Грюневальд. Изенгеймский алтарь. 1512–1516 / Unterlinden Museum, Alsace, France
Помогают ли подобные изображения приблизиться к богу или же, наоборот, отдаляют от него? Историк искусства и художник Джорджо Вазари приводит жалобы священников, утверждавших, будто бы прихожанки согрешали от одного взгляда на «сладострастное правдоподобие живого тела» святых. Может быть, художники делали свое дело слишком хорошо? Может быть, христианская вера слишком преуспела в наглядности? В 1511-м, всего за два или три года до того, как Грюневальд создал этот образ, в Рим прибыл круглолицый монах. Визуальное буйство Ватикана и ловкость, с которой благочестие обращалось там в звонкую монету, повергли его в ужас. Легенда гласит, что 31 октября 1517 года он вывесил на дверях церкви в Виттенберге девяносто пять тезисов с критикой католической догмы и практики. Так или иначе, начало Реформации было положено. И сделал это Мартин Лютер.
Идея Лютера о разграничении зрительной и духовной сфер была не нова. Культ видимости всегда подвергался нападкам. Еще Моисей обрушивал свой гнев на идолопоклонство. Блаженный Августин на заре христианской истории с большим недоверием относился ко всему внешнему, осуждая услаждающие взор изыски. Спустя два столетия пророк Мухаммед заявил, что поклонение образам совращает верующих с пути истинного. Как мы уже видели на примере мечети в Исфахане, исламские архитекторы и мозаичисты превосходно умели создавать созерцательное настроение орнаментальными средствами, используя световые эффекты и организацию пространства, однако предание об одной из жен пророка наводит на мысль о подозрительном отношении к образности в самом сердце ислама. Как-то пророк вернулся домой и увидел, что его жена по имени Аиша повесила на дверь занавеску. Ткань была расшита животными и растениями, и Мухаммед рассердился – главным образом потому, что занавеска привлекала к себе слишком много внимания. Он снял ее, и Аиша сшила наволочку на подушку, не вызвав этим неудовольствия мужа. Компромисс был найден, но так случалось далеко не всегда.
Косё. Странствующий монах Куя / Rokuharamitsuji Temple, Kyoto, Japan
В Японии в XII и XIII веках тоже существовало подобное размежевание между аристократией, считавшей, что для отправления ритуалов необходимы храмы и образы, и сторонниками изначальной чистоты учения, ратовавшими за отказ от всего внешнего. В этом созданном в XIII веке скульптурном изображении странствующего монаха Куя, который жил в Х столетии, можно усмотреть двойной отказ от всего видимого. Скульптор Косё изобразил монаха поющим молитву с закрытыми глазами, чтобы видимость не отвлекала его внимания. Слова, их смысл и звучание, пробиваются сквозь визуальные помехи.
Мартин Лютер двигался в том же антивизуальном русле, что и Моисей, пророк Мухаммед и Куя. Однако против позирования он не возражал, о чем свидетельствует ряд портретов, выполненных Лукасом Кранахом Старшим. На них Лютер облачен в темные одежды, и все зрительское внимание притягивают его лицо и руки. За столетие до Галилея Церковь ополчилась на Лютера. 10 декабря 1520 года он сжег папскую буллу Exsurge Domine, предававшую его анафеме. И пожар разгорелся. Это была эпоха печатного пресса Гутенберга и распространения грамотности. Подсчитано, что в обороте находилось десять миллионов богословских текстов, возвещавших Слово Божие. В начале было слово! В 1536 году во Франции и Женеве знамя протестантства подхватил Жан Кальвин, который продолжил реформу Церкви. Кальвин писал, что поклонение образам равнозначно идолослужению и что верить – не значит видеть. Его убеждения берут свое начало в спорах, сопровождавших становление христианского вероучения. Сторонники почитания церковных образов заявляли, что это лишь символические изображения Бога, Иисуса и святых; противники же утверждали, что верующие поклоняются самим образам, подобно святыням. Такое почитание, хотя и кажется благочестивым, суть соблазн и ересь.
Линия фронта была определена. Противники иконопочитания, возглавляемые Кальвином, Лютером и их сподвижниками, должны были решить, как поступить с картинами, скульптурами, раками и связанными с ними преданиями. Их ответом было – всё уничтожить. Ликвидировать монастыри, а нечестивые образы выкинуть из церквей и предать огню. В Голландии вспыхнуло иконоборческое восстание, Beelden storm (букв. штурм образов). На этом раскрашенном рельефе в соборе Святого Мартина в Утрехте девять голов, включая головы сидящей на престоле Богоматери с младенцем Иисусом на коленях, в 1570-х годах были безжалостно отбиты.
Алтарный образ. Собор Святого Мартина, Утрехт © Mark Cousins
Собор превратили в протестантский храм, а изувеченный рельеф заложили кирпичом. (В 1919 году он был обнаружен во время реставрации собора, и тут возникла новая трудность: что делать с католическим образом в протестантской церкви? Можно было бы его перенести, но в конце концов его все же решили оставить на месте и задергивать занавеской на время богослужений, а в другое время открывать для обозрения.)
В эпохи, когда конфессии сменяли друг друга подобно волнам, визуальность перемежалась с антивизуальностью. Побеждала одна сторона – и уничтожала религиозные изображения; другая приходила ей на смену – и воссоздавала утраченное или направляла свой праведный гнев на чуждый ей образный ряд. Эта фреска XIV века из монастыря Влатадон в Салониках тоже пострадала – подверглась избиению, что придало ей некоторое сходство с Грюневальдовым Христом, – но на сей раз не от рук протестантов, а от захватчиков-мусульман.
Во время религиозных погромов, происходивших по всей Европе и Ближнему Востоку, главными мишенями становились лица и глаза. Словно взгляд был средоточием зла. Взор почитаемого верующими образа представлялся губительным тем, кто эту веру не разделял.
Фреска из монастыря Влатадон, Салоники, фото 1 и 2 © Mark Cousins
Нагрянув в XV веке в Салоники, мусульмане часть церквей превратили в мечети, другие оставили в запустении и возвели новые культовые постройки. Когда их господству, а именно Османской империи, пришел конец, мусульманские стенные росписи, уступавшие христианским в фигуративности, но отнюдь не в декоративности, были в свою очередь уничтожены или скрыты под слоем штукатурки. Все возвращается на круги своя. В последние годы часть штукатурки удалили, чтобы мы вновь могли любоваться старинными произведениями, долгое время скрытыми от глаз.
Иконоборчество оставалось грозной силой и в последующие века – якобинцы во время французской революции пытались придать общественной жизни новые зримые формы, а «Исламское государство»[10] частично разрушило Пальмиру, – но в ту эпоху, о которой идет речь в этой главе, поднялась встречная волна, и католическая империя нанесла ответный удар. В сражении за тело Христово наступил перелом.
Барокко
Контрреформация была концептуальной программой, реакцией на Реформацию, военным противостоянием и научной доктриной, но ее провозвестниками стали творцы образов. Это визуальное перевооружение, этот контрудар, можно сравнить с раскатистым боевым кличем и шквальным огнем. Имя ему барокко. Одной из ключевых фигур этой ревизуализации стал баскский дворянин Игнатий Лойола. Он родился в 1491 году, рано потерял мать и воспитывался женой кузнеца. Юношей он пленился блеском и суетой придворной жизни, но затем серия потрясений изменила его мировоззрение. Он был ранен, предался аскезе, жил в пещере, на собственном опыте познал силу мистических видений и озарений.
…Ему многократно доводилось среди бела дня видеть в воздухе, рядом с собою, нечто… это «нечто» было очень, чрезвычайно красиво… вроде бы казалось, что оно было в облике змеи, со множеством каких-то [блесток], сверкавших, словно глаза… Видя это, он сильно радовался и утешался[11].
«Мы знаем, что на… недоверие [к воображению], – пишет Ролан Барт, – Игнатий отвечает радикальным империализмом образа». И каким! Если протестантам велели прикрыть глаза, то основатель ордена иезуитов и Контрреформация призывали: Услаждайте взор. Зрение было реабилитировано, его громогласно приветствовали. Посмотрите на плафон Андреа Поццо, завершенный в 1694 году. Наверху и внизу мы видим настоящие окна, но Поццо создает их живописное продолжение, иллюзорно увеличивая их высоту. Мрамор превращается в облака. Наш взгляд взмывает ввысь вслед за сонмом невесомых фигур.
Андреа Поццо. Апофеоз святого Игнатия. 1694 / Sant’Ignazio, Rome
Если в церквях протестантских реформаторов были голые стены и простые деревянные кресты, то католическое барочное искусство возводило лестницу от земли до самых небес, уводя нас по ней все выше и выше. Оно проделывало иллюзионистические отверстия в стенах и куполах, создавая зрительное пространство, где церковь и ее святые предстоятели ходатайствуют за нас перед Богом. Оно не скупилось на изображения золота и развевающихся шелков. Оно хотело повергнуть верующих на колени. Это была визуальная истерия или мелодрама. Каков же сюжет этого плафона? «Апофеоз святого Игнатия». Барочная картина о герое барокко.
Джан Лоренцо Бернини. Экстаз святой Терезы. 1647–1652 / Santa Maria della Vittoria, Rome, Italy © De Agostini Picture Library / G. Nimatallah / Bridgeman Images
Но если бы барочный взгляд был лишь витиеватым призывом воспарить в райские выси, барокко не вышло бы за рамки обыкновенной идеологии, если не сказать китча. Однако в своем наивысшем проявлении барочное искусство придает нашему взгляду новое направление, наполняя его новым содержанием. Давайте посмотрим на два ключевых образа эпохи: «Экстаз святой Терезы Авильской» Бернини (1647–1652) и «Положение во гроб» Караваджо (1602–1604).
На первый взгляд кажется, что они из разных миров. Великолепные, аристократичные, изваянные из мрамора фигуры Бернини в роскошных драпировках на фоне золотых лучей – и простецы Караваджо, босоногие крестьяне в убогих одеждах, в каком-то непонятном месте при свете луны, а не в потоках божественного сияния. Если бы у этих образов было музыкальное сопровождение, то для Бернини подошел бы хор «Аллилуйя», а для Караваджо – шарканье ног.
Микеланджело Меризи да Караваджо. Положение во гроб. 1602–1604 / Pinacoteca Vaticana, Vatican City
Но давайте зеркально повернем картину Караваджо, и мы увидим единую визуальную стратегию.
В обоих случаях зрители находятся внизу, у ног персонажей. И тут и там образ устремлен вверх, к источнику света, божественному у Бернини и очеловеченному у Караваджо, lumen и lux. Два праведника – святая Тереза (которая, как и Игнатий, была испанкой и удостоилась во время болезни экстатических видений) и Иисус: тяжесть собственного тела неумолимо тянет их вниз. Рука безвольно свисает, рот приоткрыт в смерти или в экстазе; мы видим их голые ступни. Погребальная пелена Иисуса касается земли, как одежды Терезы, вторя движению руки, протянутой в наш мир, – тебе стоит лишь протянуть свою, и руки встретятся. Говоря современным языком, эти изображения можно рассматривать в 3D-очках. Их цель – отождествление. Святая Тереза верила, что духовные откровения подобны трансу и сопряжены с мучительным наслаждением, экстатическим взрывом чувств, даже обмороком. Караваджо избирает иной путь: он изображает Никодима, богатого человека, который принес миро и алоэ для умащения мертвого тела, его лицо бесстрастно, когда он опускает тело Христа в гробницу (хотя, по другой версии, его кладут не в гроб, а на каменную плиту). Разница между этими двумя произведениями показывает, что барочный взгляд не только заставляет быстрее биться сердце и нагнетает эмоции. Он позволяет созерцателю ощутить себя непосредственным свидетелем, соучастником событий священной истории. Он разрушает преграды, объединяет миры. В этом и есть суть транссубстанциации, пресуществления. Такие шедевры религиозного искусства были тяжелой артиллерией в войне образов. Это летящие в протестантство разрывные снаряды. Их посыл предельно ясен: Попробуйте предложить что-нибудь более убедительное и берущее за душу. Ваши жалкие попытки воодушевить воинов веры голыми церковными стенами и пресным чтением Библии не могут соперничать с нашей красочной наглядностью, с созиданием зримого мира.
В искусстве барокко прием открытого занавеса часто наполняет сцену особым значением. Завеса отведена, и мы, зрители, получаем шанс и привилегию увидеть то, что за ней. Даже в некатолической Европе той эпохи этот прием широко использовался. Давайте представим себе, что мы перенеслись за полторы тысячи километров к северу от Рима, в котором висит «Положение во гроб» Караваджо и разворачивается основной сюжет этой главы, – туда, где проходит побочная сюжетная линия: в Делфт, в Голландию, страну, переживающую золотой век мореходства, науки и искусства. Ветряные мельницы дают дешевую энергию. Протестантство кальвинистского толка находится на подъеме. Голландская Ост-Индская компания доставляет из Азии специи, получая от торговли немалые барыши. Это мир, совсем непохожий на ватиканоцентричный Рим. Глядя на картину, мы представляем себе, как левой рукой отодвигаем голубой с золотом занавес. И вот перед нами комната, где, словно на театральных подмостках, творится искусство.
Фигура художника, сидящего спиной к нам, возможно, вызовет в нашей памяти скрытые эмоции на картине Пикассо или в фильме Мидзогути. Здесь три пары глаз – художника, модели и лежащей на столе гипсовой маски, – но мы ни с кем не встречаемся взглядом. Будто тайком подсмотрели эту сцену, заглянув в чужой мир. Одежда здесь явно имеет не менее важное значение, чем у Бернини: на молодой женщине голубое шелковое платье, ниспадающее рельефными складками, и держится она подчеркнуто театрально. Отец художника занимался производством шелка; его сын Ян Вермеер не обходился в своих картинах без заоблачно дорогого ультрамарина, столь ценимого Леонардо. Люстра очень красива, но в ней нет свечей. Мы чувствуем тяжесть занавеса, фактуру ткани. Должно быть, окна комнаты смотрят на север. На задней стене висит карта того времени, запечатлевшая Нидерланды, страну, открывшую шлюзы, чтобы изгнать врагов.
Ян Вермеер. Аллегория живописи. 1665–1668 / Kunsthistorisches Museum, Vienna
В этой комнате целая нация, ее богатства, ее вера в искусство и чудо, все это собрано в скромном помещении, залитом прохладным, мягким светом. В последние годы обсуждается гипотеза, что Вермеер – в отличие от итальянцев, творивших в тот же период, – использовал линзы и зеркала, помогавшие ему добиться глубокой реалистичности пространства, предметов и освещения в его знаменитых сценах. Отсутствие следов переделок, а также тончайшая проработка драпировки и одежды дали основания полагать, что во время работы он вооружал свои глаза и зрители тоже надевали очки, рассматривая картины. Было это в 1666 году, спустя более полувека после того, как Галилей использовал линзы в телескопе.
Османская империя
Театральный 3D-взгляд и вооруженный линзами глаз: XVI и XVII века стали эпохой визуальной революции, и не только в христианском мире, где разгорелась война образов. За рамками этой войны и нашей главной повествовательной линии разворачиваются иные побочные сюжеты. Без малого в трех тысячах километров к юго-востоку от того места, где творил Вермеер, апогея своего могущества достигла другая империя. В 1453 году турки-османы захватили Константинополь и затем ринулись в Венгрию, Аравию и Северную Африку, в конце концов завладев востоком и югом Средиземноморья и захватив весь центр старого мира. Под их властью оказались и многие древние города. Османская империя являла собой переплетение морских и наземных путей, соединявших моря, цивилизации, религии и континенты.
21 сентября 1520 года двадцатипятилетний золотых дел мастер и поэт стал новым правителем империи и начал проводить законодательные и финансовые реформы. Он покровительствовал развитию образования (мальчики в Османской империи проходили бесплатное обучение, в Европе такие возможности открылись гораздо позже) и обновлению в сфере искусства. Результатом явился еще один золотой век градостроительства, сопоставимый с периодом правления Акбара в Индии.
Сулейман Великолепный придал своей эпохе принципиально новый облик, неслыханно возвысив уроженца Балкан и военного инженера, который был на несколько лет моложе султана. За те полвека, что Мимар Синан провел в должности главного градостроителя империи, он спроектировал и построил около 200 мечетей и медресе, десятки дворцов, 48 банных комплексов, множество мавзолеев, мостов и акведуков. В это же время в Италии огромным архитектурным и художественным влиянием обладал Микеланджело, но масштабы их деятельности несопоставимы.
Эта фотография знакомит нас с созданным Синаном обликом Стамбула – столь отличным от классического Рима.
Мечеть Рустема-паши (на переднем плане) и мечеть Сулеймание © Ira Block / National Geographic Creative / Bridgeman Images
На переднем плане мечеть Рустема-паши. За ней на одном из холмов города возвышается мечеть Сулеймание. Мечеть Рустема-паши гораздо меньше и визуально уступает более высокому и величественному сооружению. Синан использовал купольные конструкции. Даже на этой фотографии можно насчитать больше двух десятков куполов. В отличие от памятников персидской архитектуры, с которой мы познакомились в Исфахане, строения Синана венчают широкие плоские купола. Его мечети напоминают плывущие по воде скопления пузырей. Центральный купол, свободно перекрывающий большое пространство (прощай, лес колонн кордовской Мескиты!), опирается на конхи, к которым примыкают многочисленные своды, словно маленькие пузырьки лепятся к пузырям побольше. Это дает отрадное ощущение равномерного распределения нагрузки и, кроме того, создает небольшие залы по периметру религиозного комплекса и увеличивает центральное подкупольное пространство. Как мы помним, взгляд в индуистском храме Кайласанатха то и дело наталкивается на преграды и лишь постепенно проникает во внутреннее святилище; интерьеры же мечетей Синана – это визуальное раскрытие: чем ближе вы к центру, тем больше окружающее вас пространство.
Хотя мечеть Рустема-паши и не самое грандиозное сооружение Синана, но одно из весьма достопримечательных. Расположив мечеть на втором этаже и отведя нижнее, довольно высокое сводчатое помещение под лавки, архитектор вписал свою постройку в социальную городскую среду. Поднявшись над базарной толчеей, мы оказываемся на крыльце, декор которого один из самых богатых в исламском мире. Оно украшено изразцами из Изника, не только традиционными сине-белыми, но и с вишневыми включениями, тут вы найдете и тюльпаны, и бордюры, и узоры. Участки, подобные этому, в течение долгого времени латавшиеся по частям, усиливают эффект визуального синкопирования.
Синан, разумеется, задумывал нечто более единообразное, но ему не были чужды визуальные хитросплетения, искания, интрига. Он создавал османский паноптикум, отражавший разнонаправленность взглядов и зрительное великолепие Османской империи.
Старинные изразцы из мечети Рустема-паши © Riccardo Sala / Alamy Stock Photo
Версаль
Главная и побочные сюжетные линии нашей главы сходятся во Франции XVII века, где монарх, чье правление было одним из самых долгих в истории, соединил ослепительный блеск католического барокко со стремлением Сулеймана Великолепного перестроить весь видимый мир. С Францией государь обходился так, словно это был театр. А он в нем режиссер. Мать Людовика XIV состояла в браке двадцать три года и до появления наследника престола произвела на свет четырех мертвых младенцев. Рождение Людовика было воспринято как божий дар, и это укрепило его собственную веру в божественное право королей. Осознание своей причастности к божественному величию побудило Людовика переделать скромный охотничий замок во дворец, который мог соперничать с Ватиканом. Если у Сулеймана был Синан, то главным архитектором Людовика стал Жюль Ардуэн-Мансар. Вот Зеркальная галерея, которую Ардуэн-Мансар построил для короля.
Зеркальная галерея Версаля, 1678 © Peter Willi / Bridgeman Images
Она столь же восхитительна, как «Апофеоз святого Игнатия». Какие же зрительные перспективы открывает эта галерея? Без сомнения, нарциссические. Прогуливающийся по ней Людовик должен был видеть свое отражение в каждом зеркале, обрамленном золотом и лепниной, освещенном люстрами и канделябрами (те, что мы видим здесь, не подлинные, но освещение в Версале было великолепным). Версаль стал машиной зрения. Как раз в это время распространение получили очки. Чтобы держать дворян в покорности, Людовик заставлял их приезжать и жить во дворце. День за днем они должны были лицезреть своего короля и прислуживать ему. Ритуалы становились все более сложными, придворная иерархия все непостижимее, превосходя все, что наблюдалось при прежних королевских дворах. Власть превратилась в спектакль. О влиятельности тех или иных персон можно было судить по жестам, костюмам и близости к королю. L’tat, c’est moi («Государство – это я»), – якобы произнес Людовик, но то же самое он провозгласил, построив Версаль, ставший его экзоскелетом. Спроектированная Ардуэн-Мансаром Зеркальная галерея и другие ослепительные залы словно бы сами по себе наделяли Людовика властью, к примеру преследовать французских протестантов, потакать своим имперским амбициям и вести войны, устанавливать иные дипломатические отношения с турками-османами. Стоит лишь взглянуть на роскошные интерьеры, и вы решите, что он был новым папой или фараоном, этот «король-солнце», этот европейский Эхнатон.
Идея Зеркальной галереи – в создании визуальной бесконечности. Зеркала, люстры, золото, отражая, умножали друг друга. Художественная ковка, колонны из цветного мрамора, лепнина, расписные плафоны, многократно повторяемые в зеркалах, кажутся визуальным перебором. Нас захлестывает это зрительное половодье, призванное скорее внушать благоговение, нежели будить мысль.
А если из Зеркальной галереи мы выйдем в версальский парк, перед нами откроется еще один образ эпохи европейского могущества и помпы. Садово-парковый зодчий Андре Ленотр обучался в Лувре и мобилизовал французскую армию на земляные работы у подступов к дворцу, откуда вывозились тонны грунта и камней, чтобы открыть перспективы и создать идеальный уголок «улучшенной» природы. Научная революция обнаружила в природе математическую стройность; и если вы обладаете королевским кошельком и королевским глазом, то можете видоизменить ландшафт, чтобы выявить скрытый в нем порядок. Отсюда регулярность и геометрия великих французских парков той эпохи. Сады Версаля симметричны. Посетив их, мадам де Ментенон съязвила, что там можно «умереть от симметрии». По обеим сторонам аллеи, которая смахивает на взлетно-посадочную полосу, две зеркально повторяющие друг друга половины. Виды продуманы, словно классическая картина. Деревья и прочие растения образуют стены и арки. По ночам 20 тысяч свечей озаряли расходившиеся от дворца аллеи, как если бы они находились в области действия мощного силового поля, – возможно, так и было, имея в виду силовое поле неусыпного ока, следящего за тем, чтобы мир соответствовал научным представлениям о том, каким он должен быть.
В архитектуре Версаля тоже есть выверенность пропорций и симметрия, но сады представляли собой принципиальное новшество: на просторах земли как по волшебству возникла цитадель для устрашения древних чудовищ. Регулярные сады – антитеза природному хаосу. Они призваны успокаивать, а не ошеломлять, вселять в тех избранных, которые имели возможность гулять по версальским аллеям, уверенность, что их мир неизменен и безопасен, а их образ мыслей самый возвышенный и просвещенный за всю историю. Уверенность, что древнее чудовище приручено. Как мы увидим в следующих главах, ураган истории сметет эту уверенность. Грядут – или возвращаются – иные зрительные удовольствия. Французская революция встряхнет сложившуюся в XVII столетии картинку калейдоскопа.
Османские пузыри Синана и избыточность Версаля говорят нам о том, что в войне образов не бывает окончательной победы. Протестантский визуальный минимализм не мог пожаловаться на нехватку новообращенных, но едва визуальность обрела поддержку власти, как все услышали ее победный гимн. Она верно служила неравенству, возвышала избранных, взывала к благочестию. Ошеломительные образы XVI и XVII веков не давали людям подняться с колен. А что делать, стоя в этой позе? Остается смеяться или плакать. В эти столетия родилась новая зрелищная форма комедии и был воздвигнут один из величайших памятников скорби.
Глава 9
Подоплека: смех и слезы
Как будет явствовать из дальнейшего, смех и смерть могли бы войти в нашу историю в любой момент. Но мы поместим их здесь, поскольку рождение комедии дель арте, основание «Комеди Франсез» и строительство Тадж-Махала – удобный повод повести речь о том и о другом.
После главы, наполненной тщеславием XVI и XVII веков, так тянет поговорить о чем-нибудь приземленном, например о веселье и слезах, которые быстро сбивают спесь. То и другое сокрушает наше «я», наше эго. То и другое имеет свои социальные коды и потому нередко эксплуатировалось церемониальными образными системами Ватикана, Версаля и Османской империи. Но едкая терпкость комического представления и вид неподдельного горя – это лимонный сок, брызнувший на сахарную вату барокко, на мир завитушек и прочей красивости.
Вначале о смехе. Комедия существовала уже в Древней Греции; комические вставки встречаются во многих старинных текстах; парад человеческой глупости, смешная путаница с переодеваниями, Фальстафово сквернословие фонтанируют в пьесах Шекспира. Традиционная примета комедийного жанра – счастливый конец, что дает возможность на время забыть о действительности и перевести дух. С древних времен не чужда комизму и живопись.
В XVI веке в Италии Бартоломе Пассаротти обратился к гротеску как одному из приемов комического. Вот его «Веселая компания» 1577 года.
Не очень смешно, если честно, но собачья морда, похожая на физиономию орущего спьяну весельчака, который корчит из себя Бахуса, довольно забавна, к тому же в картине присутствует здоровый скептицизм по поводу внешней благопристойности. Можно было бы подумать, что перед нами чистой воды гротеск, но еда и вино на столе словно говорят: пусть это и не самая изысканная вечеринка, зато ее участники отлично проведут время. (А утром схватятся за голову, увидев это в Фейсбуке.) Когда в 335 году до н. э. Аристотель написал, что комедия показывает достойных осмеяния людей в дурацких ситуациях (перевод вольный), он мог бы держать перед мысленным взором веселую компанию Пассаротти. Такие люди несомненно наслышаны о величии Рима и могуществе Ватикана, но, поскольку для них это некие заоблачные выси, им остается только смеяться.
Бартоломео Пассаротти. Веселая компания. Ок. 1577 © Private Collection / Mondadori Portfolio / Electa / Antonio Guerra / Bridgeman Images
В эпоху, о которой идет речь, с увеселениями больше ассоциировался театр, нежели живопись, и вполне естественно, что с рождением комедии дель арте и основанием «Комеди Франсез» комические спектакли стали очень популярны. Они тоже взирали на мир снизу вверх, словно с колен. Первое письменное свидетельство о представлении комедии масок в Риме относится к 1551 году. Вскоре сформировался и канон сценических приемов: обморок, который в последующие века, утратив грациозность, превратится в плюханье на задницу; округлившиеся глаза – когда, бросив на кого-то беглый взгляд, актер в следующий миг, словно пронзенный молнией, начинает пожирать своего визави глазами (несколько столетий спустя этим приемом в кино будет мастерски пользоваться Кэри Грант); комическая погоня; сладострастное поглаживание коленки; драка или пендали, которые останутся важной составляющей комедии вплоть до Лорела и Харди, да и после них тоже. Анархия, эсхатология – все смешалось, возможно, такова была реакция на пуританство и протестантскую серьезность.
Куклы из кукольного театра императрицы Марии, Неаполь © De Agostini Picture Library / L. Romano / Bridgeman Images
Определились и персонажи. Венецианец Панталоне – жадный, хромой, бородатый купец, воплощение венецианской меркантильности. Псевдоученый доктор права с толстым пузом. Неаполитанец Пульчинелла в черно-белой маске с крючковатым носом-клювом под стать имени, которое означает «цыпленочек». Этот задира, известный в Великобритании как Панч, может и поколотить своей деревянной ложкой, которая иногда превращается в палку – прообраз клоунских колотушек (давших название жанру эксцентрической комедии «слэпстик»). Его облик, характер и драчливость прекрасно вписались в кукольные представления.
Арлекин знаменит костюмом с ромбовидными заплатами, а слугу-дзанни легко узнать по длинному носу. Все образы наполнены социальным содержанием. Комедия дель арте отражала современное ей общественное устройство: наверху иерархической лестницы – хозяева, всегда в масках, у подножия – слуги, которые тоже носят маски. Посередине – не скрывающие лиц влюбленные. Эта традиция доныне сохраняется в пантомиме. Представления давались на временных подмостках под открытым небом, с характерным реквизитом, но в минимальных декорациях или вовсе без них. Элитарная публика не чуждалась подобных развлечений, хотя зачастую сама оказывалась мишенью для насмешек. Влияние комедии дель арте было очень продолжительным. Во Франции Мольер в своих обличительных пьесах использовал маски и принципы утрированной актерской игры. А в Великобритании около 1662 года появился такой персонаж, как мистер Панч. Английский философ Томас Гоббс назвал чувство комического «внезапной славой»: и действительно, в насквозь иерархических, зажатых в тиски условностей обществах, где от гнета каждодневных забот особенно страдали представители низших классов, так понятен славный призыв перестать сдерживать эмоции и выплеснуть все, что накипело.
Итальянские и французские комедийные актеры. 1670 / Comdie Franaise, Paris, France © Archives Charmet / Bridgeman Images
Этот призыв был услышан и в Версале, и в Ватикане. На фрагменте картины из театра «Комеди Франсез» в Париже мы видим французских и итальянских актеров, выступающих вместе. Справа озадаченно смотрит Арлекин. Персонаж в черном костюме с белым кружевным воротником словно сошел со страниц комедии Мольера. Вокруг них еще пять актеров в театральных позах: вальяжные, растерянные, сконфуженные или излучающие глупое самодовольство.
Как и в Италии, высшее общество во Франции смиренно сносило такое сценическое насмешничество. Королевским указом «Комеди Франсез» стал государственным театром Франции. Игрались там не только комедии (комедиант, comdien, по-французски значит просто актер), но основу репертуара составляли искрометные, порой весьма рискованные пьесы Мольера. Искусство Мольера прежде всего вербальное, однако мыслил он очень образно. Вот сцена из современной постановки «Тартюфа», написанного в 1664 году.
Роберт Галлиновски и Йорг Гудцун в сцене из мольеровского «Тартюфа» / Deutsches Theater, Kammerspiele, Berlin-Mitte © Markwaters / Dreamstime.com
Справа главный герой – ханжа, строящий из себя святошу. Костюмы подчеркивают влияние комедии дель арте. Тартюф одет в белое и черное, как Пульчинелла. У него длинный нос, напоминающий нос дзанни, а весь облик являет собой образец нелепости и самодовольства: серебристые в полоску шорты, серебряные туфли с бантами, рубашка с просвечивающими рукавами, огромные кружевные манжеты и завитые тугими локонами волосы.
Насмешки над пороками высшего французского общества пришлись по вкусу далеко не всем. Несмотря на то что Людовику XIV спектакль понравился, архиепископ Парижский пригрозил отлучить от церкви всякого, кто будет смотреть «Тартюфа». Ответ Мольера католической цензуре дает представление о том, какая роль в те времена отводилась комедии.
Комическое есть внешняя, видимая форма, в которую милостью природы облечено все безрассудное, дабы мы могли видеть и сторониться его… Ложь, обман, притворство, лицемерие, всякие наружные проявления, не соответствующие истинной сути, всякая противоречивость поступков, имеющих общую причину, вот что являет собой содержание комического.
Таким образом, по Мольеру, истина и реальность обращены вглубь. Лживость и нелепость выталкиваются наружу, где принимают смехотворное обличье. Вероятно, даже Мартин Лютер не взялся бы оспаривать это утверждение, однако слова Мольера о двуличии Тартюфа помогают нам лучше понять сущность комедии XVI и XVII веков. Лжец прячет фальшь, комедия ее выявляет. Примером еще большей наглядности могут служить пьесы Пьера де Мариво. Герои его комедии «Сюрприз любви» (1722) дают зарок не влюбляться и, конечно, тут же его нарушают. В этой современной постановке пестрый костюм героя позаимствован у Арлекина. Цветовая гамма, детали, задник – все создает легкую атмосферу искрометного веселья. Эта внешняя легкость – визуальный эквивалент остроумия.
«Сюрприз любви», Пьер де Мариво, 1722
В Италии, во Франции, как и во всем мире, сегодня разыгрываются бурлескные комедии и комические номера, по-прежнему раззадоривая публику. Эта форма до сих пор пользуется огромной популярностью. В числе самых знаменитых кинообразов ХХ столетия есть и комедийные. Кадр из фильма Жака Тати «Время развлечений» вызывает в памяти версальский лабиринт XVII века, хотя это сатирическое изображение жизни современных белых воротничков.
«Время развлечений», Жак Тати / Specta Films, Jolly Film, France-Italy, 1967
В центре заплутавший в лабиринте господин Юло. Он силится идти в ногу с прогрессом и социальными преобразованиями, пытаясь уверить себя, что ему это удается, однако в мире телефонов и офисных ячеек он чужой. Современная жизнь совершенно дезориентирует его. Фигурально выражась, повергает его на колени. Такие грандиозные проекты XVI и XVII столетий, как перестройка Рима, Стамбула, Версаля, приводили к возникновению лабиринтов, в которых вынуждены были существовать люди. Именно такой путаницей стал Версаль, с непривычки порождавший у человека полную недееспособность. Те, кто привык мерить все человеческой меркой в природном окружении, попав в барочный Рим или Стамбул Синана, чувствовали, будто они позабыли, как смотреть. Подобно герою «Времени развлечений», им, вероятно, казалось, что кто-то поменял все замки, и ключи, которые у них остались с прежних времен, больше не годятся.
Какова же реакция господина Юло на мир, которого он не понимает? А вот такая. Юло дает ему пинка, в лучших традициях комедии дель арте. Все вокруг его раздражает: сам-то он считает себя человеком бывалым, и ему невдомек, что в новом мире он всего лишь ребенок.
«Каникулы господина Юло», Жак Тати / Discina Film, Cady Films, Specta Films, France, 1953
И это ведет нас к следующей составляющей комедийного представления – сатире. Нужна была немалая отвага, чтобы поднять на смех пап, королей, императоров в XVI и XVII веках, и открыто мало кто решался на это. Высмеивались типажи: персонажи-маски представляли корыстолюбие Венеции или воинственность Неаполя. Никаких имен не называлось.
Режиссер, снявший в ХХ веке знаменитую политическую сатиру, не оставил зрителям ни малейших сомнений в том, кого он пародирует. В этой сцене Чарли Чаплин уподобляет нацистский экспансионизм Адольфа Гитлера мечте безумца. Земля – воздушный шарик, а диктатор, лениво развалившись, подкидывает его в воздух – образ лаконично-красив, однако несет большой сатирический заряд. Гитлер смотрит на земной шар, как ребенок на игрушку. Комизм лишает его величия.
«Великий диктатор», Чарльз Чаплин / Charles Chaplin Productions, USA, 1940
Еще один комический прием, восходящий к комедии дель арте, на этот раз погоню, взял на вооружение американский аниматор Чак Джонс, придумавший в 1948 году Хитрого Койота Вайла. Койот мечтает лишь об одном: поймать и съесть Дорожного Бегуна. Словно слетевший с катушек Галилей, он выдумывает все новые и новые хитроумные приспособления, чтобы изловить Дорожного Бегуна, но, как мы видим на этом рисунке, его стремления опережают реальность: он продолжает бежать над обрывом вопреки силе гравитации, чтобы зрители и он сам успели осознать – его вновь постигла неудача. Он смотрит в глаза Дорожному Бегуну, не в силах понять, почему его опять провело это глупое создание, способное произнести лишь «бип-бип». У Койота Вайла есть хитрость и воля, но ни грана здравого смысла. Попросту говоря, он дурак.
«Стой! Смотри! Спеши!», Чак Джонс / Warner Bros., USA, 1954
Как бы выглядел мир, если бы его законы прекратили действовать? Этим вопросом задаются авторы любой эксцентрической комедии. Что же мы видим, когда эпоха рыцарей и королей закончилась, когда нет больше ни романтики, ни долга? Гитлер завороженно смотрит на воздушный шарик, Кайот Вайл смотрит на Дорожного Бегуна, а здесь Граучо Маркс смотрит на свое отражение. По крайней мере, он так думает. Комический эффект возникает из недоразумения.
«Утиный суп», Лео Маккери / Paramount Pictures, USA, 1933
Волею случая Граучо становится правителем (причем совершенно никудышным) страны под названием Фридония, этакого сюрреалистического Версаля или Ватикана. Когда свирепствует национализм и разгорается война, законность и власть превращаются в фарс. В этом эпизоде правитель Граучо и шпион Пинки (которого играет Харпо, брат Граучо) встречаются у проема, где раньше было зеркало. Каждый старается обдурить другого, повторяя его действия, которые постепенно усложняются вплоть до разных выкрутасов и танцевальных движений. Правитель и его противник таращатся друг на друга, словно малые дети или мальчишки, играющие в гляделки. Его величество – ребенок. Если Юло был просто растерянным маленьким человеком, у которого нет ни малейшего влияния на ход истории, то здесь мы видим важного господина, облеченного властью, но оказывается, что и он тоже не имеет понятия об устройстве вверенного ему мира. Как отреагировали бы на эту сцену придворные в Зеркальной галерее Версаля – грохнулись бы в обморок или расхохотались?
Напоследок упомянем еще один прием комедийного представления, подхваченный кинематографом ХХ столетия, – переодевание, маскарад. В XVII веке, когда в моду вошли парики и пудра, гиперболизированные костюмы и грим стали обычным элементом комедии, помогая, как объяснил Мольер, выявлять абсурдность происходящего. Переодевания, в том числе в одежду представителей другого пола, – это визуальный гэг, потому что вы видите – и часто актер именно этого и добивается – сразу и внешнюю, и подноготную сторону. Например, в этом кадре из американского фильма «В джазе только девушки» мы видим актера Джека Леммона, скрывающегося от гангстеров в женском платье. В отличие от чаплиновского Гитлера, герой здесь вовсе не объект беспощадной сатиры. Персонаж слева влюбился в его женский образ, и поначалу Леммону от этого вовсе не весело, зато весело публике. Комизм заключается в том, что, будучи мужчиной, Леммон насквозь видит и наперед знает все уловки ухажера.
«В джазе только девушки», Билли Уайлдер / Mirisch Company, United Artists, USA, 1959
Но со временем персонаж Леммона словно забывает о собственной половой принадлежности. Само по себе это даже мило, ведь многие мужчины стали бы яростно отстаивать свою мужественность, до смерти боясь показаться женоподобными. Маскулинность, ускользающая из вашей памяти, – довольно смелая идея. Но, исчезнув, она не может оставить после себя пустоту. Личность Леммона трансформируется, по крайней мере, на уровне его самоощущения, и он начинает смотреть на жизнь с новой, женской точки зрения. Комизм ситуации не только в том, что Леммон не дает своему ухажеру запудрить себе мозги, но и в том, что он неотвратимо превращается в кого-то иного, беспомощно, словно Койот Вайл, взирающего на ход событий.
Памятники
Возможно, если копнуть глубже, тема этой главы – беспомощность. Смех и смерть суть проявления беспомощности или же ее следствия. В Европе XVI и XVII веков богатые богатели в своих дворцах, становившихся все более роскошными. Порой хозяева жизни бросали взгляд на дно общества, где обитали представители низшего класса, которые, в свою очередь, поднимали глаза вверх – завистливо, растерянно, смиренно или гневно. Их гнев стал двигателем французской революции, но до этого еще утечет много воды и прольется много слез.
Король, султан, римский папа, купец, воин и бедняк равны перед лицом смерти, всем и каждому суждено терять близких, что порой еще страшнее. Ни версальская Зеркальная галерея, ни даже мечеть Рустема-паши или Христос с Изенгеймского алтаря не могут избавить нас от этой участи, и потому культура взяла на себя роль утешительницы. Когда вас охватывает горе и вы опускаете руки, семья воссоединяется, совершаются ритуалы, звучит музыка, произносятся молитвы, возводятся памятники, о которых мы сейчас и поведем речь.
«Смотри, как бы плакать потом не пришлось», – говорят родители детям, когда те смеются без удержу. Как и о комедии, о скорби – второй теме этой главы – можно было бы написать в любом месте нашей книги, но если рождение комедии дель арте и основание «Комеди Франсез» подтолкнуло нас к разговору о комическом, то появление в XVI и XVII веках многочисленных мавзолеев побуждает нас обратиться к памяти об утрате. В самом начале этого периода, в 1501 году, в японской Окинаве был построен мавзолей Тамаудун, где упокоились тела пятнадцати представителей правящей династии. Более сотни гробниц и мавзолеев появились в XVII веке в японском городе Никко, их строительство началось в 1619 году. Однако самым знаменитым стал мавзолей, возведенный в 1653-м.
Тадж-Махал, Индия © Sergeychernov / Dreamstime.com
Тадж-Махал – одна из наиболее узнаваемых достопримечательностей в мире, и одного этого достаточно, чтобы включить ее в нашу книгу, хотя у каждой медали есть оборотная сторона. Чем чаще люди видят или фотографируют тот или иной объект, тем больше замыливается глаз. Красный фон этой фотографии позволяет увидеть знакомые очертания в новом свете, словно вы смотрите сквозь закрытые веки в яркий солнечный день. Существует мнение, что это не просто мемориал, а демонстрация «совершенства», которого достигла цивилизация Моголов. И это действительно так, однако первоначальное намерение увековечить чью-то память от этого нисколько не умаляется. Внук Акбара, того самого, который взирал на Деканское плато, увековечил память о своей жене Мумтаз-Махал, умершей во время родов в возрасте тридцати семи лет. Конструкция с центральным куполом, окруженным четырьмя куполами меньшего размера, заимствована из османской архитектуры Мимара Синана, как и высокие стройные минареты. Луковичная форма куполов, не столь уплощенная, как в строениях Синана, больше тяготеет к персидской архитектуре.
Но прежде чем мы будем рассуждать о значении Тадж-Махала, давайте рассмотрим несколько памятников из более близких времен, ведь мемориалы воздвигались во все века. Так, в берлинском Трептов-парке мы видим склоненную фигуру плачущей Родины-матери.
Родина-мать в Трептов-парке, Берлин © Daniel Novoa / Dreamstime.com
Она опускается на колени – ключевой образ этой главы, – ее взор потуплен, но если бы она посмотрела вперед, то увидела бы широкую аллею, которая визуально разбивается двумя полуабстрактными скульптурами, символизирующими склоненные, подобно женской фигуре, знамена, облицованные красным гранитом, предположительно снятым с нацистских строений.
Мемориал в Трептов-парке, Берлин © Demerzel21 / Dreamstime. com
Знамена обрамляют небо и землю, по которой аллея устремляется дальше к могилам, где погребены пять из 80 тысяч советских солдат, павших в битве за освобождение Берлина от нацистов. За братским кладбищем вверх поднимаются ступени, ведущие к монументальной скульптуре Советского солдата – на этой фотографии его можно увидеть на заднем плане, – попирающего свастику и держащего на руках ребенка. Его взгляд устремлен на плачущую мать в конце аллеи и еще дальше, к самому горизонту. Советский военный мемориал может вызывать двойственное чувство у тех, кто впоследствии пострадал от советской власти, но этот огромный, словно римский ипподром, памятник павшим столь величав и дерзновенен, что заставляет склониться гранитные знамена.
В 1982 году в Вашингтоне было завершено строительство памятника американским участникам вьетнамской войны. Если Трептов-парк – это грандиозное визуальное событие, можно сказать, визуальный эпос, то вашингтонский мемориал решен совсем иначе, хотя тоже масштабно. Две стены из отполированного черного гранита, соединенные под углом 125 градусов, расходятся от места соприкосновения, постепенно понижаясь. Они заглублены в землю так, словно Майя Лин, двадцатиоднолетний автор проекта, собиралась придать общему контуру вид абстрактного черного шрама. На стенах выбиты имена 58 307 жертв войны. Все, кто погиб и пропал без вести начиная с 1959 года, перечислены в хронологическом порядке, день за днем. Посещение этого монумента – очень личный визуальный опыт. На расстоянии нельзя разглядеть детали; разобрать имена можно, лишь подойдя вплотную, а поскольку камень отполирован, вы видите и себя вместе с именами, написанными поперек вашего собственного лица. Родственники находят имя любимого человека и стоят перед ним, часто не замечая никого вокруг; и это парадоксальным образом сближает людей.
В конце 1980-х в Сан-Паулу был открыт мемориал Латинской Америки, спроектированный бразильским архитектором Оскаром Нимейером. В центре монумента из земли торчит бетонная рука с открытой ладонью, напоминая концовку фильма ужасов, в котором обладатель руки погребен заживо без надежды на спасение. На руке изображена карта Латинской Америки; красная узкая полоса походит на сочащуюся из ладони кровь, стекающую по запястью в землю. Этот образ открытой ладони – напоминание о жертвах внутренних конфликтов, а еще, и даже в большей степени, о тех, кто пал от рук европейцев или болезней, завезенных конкистадорами.
Бар Патрика Макгёрка, Ирландия © Mark Cousins
4 декабря 1971 года в переполненном баре в Белфасте в Северной Ирландии взорвалась бомба. Были убиты пятнадцать человек, среди которых оказались жена и дочь владельца бара Патрика Макгёрка, получившего ранение. В ту же ночь по местному телевидению Макгёрк просил не преследовать виновников нападения. Паб был разрушен, но через тридцать лет после взрыва горожане воссоздали его фасад недалеко от места трагедии, нарисовав краской стены и окна на ближайшей бетонной эстакаде. На этом изображении Патрик, стоя с закатанными рукавами у дверного косяка, смотрит на улицу. Его лицо не выражает ничего особенного, ни тревоги, ни радости. Он просто стоит и просто смотрит. Время идет. Если приблизиться к стене, то можно убедиться, что она абсолютно плоская, но издали кажется, будто она образует прямой угол, создавая иллюзию, что хозяин и его заведение по-прежнему на месте.
В музее геноцида «Туольсленг» в Пномпене, столице Камбоджи, выставлены фотографии пяти тысяч человек (вместе с биографическими справками). Красные кхмеры (1975–1979) использовали здание школы в качестве тюрьмы, где содержалось 15 тысяч заключенных, большинство из них были убиты. Всего погибло по меньшей мере два миллиона камбоджийцев. Как и перед памятником жертвам вьетнамской войны, зрители стоят близко к стенам, разглядывают фотографии, проникаясь ужасом. Как и нарисованный фасад бара Макгёрка, этот мемориал сайт-специфичный (жестко привязан к месту). Экспонаты не просто говорят: «Эти люди умерли». Они говорят: «Эти люди умерли здесь».
Музей геноцида «Туольсленг» в Пномпене © Thegrimfandango / Dreamstime.com
Речь о таком явлении, как фотография, еще впереди, но тут стоит отметить, что это, возможно, самый простой способ увековечить память. Во время демонстраций протеста матери «без вести пропавших» в период правления в Чили военной хунты Пиночета (1973–1990) часто держали фотографии своих детей обеими руками на уровне живота. Женщины словно обрамляли собой снимки, которые несли.
Как и комедия, которая переворачивает мир с ног на голову и ниспровергает авторитеты, горе – великий уравнитель. Если посмотреть на перевернутый Тадж-Махал, можно яснее понять значение этого и всех вообще мемориалов.
Имена его архитекторов забыты, но мы знаем, что задумывался он как земное воплощение райских чертогов, обители ушедших в иной мир. Образ удваивается, отражаясь в воде бассейна: у мраморного здания появляется акватический двойник, у материального сооружения – двойник метафизический. По существу, Тадж-Махал – воплощение горя отдельного человека («О, может ли быть прав любовный взгляд, когда от скорби застлан он слезами»[12], – писал Шекспир), хотя горе это и выражено посредством имперского и государственного образного языка. Моголы уже считали себя индийцами, белый – цвет браминов, отсюда белый мрамор. В индуизме белый еще и цвет печали.
Как же Тадж-Махал олицетворяет горе? Или более уместно спросить, какую функцию выполняет это искусное сооружение (с которым связаны рассказы о тысяче слонов, занятых на работах, и гигантских строительных лесах)? Тадж-Махал и Трептов-парк, Вьетнамская стена в Вашингтоне и Рука в Сан-Паулу, стенная роспись в Белфасте и тысячи других мемориалов по всему миру дают возможность отдельным людям, семьям или государствам указать на них и произнести: Посмотрите, они умерли не зря, а даже если и зря, то не забыты. Они жили, и памятники служат тому доказательством. Этот указующий жест, этот взгляд может быть исполнен скорби, или гнева, или всего сразу. В случае Тадж-Махала важно отметить, что это памятник необыкновенной личности. Памятники – это апофеоз зрения. Разумеется, великим потерям посвящены многие великие литературные и музыкальные произведения, но зрение играет ключевую роль в увековечивании памяти, поскольку мемориалы делают видимым то, чего уже нельзя увидеть. Можно сказать, что мемориал – это заместитель личности. Это сооружение, возведенное взамен некогда живого или живых. Тадж-Махал вместо Мумтаз-Махал. Это напоминает нам о том, что созерцание пробуждает мысль.
Тадж-Махал на рассвете, Индия © Steve Allen / Dreamstime.com
Родственникам погибших в баре Макгёрка было важно иметь некое вещественное свидетельство их утраты, не только потому, что так устроен человек, но еще и потому, что британские власти не пожелали раскрыть подлинные имена бомбистов и признать их связь с государством. Нередко мемориалы выполняют именно такую функцию. Ведь воспоминания постепенно меркнут, и отчасти это естественный процесс, но иногда кое-кто целенаправленно стремится предать кое-что забвению. Если люди погибли насильственной смертью или если их гибели можно было избежать, мемориалы не только увековечивают их память, но и обличают несправедливость, сигнализируют о необходимости перемен. В тот же год, когда окровавленная рука Нимейера напомнила о всех погибших в Латинской Америке, сотни, а может, и тысячи протестующих на пекинской площади Тяньаньмэнь были расстреляны по приказу собственного правительства. Площадь «небесного покоя» обагрилась отнюдь не небесной кровью, но памятника погибшим нет и поныне. Отсутствие мемориала, который можно увидеть, на который можно указать, который хотя бы отчасти заполнил пустоту, оставшуюся после загубленных жизней, печалит многих китайцев. Возможность видеть дает некоторое утешение. И китайская культура вовсе не исключает такой потребности. В самом центре площади Тяньаньмэнь лежит доступное для обозрения забальзамированное тело человека, умершего в 1976 году. Каждый день тысячи желающих увидеть его выстраиваются в очередь. Имя этого человека Мао Цзэдун.
К середине XVII века в Италии сложился канон комических представлений, сделавшихся невероятно популярными; стиль комедии дель арте на многие столетия определил пути развития комедийного жанра. В то же самое время, в 1653 году, было завершено строительство мавзолея, который стал, наверное, самым узнаваемым символом печали. То и другое было частью элитарного дискурса эпохи и может поведать о могуществе власть имущих и общественном устройстве, но их значение этим не исчерпывается. И то и другое рисует образ коленопреклоненного человека. И то и другое обнажает сокрытое – людскую беспомощность перед лицом горя или неравенства. В следующей главе мы поговорим о том, к чему ведет вопиющее неравенство. Стоит лишь перевернуть страницу XVII столетия – и вы обнаружите многое из того, что нельзя увидеть глазами, к примеру свободу, равенство и братство.
Глава 10
Как смотрели в XVIII веке: гранд-туры, Просвещение, индустриализация, революция, полеты
В XVIII столетии люди читали и слушали. Появились первые газеты на английском языке – ежедневная лондонская «Дейли курант» (The Daily Courant) и еженедельная американская «Бостон ньюс-леттер» (The Boston News-Letter). Повсеместно стали возникать национальные библиотеки. Музыканты получили в свое распоряжение новый инструмент – фортепиано. Слух знати услаждали «Бранденбургские концерты» Баха (1685–1750) и «Музыка на воде» Генделя (1685–1759), потом пришло время Моцарта (1756–1791), а в конце века взошла звезда Бетховена (1770–1827). Опера была тогда элитарной разновидностью музыки «на случай». Заключались мирные договоры, но и войн тоже хватало: Швеция сражалась с Россией; Османская империя, все еще могущественная, – с Персией (и с той же Россией); Англия – с Францией и своими американскими колониями; Франция – с половиной Европы; Война за австрийское наследство затронула многие страны, даже далекую Индию. Империя Великих Моголов трещала по швам. Иезуиты не растерялись и включили Индию в свои миссионерские маршруты. Эти своего не упустят.
Может сложиться впечатление, будто XVIII век лучше вписался бы в книгу не о зрении, а о других чувствах, так стоит ли на этом веке останавливаться, не перепрыгнуть ли сразу в богатое визуальными эффектами XIX столетие, когда родились фотография и кинематограф, солнечная живопись импрессионистов? Не будем спешить. Возникший ранее специфический «городской» способ видения продолжал развиваться. Подобно европейцам предшествующих столетий, немецкие, шотландские, ирландские эмигранты в Америке видели все по-новому. Появление новых городов, таких как Цинциннати и Вашингтон, заложило основы нового видения; да и старую Венецию живописец Каналетто сумел увидеть сквозь призму гиперреализма. Незабываемые образы английского художника-сатирика Уильяма Хогарта внесли свой вклад в область комического изображения. Ну и конечно, наука не стояла на месте.
Наряду с преемственностью имело место новаторство: новые общественные течения, люди, идеи вызывали к жизни и новую визуализацию. В этой главе речь пойдет о девяти ключевых факторах столетия: путешествия и гранд-туры; Дэвид Юм; Дени Дидро и Просвещение; российская императрица Екатерина Великая; промышленная революция; французская революция; визуальная пропаганда; рабство; и первые полеты. Невозможно говорить о том, что в те годы острота зрительного восприятия притупилась, и правильнее всего сравнить XVIII век с картинной галереей. Но судьба этой картинной галереи была предрешена.
Гранд-туры
Если бы в то время вы были индейцем-алгонкином или австралийским аборигеном, жизнь неузнаваемо менялась бы у вас на глазах. Прежде алгонкины промышляли охотой на просторах Квебека, передвигаясь на каноэ и тобоганах, но начиная с 1603 года они вошли в контакт с французами, и в результате многие занялись мехоторговлей и обратились в христианство, хотя и специфическое, с элементами традиционных верований. Полукочевые племена австралийских бушменов все дни проводили под открытым небом, и ничто не заслоняло им горизонт, но они жили в изоляции от других народов и земель. Потом явились британцы, и жизни под стеклянным колпаком пришел конец.
С наступлением XVIII века воображение состоятельных жителей Северной Европы из аристократических и буржуазных слоев стало принимать все более центробежный характер. Молодые люди (преимущественно юноши) из Великобритании, Скандинавии и Германии отправлялись в Венецию, Рим и Помпеи – не как крестоносцы былых времен, не для того, чтобы поклониться христианским святыням, а, скорее, как упомянутые в предисловии к книге японские туристы, желающие увидеть Европу, вернее – в случае юношей XVIII века, – посмотреть на руины римской цивилизации, наследниками которой они себя считали. В культуре аборигенов вынужденное скитание – часть долгого, изнурительного обряда инициации, в ходе которого психика молодого человека испытывается на прочность; только с честью выдержав шоковую закалку тела и духа, он может претендовать на звание взрослого мужчины. Отправлявшиеся в путешествие молодые европейцы желали не столько проверить себя, сколько отшлифовать, добавить последний штрих к портрету образованного юноши из хорошей семьи; а заодно других посмотреть и себя показать.
Джованни Панини. Картинная галерея с видами античного Рима. 1758 / Louvre, Paris, France © Bridgeman Images
Легко поддаться искушению объявить их гламурной молодежью своего времени, однако тогдашние книги, вроде «Путешествия по всему острову Великобритания» (1724) Даниэля Дефо, заново приучали читателей к мысли о том, что путешествие призвано расширять кругозор. Путь из Англии на континент и далее через Альпы в Италию позволял воочию увидеть, как меняются пейзажи, климатические и геологические условия, флора, культура, люди. Зоркий путешественник подмечал различия и тем самым многому учился. Гёте, предпринявший в 1786 году путешествие в Италию, писал, что жажда увидеть эту страну постепенно превратилась «в своего рода болезнь, излечить от которой… могло лишь непосредственное лицезренье». Непосредственное лицезренье! В этом вся оль. Итальянское Возрождение создало для континентальной Европы богатейший банк образов; благодаря живописным копиям и особенно гравюрам эти образы получили широкую известность (чаще всего в виде черно-белых репродукций). Представьте себя на месте любителя искусства, который наконец своими глазами увидел Рим. Представьте, что вы впервые идете по улицам Вечного города. Что он обступает вас со всех сторон.
Картина Джованни Панини с изображением гигантской художественной галереи помогает нам понять, что чувствовал путешественник, попав в Италию. Крошечные фигурки в респектабельных костюмах XVIII века в нижней части полотна словно чудом попали в чрево кита, превратились в пигмеев под гнетом собственного бессознательного и всего, что они видят вокруг и что еще надеются увидеть. Справа – знаменитая скульптура «Лаокоон», дальше виды Пантеона, Колизея, Римского форума. Не правда ли, это немного напоминает ваш детский альбом для наклеек? Сперва страницы в нем девственно-чистые, потом на них одна за другой появляются картинки-стикеры любимых футболистов, или спортивных автомобилей, или – с поправкой на то время – виды городов, архитектурные пейзажи, древние руины и скульптура: своего рода дистиллят внутреннего зрения привилегированного путешественника XVIII века. На его основе будут созданы многие знаменитые книги той эпохи.
И это приводит нас к одному весьма корпулентному шотландцу, который к тридцати годам уже сформулировал многие из своих оригинальных идей. Этот человек никому не пытался угодить, любил пить пиво и играть в триктрак. Кто-то скажет, что мы чересчур много места уделяем внешней стороне, тогда как для лучшего понимания людей надо было бы начинать с их представлений о себе, обществе или Боге. Дэвид Юм такой подход решительно отвергал. Он родился в 1711 году и еще в юности стал интеллектуальной звездой, эдаким Фомой неверующим, не намеренным, по его собственным словам, склоняться перед каким бы то ни было авторитетом. Но авторитет зрительных впечатлений он признавал.
Подобно Авиценне, Юм был эмпириком. Он утверждал, что врожденных представлений не существует. Никто не рождается с готовой душой или с чувством справедливости. Все наши идеи, убеждения и критерии происходят из наблюдений. Допустим, Ив Кляйн смотрит на небо или Галилей смотрит на луны Юпитера, и в результате возникает то, что Юм называет впечатлениями. Впечатлениям свойственна, по его выражению, живость, они всегда сиюминутны и ярки. Первичны. В те времена фотокамер не было – функцию камеры выполнял тот, кто смотрел: смотрящий.
Юм разработал теорию восприятия и объяснил, чт происходит после того, как мы что-то увидели и впечатления от увиденного попали в черный ящик нашего сознания. Там впечатления создают различные комбинации, формируя ментальные образы, или идеи. Механизм создания этих комбинаций представлял для философа особый интерес. Допустим, по соседству с вашим домом, на той же улице, есть аптека. Юм сказал бы, что всякий раз, как вы ее видите, ваша память связывает свежее впечатление с прежними, ведь вы уже не раз видели эту аптеку. К тому же она напоминает другие аптеки, которые вам случалось видеть в разное время и в разных местах; соответственно, ваше представление о том, что такое аптека, вбирает в себя категории времени, места, сходства, памяти и количества. Работа вашего воображения тоже строится на впечатлениях, преобразованных в идеи, и это позволяет вам давать качественные оценки (некоторые аптеки лучше других), а также сопоставлять ваше постоянно расширяющееся представление о том, что такое аптека, с представлениями о других заведениях (кофейнях, например, или парикмахерских, больницах, тренажерных залах). Многократное повторение зрительного опыта, со всеми его вариациями, создает в вашем сознании понимание того, чт делает аптеку аптекой, а не чем-либо другим и какую роль она играет в вашей жизни. Не в этом ли суть Сезанновой «оптики»? И разве нейробиология, о которой шла речь во второй главе (напомню: зрение только на 20 процентов состоит из информации, получаемой извне, и на 80 процентов – из отправляемой вовне), не служит косвенным подтверждением теории Юма? В сущности, он описывал, как формируется внутреннее зрение.
Энциклопедии
Учение Юма о впечатлениях не было оценено по достоинству современниками, хотя и появилось как нельзя кстати, поскольку он жил в эпоху великой французской Энциклопедии. Веком раньше китайский ученый и чиновник Сун Инсин (1587–1666) написал свою энциклопедию, «Тяньгун кайу» («Переработка в предметы творений Природы», 1637), с массой иллюстраций, поясняющих разнообразные технологические процессы. Пролистайте ее, и перед вами предстанет материальный мир, вернее, вся его механика. Этот фолиант служил передаче научного знания, сохранению производственных навыков и был бесценным визуальным подспорьем. Начиная с 1675 года немецкая художница Мария Сибилла Мериан создавала раскрашенные гравюры с изображениями цветов, лягушек, гусениц, бабочек, змей, жуков и пауков, благодаря чему многие европейцы с удивлением открыли для себя некоторые стороны природного мира. Величайшее ее достижение, по мнению историка Хью Льюис-Джонса, состоит в том, что она призывает нас «смотреть во все глаза».
Но куда большее воздействие на умы оказал французский вольнодумец, не раз наказанный за свою дерзость и непослушание: отец навсегда лишил его всякого содержания, а власти засадили смутьяна в тюрьму. Любопытно, что учителями юного Дени Дидро (1713–1784) были иезуиты. Его трактат «Письмо о слепых в назидание зрячим» (1749) касается той же проблемы разграничения чувственного восприятия и разума, которая так занимала Юма. Больше двадцати лет он был бессменным редактором Энциклопедии, включавшей тысячи изображений, в которых авторы стремились отразить все явления жизни. В определенном смысле «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» представляет собой уникальное иллюстрированное издание – гибрид записных книжек Леонардо и поисковика Гугл. Посмотрите на рисунок из главы об оптике. В верхней части показано, как узнать высоту здания, не заглядывая в масштабный чертеж. Внизу – принцип действия камеры-обскуры и получаемое с ее помощью перевернутое изображение.
Камера-обскура. Иллюстрация из Энциклопедии Дени Дидро © Private Collection / Archives Charmet / Bridgeman Images
Сапожник, портной… О ком и о чем только не рассказывал монументальный труд Дидро, растянувшийся на два десятка лет, – от игольного ушка до корабельного якоря. Он знакомил мир с принципиально новой «картинной галереей». Дидро в полной мере разделял мнение, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это был опасный момент – новая визуализация жизни расшатывала устои. Скептики, не привыкшие доверять своим глазам и считавшие чувственный, зрительный образ пустышкой, встали в один ряд с властями предержащими, которым слишком быстрое распространение знания было ни к чему, и с теми, кто хотел бы и дальше насаждать специфический вид знания и сохранять свое главенствующее положение в области образования (читай – иезуиты). Главный посыл Энциклопедии сводился к следующему: Вы не только способны, но и обязаны это понять. Она звала к свободомыслию и потому встречала сопротивление. Энциклопедия была прямой противоположностью Версалю – открывала, а не закрывала горизонты. Она изменила мир, но не принесла богатства Дидро и его соратникам. Чтобы дать за дочерью приданое, он вынужден был продать свою библиотеку.
Возьмите бесценный дар Ньютона смотреть и размышлять, присовокупите к нему «впечатления» Юма и всеведущий «Гугл Дидро», исключите метафизическую направленность философской мысли, а заодно и почтение к церкви и короне – и вы получите необходимые условия для нового европейского типа мышления, вошедшего в историю под именем Просвещения. Французское название эпохи Просвещения – Le sicle des Lumires, век светочей, – подразумевает выявление прежде невидимого, всего, что теперь озарено светом разума. Какой оптимизм, какое жизнеутверждающее «Да, мы можем!». Насколько велика роь этого «мы», читатель поймет, когда речь пойдет о Великой французской революции и другом выдающемся мыслителе.
Екатерина Великая
Библиотеку Дени Дидро купила София Августа Фредерика Анхальт-Цербстская (1729–1796), больше известная как императрица Екатерина Великая. Подобно Клеопатре, она была царицей в стране, которая не являлась ее исторической родиной. Уроженка прусского (ныне польского) Штеттина три десятилетия правила Россией. Подобно Людовику XIV, она построила для себя великолепную загородную резиденцию, гигантский дворцово-парковый ансамбль. Подобно Сулейману Великолепному, она во многом изменила облик столицы (Санкт-Петербурга). По словам Дидро, душа Цезаря сочеталась в ней с чарами Клеопатры. Для Екатерины Дидро стал чем-то вроде интеллектуального гуру, о котором она с ласковой насмешливостью писала своей корреспондентке: «Ваш Дидро – человек необыкновенный, после каждой беседы с ним у меня бока помяты и в синяках. Я была вынуждена поставить между ним и собою стол, чтобы защитить себя от его жестикуляции».
Но зачем мне понадобилось говорить о ней в этой книге? Затем, что она, как мало кто еще, мыслила визуальными образами – эффективно использовала зрительные образы и государственную символику, чтобы упрочить положение России и расширить ее границы; к тому же она страстно любила искусство и весь видимый мир. «Бессознательное» гранд-туров ей удалось вытащить наружу и превратить в «сознательное» тогдашнего российского общества.
Екатерина пришла к власти в 1762 году. Сохранилось множество ее прижизненных портретов на фоне дворцовых интерьеров, но переосмысление ее образа, предпринятое в XX веке кинорежиссером Джозефом фон Штернбергом, актрисой Марлен Дитрих и оператором Бертом Гленноном, несет в себе эстетически верный заряд. На первой иллюстрации Дитрих смотрится в зеркало, поднеся к лицу русскую икону.
Екатерина приняла православие и выучила русский язык, всеми силами стараясь стать своей в стране, с которой у нее не было кровной связи, и захватить власть, на которую у нее не было законных прав. Икона в ее руке – напоминание об иконостасе в русской церкви, отделяющем алтарь, святая святых, от остальной части храма, благодаря чему служители сами определяют, что и как видят верующие. В других христианских церквях – и в театре – эту функцию может выполнять бархатный занавес, но в православной церкви полагается смотреть, чтобы не видеть.
«Распутная имератрица», Джозеф фон Штернберг / Paramount Pictures, USA, 1934
Изображение Екатерины перед зеркалом указывает на ее визуальный интерес к собственной персоне, и многочисленные портреты императрицы этот интерес подтверждают, хотя правильнее интерпретировать их как метафоры нации. На следующей иллюстрации она словно ожившая статуя, отделившаяся от каменных изваяний, что подчеркивается фактурой ее мехового манто, вычурной прической и пристальным взглядом, направленным из самого центра кадра.
Каменные фигуры несут факелы, освещая тьму; кажется, будто они несут и Екатерину. Когда она взошла на престол, парадная архитектура Санкт-Петербурга была выдержана в стиле барокко и рококо; последний, французский стиль отличался затейливой игрой форм и капризной декоративностью, чуждой порядка и строгой симметрии. Под влиянием рационализма Просвещения Екатерина отвергла рококо ради сдержанной гармонии классицизма. Она значительно расширила царскую резиденцию и возвела величественный ансамбль из трех зданий, включавших Зимний дворец и Эрмитаж. Со временем название «Эрмитаж» (в переводе с французского «место уединения, приют отшельника») стали применять ко всему дворцовому комплексу. И хотя эти сооружения скромными не назовешь, в названии содержится намек на простоту, исповедуемую Жан-Жаком Руссо, с которым мы с вами вскоре встретимся.
Свой Эрмитаж она наполнила искусством. Она была самым выдающимся создателем картинной галереи той эпохи. Ее неутолимая страсть к обладанию художественными образами превратила ее в крупнейшего коллекционера, с которым даже Лувр не мог тягаться. В трехмиллионном собрании петербургского музея «Рембрандты», «Ван Дейки», «Рубенсы», «Тицианы», «Джорджоне», «Рафаэли»… И если огромная, как чрево кита, художественная галерея на полотне Джованни Панини – всего лишь плод фантазии живописца, то Екатерина создала свою галерею не во сне, а наяву. Ее Эрмитаж – это Версаль, где правит искусство.
Туда идут, чтобы смотреть, и смотреть приходится столько, что устаешь смотреть. Такое скопление картин невольно вызывает мысль о поживе мародера. И аппетит у Екатерины был поистине ненасытный. Эпичность Эрмитажа очень точно передана в кинофильме 2002 года «Русский ковчег». Как явствует из названия, музей предстает в образе огромного корабля, которому предназначено спасти визуальную ДНК от гибели в великом потопе, будь то бездумное потребительство или поп-культура. Фильм совершенно уникальный. Условной точкой отсчета служит первая половина XIX века, но основная сюжетная канва связана с более отдаленной эпохой. Придворные съезжаются на бал, увеселения длятся ночь напролет, после чего нарядная толпа стекает по ступеням дворца к реке. Фильм снят одним кадром, без единой монтажной склейки – оператору пришлось пройти с камерой больше километра, через 33 галереи, а при этом в кадр должно было попасть 867 человек: сотрудники музея, шпионы, гости на балу… Попали в кадр и мрачные знамения грядущих трагедий. Художественное собрание Екатерины рождалось в радости, хотя и с дальним прицелом – как массированная рекламная кампания с доходчивым месседжем: «Смотрите! Чем мы не европейцы?» Хотя во всем этом несомненно было искреннее выражение зрительных приоритетов эпохи. Фильм не менее темпераментно взывает: «Посмотрите, чт в опасности, чт мы могли потерять!» Несомненно, создание такого музея – великое дело, но нельзя забывать, что идеи, лежавшие в его основании, были сметены революцией.
Великая французская революция
История человечества знает немало восстаний, но среди тех, которые оказали наибольшее влияние на весь дальнейший ход развития, следует назвать Великую французскую революцию. Финансовый кризис во Франции и ее поражение в Семилетней войне (1756–1763) от Пруссии и Англии привели к тому, что страна была унижена и разорена. Авторитет власти упал, Версаль все больше воспринимался как никчемный фетиш отжившего старого порядка, ancien rgime, а идеи Дидро и Юма подготовили почву для свержения власти.
И тут пора вспомнить еще об одной незаурядной личности. Жан-Жак Руссо родился в 1712 году в Женеве (мать умерла при родах), женился на прачке Терезе Левассёр, стал отцом пятерых детей. Долгое время дружил с Дидро, а с Юмом быстро рассорился, впрочем он в конце концов рассорился со всеми. Неуживчивый был человек, contra mundum. Любил бродить по лесам и полям, воспевал природу, но детей своих бросил на произвол судьбы и вообще предпочитал жить одиноким волком. Памятник Руссо в Женеве рисует «приглаженный» образ философа: бронзовый Жан-Жак в одежде, напоминающей римскую тогу, торжественно восседает на пьедестале. Руссо – литератор, а не творец зрительных образов, но его идеи, и особенно его идеал добродетели, оказали такое влияние на современное ему общество, что способствовали преображению всего зримого мира.






