Человек смотрящий Казинс Марк
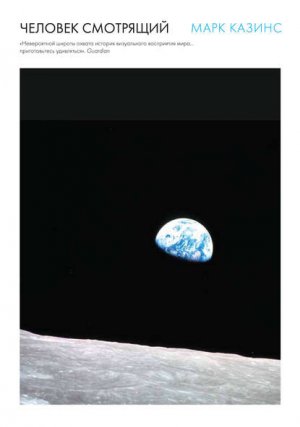
Всякий образ движения – это еще и образ времени: время несомненно присутствует в кадре из черно-белого фильма о Верденской битве или в изображениях велосипедиста, будь то живописное полотно или хронофотография. Но на картине слева задача передать движение перед художником как будто бы не стояла: никакой размытости в контуре руки, никакого трепетания век, мерцания глаз, – и тем не менее она о времени. Мария словно взывает: «Постойте. Замрите. Не двигайтесь». Однако движение все же есть – движение времени. Наше внимание приковано к нему именно благодаря отсутствию всякого другого движения.
Антонелло да Мессина. Благовещение. 1474 / Galleria Regionale della Sicilia, Sicily, Italy
Мы замираем и чувствуем, как бегут секунды, возможно – как тикают воображаемые часы. Наступает миг тишины, о котором она просит. Что ощущаем мы в этот миг? Блаженный покой? Или потребность пристальнее вглядеться в настоящее, понять, какое оно?
В следующей картине время забегает вперед. Время выступает здесь не столько в событийном, сколько в релятивистском аспекте. Жест мужчины в черной шляпе напоминает жест женщины в голубом покрывале на предыдущей картине, словно говоря: «Замрите». Он и двое его товарищей стоят полукругом, как собеседники, но лица их неподвижны и взгляды не пересекаются: беседа прервалась, мыслями они не здесь, а где-то еще. Это «где-то» у них за спиной, в глубине. Там, в левой части картины, показана сцена бичевания Христа. Жестокое публичное наказание, сопровождавшееся, надо думать, немалым шумом, не могло не привлечь их внимания, однако не привлекло – потому что случилось в прошлом. Мужчины справа одеты так, как одевались зажиточные горожане в годы создания картины (1463–1464), то есть через полтора тысячелетия после евангельской сцены бичевания. Оба события происходят в одном месте – городе с классической архитектурой, с плиточными полами; к тому же обе части картины, судя по сходящимся линиям крыш справа и слева, связаны общей перспективой. Пространство одно, а времен – два Наш взгляд, начав движение справа, смещается влево, пересекает колонну в центре и зрительно продолжающую ее полосу светлой плитки внизу – и совершает путешествие во времени, переносится в далекое прошлое, в эпоху Страстей Христовых. Относительно идентификации трех мужчин справа единого мнения нет. Возможно, художник Пьеро делла Франческа использовал евангельский эпизод как аллюзию на некий пример страдания или мученичества из жизни своих современников. Но самое удивительное в этой картине – временной сдвиг. Если посмотреть на нее глазами человека начала XX столетия, когда и фотография, и кинематограф, с их интригующей способностью запечатлевать мгновение, были еще внове, то кажется, будто двойное время Пьеро делла Франческа ворочается под неподвижной гладью живописи, как гигантский кит.
Пьеро делла Франческа. Бичевание Христа. Ок. 1463–1464 © Galleria Nazionale delle Marche, Urbino, Italy / Bridgeman Images
И это напоминает нам о том, что наш взгляд может курсировать между временными периодами. Такое случается сплошь и рядом. Когда мы смотрим на лицо человека, которого знаем много лет, мы в то же самое время видим его молодым. Кинематографисты проявили немало изобретательности, иллюстрируя этот феномен. Характерный пример такого зрительного анахронизма мы встречаем в фильме Джона Сейлза «Одинокая звезда». В нем рассказывается о том, как в 1990-х шериф небольшого городка в Техасе расследует историю странной находки: в окрестностях найден скелет, пролежавший в земле не одно десятилетие. Все указывает на то, что останки принадлежат прежнему шерифу, печально известному в 1950-е годы взяточнику и расисту. Фильм балансирует между «сейчас» и «тогда», между настоящим и прошлым. Подобные временные скачки туда-сюда, конечно, не новость, вот только в «Одинокой звезде» скачков как таковых, в сущности, нет, и, сместившись «туда», мы не обязательно вернемся «сюда». По этому поводу Сейлз говорит следующее.
Я использовал театральный прием смены сцен, чтобы между прошлым и настоящим не было заметного шва… Суть вот в чем: выбираешь фон для съемки крупного плана из 1996-го, снимаешь, поворачиваешь камеру – панорама, – возвращаешь камеру туда, где твой персонаж только что рассказывал свою историю, а там уже кто-то другой, в 1957-м. Никаких склеек и наплывов. Мне хотелось максимально усилить ощущение, что все происходящее сейчас неразрывно связано с прошлым. Это не то чтобы воспоминание – звуков арфы вы не услышите. Это реальное там.
Тот же технический прием использовал Пьеро делла Франческа. Выражаясь языком Эйнштейна, пространство-время едино в «Бичевании Христа», как и в «Одинокой звезде» Сейлза. Оно не распадается надвое. Хоть в Техасе, хоть в Италии груз истории настолько тяжек, что история – уже не история. В одном из эпизодов фильма учитель истории спрашивает: «Что мы здесь видим?» А видим мы – и в «Одинокой звезде», и в «Бичевании» – само время, и это одна из иллюзий, создаваемых раздробленным зрением.
К идее зримого времени мы вернемся ближе к концу нашего рассказа, когда посмотрим на два кинообраза Ингрид Бергман, а пока заметим, что открытия Эйнштейна изменили не только наши представления о времени. В начале XX века наш взгляд на мир вновь вобрал в себя категорию возвышенного. Как мы знаем, Бёрк и Руссо находили «возвышенным» вид Альпийских гор, но формула E = mc2 означает, что для вычисления энергии самых простых вещей, упоминаемых в этой книге (таких как памятные нам с детских лет морские водоросли и ракушки, слезы Жанны д’Арк-Фальконетти, беговой протез с подошвой «Найк», воздушный земной шарик Чарли Чаплина, желтая дамская сумка Марни, теннисный мяч Энди Маррея), нужно помножить их массу на квадрат скорости света. Выходит, эти простые вещи – настоящие бомбы, ведь составляющие их атомы обладают огромным потенциалом энергии. Еще на рубеже V–IV веков до н. э. древнегреческий ученый Демокрит выдвинул мысль о том, что материя состоит из атомов; в начале XIX века Джон Дальтон описал атомы как маленькие, твердые, неделимые сферы, а в конце того же века Джозеф Джон Томсон открыл электрон; в 1911 году Эрнест Резерфорд установил, что в центре атома находится маленькое положительно заряженное ядро. Складывалась новая атомистическая картина мира. Потом пришел черед немца Макса Планка и датчанина Нильса Бора, дислектика и визуалиста.
Планк по заслугам оценил работы Эйнштейна, опубликованные в 1905 году, и в 1911 году они встретились на конгрессе в Брюсселе. Ученые подружились, Планк предложил Эйнштейну (который был на двадцать лет моложе его) место профессора. Еще раньше, в 1900 году, Планк выдвинул свою квантовую гипотезу, получившую в последующем десятилетии признание ученых. Для нашего разговора о зрительном восприятии она интересна тем, что описывает законы микромира, или мира атома. Если в привычном нам мире Ньютоново яблоко совершает свободное непрерывное падение, то в микромире перемещение «тел» происходит намного более дискретно, ступенчато. Нильс Бор пытался зримо представить себе невидимые процессы. Его беседы с учениками происходили на ходу, во время прогулок, и это правильно – движения глаз стимулируют работу мозга. Как и другие до него, он обратил внимание на то, что при нагревании каждый элемент дает пламя определенного цвета. Применив квантовые теории Планка и Эйнштейна, он объяснил это так: цвет (видимое излучение) появляется, когда электрон теряет энергию, «падает» с орбиты, по которой вращается вокруг атомного ядра. Однако падает он не как яблоко и не как светящийся метеор. Он просто перескакивает с одной орбиты на другую, с меньшим радиусом, и при каждом скачке излучает исчисляемое количество энергии. Исследованием спектров электромагнитного излучения занимается спектроскопия, а его зрительный эффект прекрасно иллюстрируют витражи.
Добавим к фейерверкам Бора броуновское движение – и устройство микромира станет немного понятнее. В 1827 году шотландский ученый Роберт Броун (Браун), исследуя под микроскопом пыльцу в капле жидкости, заметил, что пыльцевые зерна беспрестанно и как бы судорожно двигаются, словно заведенные. На литографии справа показан характер их движения.
Броуновское движение. Литография. XX в. © Private Collection / Look and Learn / Bridgeman Images
В знаменательном 1905 году Эйнштейн установил, что такое движение очень мелких твердых частиц вызвано их столкновением с микрочастицами – молекулами жидкости. В 1908 году французский физик Жан-Батист Перен экспериментально подтвердил правоту Эйнштейна. В следующие несколько лет одна за другой стали появляться новые теории о внутреннем устройстве материального мира. Все они были вдохновлены или подтверждены наблюдением, и все получали яркую визуализацию. Именно в силу того, что квантовый мир недоступен зрению, он, подобно древним богам, стимулировал образность мышления и рождал зрительные метафоры, целый шквал образов – эффект «разъятого глаза». Темпоральный, дискретный, цветной и всемогущий – с оттенком «возвышенного» – атом завладел воображением века, как никакое другое явление из области невидимого. Он жил своей жизнью, точно скрытое в скалах никому неведомое крохотное озеро. Его красота таила в себе ужасающий потенциал зла, впоследствии раскрытый в Хиросиме и Нагасаки, где было уничтожено почти четверть миллиона людей.
Атомная и квантовая физика возродила концепцию микрокосма – миниатюрной модели вселенной. В известном смысле микрокосмами можно считать зоопарки – или картины художников. Что касается последних, попробуем понять это на примере серии картин Винсента Ван Гога, который умер в 1890 году, но до начала XX века оставался почти неизвестным широкой публике и не оцененным по достоинству знатоками.
В огромном и сложном мире некое замкнутое, ограниченное по осям Х, Y и Z пространство воспринимается скорее как благо, своего рода дистиллят мироздания. В течение года, начиная с мая 1889-го, Ван Гог писал красками и рисовал один такой замкнутый, ограниченный в пространстве мирок – возделанный участок земли при лечебнице для душевнобольных Сен-Поль на ораине французского городка Сен-Реми. Сад был виден из окна его комнаты.
Сад монастыря Сен-Поль де Мозоль в Сен-Реми. Прованс, Франция © Evgeniy Fesenko / Dreamstime.com
Во времена Ван Гога здесь было небольшое поле пшеницы. На картине справа оно исполосовано дождем, словно царапинами, как будто картину привязали сзади к мотоциклу и протащили по грунтовке или как если бы мы смотрели на нее сквозь толщу морской воды, но в других случаях то же самое поле может быть ярко-желтым, или каменная ограда по его периметру вдруг станет почти фиолетовой, или облака повиснут в небе клочьями ваты, или (на рисунке пером) все окрасится одним коричневатым тоном.
Ван Гог нуждался тогда в специфическом лечении, и возможность сфокусировать внимание на одном месте и наблюдать его при разной погоде, в разное время года и суток, вне всякого сомнения, благотворно действовала на больного, создавая ощущение хотя бы относительного контроля над внешним – враждебным – миром. Глядя из нашего времени на цикл работ с видами этого поля в Сен-Реми, проникаешься их медитативной глубиной. Их микрокосмической, чуть ли не атомистической сутью. С маниакальным упорством изгоняя за свои пределы все чуждое, они странным образом вселяют в нас уверенность, что мир так или иначе познаваем и что, несмотря на проливной дождь и палящее солнце, в этом поле и в этой каменной ограде вокруг него есть что-то скрыто-незыблемое. Картины Ван Гога рождены пристальным, а не мимолетным взглядом, иначе и быть не могло: микрокосм обычно открывается пристальному взгляду. В чем-то они консервативны, поскольку не являются продуктом центробежного воображения и неодолимой жажды странствий. В них нет ничего от мировосприятия путешественника, совершающего гранд-тур по историческим местам, или зверобоя, покоряющего просторы американского фронтира. Они почти религиозны, герметичны, отмечены печатью глубоко личного поиска визуального баланса.
Винсент Ван Гог. Поле пшеницы под дождем. 1889 / Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, USA
Микрокосмическое, как и атомистическое, видение играло большую роль на всем протяжении XX века. С начала 1930-х годов ученые не только старались представить себе, как выглядят электроны, но пытались «вместе с ними» наблюдать процессы в микромире. Видимый свет слишком массивен и неуклюж, чтобы с его помощью заглянуть в мир атома (как ни старайся, а руку в игольное ушко не просунешь). Другое дело – направить на крошечные объекты пучок электронов, которые так малы, что, столкнувшись с микроскопическим препятствием, отскочат назад; и тогда вы, словно на игольчатом экране, увидите микроджунгли, состоящие из живых организмов, поверхностей, фактур и контуров. Вот, например, одноклеточная морская водоросль, покрытая кремниевыми чешуйками. Прежде ничего подобного увидеть было нельзя.
Любое озерцо в прибрежных скалах кишмя кишит подобными геометрическими, «архитектурными», обворожительными уродцами, jolies laides, и трудно не заметить зрительного сходства между увеличенным изображением водоросли и круговой композицией на кадре из голливудского мюзикла «42-я улица», который вышел на экраны в 1933 году – тогда же, когда электронный микроскоп впервые явил недоступные нашему взору и нашей обычной световой оптике подробности окружающего нас мира.
«42-я улица», Ллойд Бэкон / Warner Bros., USA, 1933
Разумеется, в кинофильме структурными элементами композиции служат не чешуйки морского организма, а девушки из кордебалета (вид сверху): они сидят, откинувшись на стульях, которые образуют два концентрических круга, и демонстрируют свои стройные ножки, слегка наклоняя их вправо во внутреннем круге и влево – во внешнем.
Увидев этот образ на большом экране, зрители не сразу понимали, что к чему. Два огромных круга легко «читались», но девушек было не различить, об индивидуальности и говорить нечего, все они были частью калейдоскопического узора, и только. Здесь словно соединились понятия «макро» и «микро» – голливудский мир грёз и квантовый мир. Красивая, биоморфная, почти природная на вид форма – и в то же время дегуманизирующая, абстрактная, воплощающая в себе однобокость того, что позже назовут «мужским взглядом», подразумевая под этим приоритет мужской власти, мужского желания, мужского инстинкта овеществления и психологического дистанцирования. Когда человек смотрел на Альпы или Скалистые горы, он чувствовал себя букашкой. Когда мы смотрим на одноклеточный организм, мы чувствуем себя исполинами сродни Альпам.
За два года до того, как Ван Гога поместили в лечебницу Сен-Поль, другой художник, Жорж Сёра, написал картину «Мост в Курбевуа». Целое (изображение) составлено здесь из крошечных частиц (цветных точек), и в этом картина созвучна атомному XX веку, его пристрастию к микромиру.
Жорж Сёра. Мост в Курбевуа. 1886–1887 / The Courtauld Institute of Art, London, UK
Изображение плоскостное, как у Сезанна в «Извилистой дороге», однако вместо живой, словно рябь на море, живописной поверхности Сезанна мы видим немного искусственную, «точечную» живопись: складывается впечатление, будто образ получен с помощью особого оптического устройства – быть может, даже электронного микроскопа. Свет – это поток частиц, и кажется, что Сёра об этом знал. Он атомизировал зрительный образ, опираясь на современные ему теории цвета, которые в данном случае интересуют нас меньше, нежели «молекулярная» поверхность его полотен. Исповедуя во многом научный подход к живописи, художник, судя по всему, настолько увлекся мелкозернистой структурой материи (посмотрите на его пейзаж – вам не кажется, что падает снег?), что ради этого стал изгонять из своих картин более экспрессивные, переменчивые, не вписывавшиеся в его концепцию элементы. Вероятно, поэтому фигуры людей кажутся такими застывшими, а все семнадцать вертикалей кольями торчат в неподвижном, спертом воздухе.
Гертруда Стайн в книге о Пикассо писала: «А потом глаза Сёра стали пасовать перед тем, что видели, когда смотрели, он начинал сомневаться в своей способности видеть смотря». Британская художница Бриджит Райли в начале своей карьеры написала копию «Моста в Курбевуа», а затем, взяв на вооружение его излюбленный принцип атомизации, принялась исследовать оптические эффекты и пришла к созданию геометрических абстракций.
Примеров визуальных микрокосмов и атомизации в XX веке хоть отбавляй, но мы ограничимся еще двумя. Бенгальский режиссер Сатьяджит Рай, чей фильм «Богиня» мы вспоминали в связи с разговором о глазах в кинокадре, в 1958 году снял картину «Музыкальная комната». Действие разворачивается в 1920-х, главный герой – стареющий землевладелец, потомок некогда богатого и влиятельного феодального рода, человек ушедшего XIX века: его дни на исходе, как и его фамильное состояние. Он живет в своем ветшающем загородном дворце, курит кальян и сквозь дрему равнодушно смотрит на смену дня и ночи, забывая порой, какой нынче месяц. Главная достопримечательность его дворца – музыкальная гостиная, а в ней – великолепная люстра со свечами. Под этой люстрой для него, в прошлом заядлого меломана, в последний раз выступает приглашенная танцовщица. Когда гости расходятся, он поднимает бокал, словно провозглашая тост за здоровье пустой комнаты с картинами и зеркалами, вызывающими у нас невольные ассоциации с Зеркальной галереей Версаля. Он подходит к портрету на стене и снова поднимает бокал, но, заметив паука, отворачивается и вдруг видит вот это – отражение люстры в бокале. Он вздрагивает: миниатюрная люстра словно микрокосм его былого величия. Он с ужасом смотрит, как свечи на люстре гаснут одна за другой, как будто весь кислород в комнате вытесняется каким-то неведомым газом, который не дает свечам гореть, а ему жить.
«Музыкальная комната», Сатьяджит Рай / Arora, India, 1958
За окном занимается новый день, так что свечи зажигать, в сущности, уже незачем. Герой пережил миг озарения, постигнув, как он мал, как близок его конец и как все безвозвратно.
Сатьяджит Рай был хорошо знаком с традицией могольской живописной миниатюры – одной из ярчайших страниц в искусстве создания миниатюрных художественных миров, или микрокосмов. А одним из тех, кого чаще всего изображали искусные мастера, был Акбар, третий падишах империи Великих Моголов, с которым мы встречались в главе 6, когда он взглядом завоевателя с высоты смотрел на юг, на Декан. На миниатюре, созданной за четыреста лет до выхода в свет фильма Рая, Акбар сидит под опахалом и смотрит на выступление танцовщиц, точно так же как смотрит герой Рая. И светильник у него над головой перекликается с люстрой в кинофильме.
Акбар смотрит выступление танцовщиц. Миниатюра из персидской летописи «Акбар-наме». 1561 © Victoria & Albert Museum, London, UK / Bridgeman Images
В Индии живописная миниатюра, испытавшая влияние исламского искусства и служившая главным образом для иллюстрации рукописных книг, пользовалась большой популярностью: только за время правления Акбара появились тысячи новых изображений. Все они – настоящий подарок для любителей разглядывать мелкие подробности в небольшом живописном пространстве, наслаждаться сложными по форме, но всегда изысканными и красочными композициями. Так, в миниатюре с танцовщицами много архитектурных элементов – платформы, колонны, экраны, арочные проемы, – и при этом площадь изображения так мала, что мастер трудился над ним, вероятно, не меньше месяца. Бумага использовалась в основном привозная; после нанесения рисунка ее загрунтовывали белой краской, шлифовали округлым агатом и только потом раскрашивали кисточками из ворса кошки или белки, прибегая к помощи увеличительного стекла или очков для работы над самыми мелкими деталями. Желтую краску получали, вероятно, из цветков кашмирского крокуса (шафрана). Живописцы, трудившиеся в художественных мастерских, получали жалованье наравне с солдатами. Техника живописной книжной миниатюры возникла задолго до миниатюрных шедевров Вермеера, но с ее помощью художникам тоже удавалось создавать завораживающие, яркие, как россыпь драгоценных камней, микромиры, поражающие не грандиозностью, а изысканностью. Не стоит удивляться тому, что в могольской миниатюре нередко встречаются эротические сюжеты: интимность присуща самому жанру книжной миниатюры, предназначенной для читателя, который открывает книгу в одиночестве. Вообще, микрокосм люди чаще всего наблюдают, пребывая наедине с собой. И редко – сообща.
Микрокосм героя кинокартины Сатьяджита Рая заключен в одном-единственном моменте времени, но наш последний пример восприятия видимого мира как мелкомасштабной замкнутой системы развертывается на протяжении шести часов. В 1986 году иранский режиссер Аббас Киаростами снимал фильм «Где дом друга?» о нехитрых похождениях мальчика, который случайно забрал тетрадку одноклассника и хочет ее вернуть. Съемки проходили в деревне Кокер на севере Ирана. В 1990 году эта деревня была до основания разрушена землетрясением, унесшим жизни 50 тысяч человек; многие из местных жителей, привлеченные Киаростами в качестве непрофессиональных актеров, погибли. Женщину, сыгравшую в фильме бабушку, нашли разрезанной пополам под обломками.
В ужасе от случившегося Киаростами поехал в Кокер, надеясь разыскать мальчика – исполнителя главной роли. Свою поездку он превратил в новый фильм – вместо него в фильме действует актер, а пережившие землетрясение местные жители играют более или менее самих себя.
В законченной картине, названной «Жизнь продолжается» (1992), режиссер ищет мальчика, но главное, что мы видим: поток жизни нельзя остановить, это не под силу даже трагедии. К съемочной группе второго фильма прибивается местный парень по имени Хусейн. В кадре он рассказывает Киаростами о том, как женился спустя всего пять дней после землетрясения. Под впечатлением от его рассказа режиссер включает Хусейна в актерский состав второго фильма, где тот играет на пару с местной девушкой, выбранной на роль его жены. Во время съемок соответствующего эпизода Хусейн влюбляется в эту девушку. Киаростами такой неожиданный поворот настолько заинтриговал, что спустя два года он сделал третий фильм цикла, «Сквозь оливы», почти целиком посвященный съемкам того самого эпизода из предыдущего фильма. Ниже вы видите кадр из третьего фильма. Справа Хусейн – он играет Хусейна из второго фильма (в котором сыграл самого себя). Слева местная девушка в тот момент, когда она, играя роль будущей жены Хусейна, во время съемочной паузы слышит признание в любви актера-Хусейна.
«Сквозь оливы», Аббас Киаростами / Abbas Kiarostami Productions, CiBy 2000, Farabi Cinema Foundation, Iran, 1994
После этого путаного описания кто-то может решить, что в результате многосложных режиссерских ходов («фильм в фильме в фильме») в кинотрилогии уже не остается ни любви, ни радости, но в действительности и то и другое умножается от фильма к фильму. Третий фильм полностью сосредоточен на том моменте второго фильма, когда возникает любовь. Каждый следующий фильм показывает крупным планом какую-то часть предыдущего, выявляя все скрытые прежде подробности: как если бы мы рассматривали их с помощью электронного микроскопа. Иными словами, благодаря этой кинотрилогии мы видим больше, чем видно невооруженным глазом. Это кинематограф Сёра, кинематограф Эйнштейна, всматривающийся в мелкозернистую структуру бытия с верой в то, что есть все же нечто сакральное в повседневности, в микрокосме, в этой вот деревне и в том, что происходит на голубом деревенском балконе с геранью в горшках, прямо на глазах у съемочной группы. Этот кинообраз стал бы прекрасным сюжетом для могольской миниатюры. По-своему он воплощает в себе атомистический взгляд на мир – неутолимую жажду видеть миры в мирах.
XX век не стоял на месте, и атомный мир продолжал создавать новые способы видения и новые видимые объекты. Центральный образ атомной эры – ядерный гриб, или радиоактивное облако. Ровно через двадцать лет после взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной станции в 1986 году в чернобыльском православном Ильинском храме появилась необычная икона. На воспроизведенном здесь фрагменте в молитвенном предстоянии изображены свидетели катастрофы – спасатели в противогазах, врачи и энергетики в белых халатах.
Чернобыль © Mark Cousins
На границе Швейцарии и Франции построена самая большая из существующих в мире машин для наблюдения над самыми малыми частицами. Фигура человека на фотографии дает представление о грандиозных размерах Большого адронного коллайдера Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН).
Большой адронный коллайдер / Image via CERN
В коллайдере, или ускорителе заряженных частиц, положительно заряженные ядра водорода, протоны, разгоняются практически до скорости света (99,9999 %) – как трамвай в умозрительном эксперименте Эйнштейна. Пучки частиц ускоряются в противоположных направлениях и сталкиваются в специальных точках, отсюда и название установки (англ. collider – «сталкиватель»). Процесс ускорения частиц, главным образом за счет кругового движения, занимает до десяти часов, и за это время частицы преодолевают расстояние, вдвое превышающее расстояние до внешних границ Солнечной системы. При столкновении двух максимально заряженных потоков частиц их энергия удваивается, что равнозначно температуре Большого взрыва. Конечной целью этих исследований является подтверждение или опровержение важных научных гипотез, таких как постулированная еще в 1922 году «темная материя», составляющая примерно четвертую часть всей массы-энергии наблюдаемой Вселенной. В известном смысле ученые ЦЕРНа поступают точно так же, как Галилей со своим телескопом на венецианской крыше. На территории ЦЕРНа установлена статуя Натараджа, Танцующего Шивы, – разрушителя и одновременно созидателя мира. Эйнштейн – как Шива. Он созидатель новых миров – миров, которые благодаря ему стали видимыми. Он рассекатель глаза.
Тутанхамон
26 ноября 1922 года, в два часа пополудни, некий господин пробил брешь в левой верхней части замурованного входа. Он посветил фонариком и внутри увидел то, что за минувшие четыре с лишним тысячи лет никто не видел. «Нашим глазам предстало поразительное зрелище», – пишет он. Мир согласился с ним. То было еще одно визуальное потрясение XX века.
Там, внутри, наш любознательный господин, английский археолог Говард Картер (кстати сказать, отличный художник), и его сподвижники обнаружили в общей сложности шесть тысяч различных предметов и среди них саркофаг, открыв который они обнаружили другой, потом третий, четвертый и, наконец, последний, из чистого золота. Они подняли крышку и увидели сплошную черную массу. На фотографии Картер соскабливает черную корку затвердевших благовоний с мумии юного полубога, сына Эхнатона, о котором мы слышали в главе 4.
Английский археолог Говард Картер и его египетский ассистент исследуют саркофаг фараона Тутанхамона. 1920-е © Private Collection / Leemage / Bridgeman Images
Интересно, дрожали у него руки, пока он открывал за саркофагом саркофаг? При расчистке Картер использовал лупу и всевозможные пинцеты, щипцы, плоскогубцы (на фото внизу). Лицо и плечи мумии закрывала золотая маска. Головной убор украшен горизонтальными синими полосами; к подбородку приделана длинная стилизованная борода; черты полудетского лица несколько утрированы; глаза из кварца, отделка условного костюма из лазурита. И тут самое время вспомнить австрийского психоаналитика Зигмунда Фрейда, который поможет нам осознать величие этого момента. Фрейд мечтал о Риме задолго до того, как впервые там оказался. А мы – мечтали мы о чем-то вроде саркофага в саркофаге фараона Тутанхамона до того, как Картер его обнаружил? Египет начал захватывать воображение европейцев в предыдущем, XIX веке. В 1798 году в Египет вступил Наполеон; в 1869-м был открыт Суэцкий канал; в 1882-м Египет оккупировала Великобритания; европейцы принялись вывозить из Египта обелиски и монументальную скульптуру для украшения своих городов; английская писательница Амелия Эдвардс обеспечила финансирование экспедиций Флиндерса Питри, увековечившего себя важнейшими находками (древние стелы, уникальная портретная живопись); ну а христиане жаждали получить подтверждения библейской истории Исхода. Другими словами, Египет манил к себе тайнами древних мифов и колониальными соблазнами, равно притягивал любителей наживы и любителей истории, ценителей прекрасного и разочарованных в цивилизации искателей восточной экзотики.
Открытие гробницы Тутанхамона до крайности обострило интерес ко всему египетскому. На фотографии Картер соскабливает ни больше ни меньше слои времени. Начиная с эпохи Возрождения просвещенная Европа была одержима классической Античностью. Иран мифологизировал Дария и Ксеркса, правителей империи Ахеменидов. Зачатки современного индийского самосознания появились в эпоху Акбара. Но то, что скрывалось под черной коркой в саркофаге, было древнее. Как мы не раз могли убедиться, людей часто привлекают руины – печальные свидетели разрушительной силы времени, но над египетскими находками Картера время оказалось не властно. В пространственно-временном континууме случился сбой. Психологическая дистанция, отделявшая Европу XX века от Северной Африки – какой та была несколько тысячелетий назад, – вдруг исчезла.
Выразительный кадр из фильма «Планета обезьян» поможет нам понять, что творилось в душе ученого, когда его взору явилась сама живая история. Герои фильма-антиутопии, совершив путешествие в пространстве и времени, бредут вдоль кромки воды и вдруг видят перед собой наполовину ушедшую в песок статую Свободы.
«Планета обезьян», Франклин Шеффнер / APJAC Productions, Twentieth Century Fox Film Corporation, USA, 1968
Их (и наше) взбудораженное воображение силится осмыслить увиденное. Позвольте, а где же тогда Нью-Йорк? О какой неведомой катастрофе говорит эта одиноко торчащая из земли гигантская статуя? Неужели не осталось никого, кто мог бы что-то объяснить? А может, никакой катастрофы и не было – просто все мало-помалу пришло в упадок? И значит, наш нынешний порядок – прообраз грядущего хаоса? Мы смотрим на знакомую статую с чувством щемящей тоски по Нью-Йорку, которого больше нет. И когда мы переводим взгляд назад, на гробницу Тутанхамона, то испытываем – хотя никто из нас не жил в Древнем Египте – ностальгию по великой эпохе, способной создавать такие несравненные шедевры (пусть даже благодаря нещадной эксплуатации, на которую мы, конечно, не можем закрывать глаза). Люди, изготовившие погребальную золотую маску, поклонялись иным богам, но их древние очи видели красоту там, где способны увидеть и мы. Древние египтяне словно бы навсегда зарыты в нашем коллективном бессознательном. «Фрейдизм есть эксплицитная и тематизированная археология», – писал Поль Рикёр в книге «Фрейд и философия», сравнивая бессознательное в психоанализе с археологическими находками. Так, словно бы из недр бессознательного, на свет вновь явился Тутанхамон, так в «Планете обезьян» вновь явила себя давно исчезнувшая из виду статуя Свободы. То, что открылось глазам Картера, было похоже на сновидение, в котором все возможно, все многослойно, все пронизано ассоциациями. В эру Эйнштейна вернувшийся из небытия Тутанхамон воспринимался как символ путешествия во времени. В работе «Неудовлетворенность культурой» Фрейд заметил: «В душевной жизни ничто, однажды возникнув, не исчезает без следа – все так или иначе сохраняется и при известных обстоятельствах… может вновь обнаружить себя».
Но ведь это одна из главных тем нашей книги. С самых первых, смутно различимых монохромных форм ребенок впитывает и сохраняет в глубинах памяти зрительные образы. Многие из них становятся невидимыми – забываются, – но все равно так или иначе участвуют в формировании нашего способа видения, наших ожиданий от увиденного и наших проекций на видимое. Увидеть Тутанхамона! В этом было что-то сверхъестественное. Как будто внезапно раздвинулся черный занавес и открылось такое, что перевернуло всю визуальную культуру. Мировая пресса жадно следила за ходом работ и сообщениями о новых находках. Выставка вещей из гробницы Тутанхамона в Британском музее привлекла к себе беспрецедентное внимание публики. Когда выставку привезли в нью-йоркский Метрополитен-музей, ее посетило восемь миллионов человек. В 1932 году киностудия «Юниверсал» выпустила первый из множества фильмов о мумии: толчком для его создания послужили слухи о проклятии гробницы Тутанхамона.
Но, быть может, интереснее обратиться к произведению, созданному всего через год после открытия Картера. В то время немецкий художник Курт Швиттерс только-только начал экспериментировать с деревом и другими материалами, которые он включал в свои работы наряду с живописной поверхностью. Его коллажи оказали большое влияние на развитие новых подходов к искусству.
Курт Швиттерс. Без названия. Ок. 1923–1925 © National Galleries of Scotland, Edinburgh / Bridgeman Images
Всегда живо откликаясь на злободневные темы, Швиттерс и в этой композиции с чуткостью барометра реагирует на египетские находки Картера. На заднем плане розовая пирамида, справа от нее огненный шар стилизованного солнца. Две абстрактные вертикальные формы выполняют, по-видимому, роль стражников, их «головы» даны строго в профиль, как у фигур на египетских рельефах и росписях. Колорит теплый, «пустынный», если не считать черного прямоугольника, проглядывающего внизу из-за серых форм: судя по всему, он находится под землей и, вероятно, ассоциируется с темной гробницей, тысячелетиями хранившей свою тайну. Швиттерс не бывал в Египте, но Египет несомненно присутствовал в его бессознательном.
Гробница Тутанхамона – самое знаменитое археологическое открытие XX века, однако были и другие потрясающие находки. 24 июля 1911 года американский историк Хайрам Бингем увидел древний, давно заброшенный город инков Мачу-Пикчу. Местные жители знали о нем и регулярно туда наведывались (кто-то из них и показал Бингему путь), но чужакам, впервые его увидевшим, он показался невероятным и загадочным творением. Построенный на вершине крутой горы город-храм, сплошь состоящий из каменных террас и ступеней, вознесся под облака посреди величественного пейзажа и некогда, должно быть, являл собой великолепное зрелище.
12 сентября 1940 года в сельской местности на юго-западе Франции собака по кличке Робо свалилась в яму. Четверо мальчишек ринулись спасать ее. Один посветил фонариком в черный провал и увидел наскальные рисунки; всего их там оказалось около шестисот. Изображены были животные – группами, попарно (в поединке), поодиночке; ржаво-красным, бурым или охристым тоном с черным контуром. Обычно животные на стенах пещеры Ласко бегут или внезапно замирают, сраженные метким ударом; при свете огня на них появляются блики. Возраст этой наскальной живописи по меньшей мере 15 тысяч лет, хотя представить себе такую древность практически невозможно. В 1974 году в китайской провинции Шаньси крестьяне, копавшие колодец, наткнулись на погребальный комплекс, который, как говорят, воплотил в себе образ вселенной. Семьсот тысяч рабочих и ремесленников десятки лет строили гигантский мавзолей и изготавливали семь тысяч терракотовых фигур воинов и лошадей, сопровождавших в последний путь тело первого китайского императора Цинь Ши-хуанди. По дну комплекса были проложены искусственные реки, заполненные ртутью.
Каждый из таких вновь открытых под- или надземных миров позволял нашему взгляду проникать в удивительные визуальные каверны, где история словно застыла. Наш глаз вспороли, рассекли, разъяли. Само время, невиданные миры, эпохи мировой истории вырвались наружу и предстали перед нами. И это было только начало визуального половодья, захлестнувшего XX век.
Глава 14
Начало XX века – разъятый глаз. Часть 2: протест, модернизмы, небоскребы, реклама
Микрокосмы, время, кинематограф и Тутанхамон: в первые десятилетия XX века зрение неимоверно усложнилось, но то, что случилось потом, можно сравнить с половодьем, в котором смешались два неудержимых потока, направленных как внутрь, так и вовне.
С этого последнего мы и начнем, а конкретно – с темы протеста. Те или иные протесты возникали на протяжении всей истории человечества. Они всегда направлены против власти и ставят своей целью добиться перемен, которые обычно, хотя и не всегда, улучшают положение протестующих. Мы уже дали краткий обзор двух крупных протестных движений в Европе – Реформации и Великой французской революции. Оба пытались очистить существовавшую в тогдашней культуре систему зрительных образов от плевел элитарности и декоративности.
Однако в эру фотографии протест стремится уже не просто потеснить или сбросить с пьедестала прежнюю визуальность – он продуцирует свою, принципиально новую. Это сильно увеличенное зернистое изображение – кадр из архивной кинохроники, датированной 4 июня 1913 года, – можно отнести к самым впечатляющим зрительным образам начала XX века.
Эмили Дэвисон. Дерби, 1913 / British Pathe, UK, 1913
Первое, что мы видим, – скачущая во весь опор лошадь, которая метнулась в сторону, чтобы не споткнуться о другую, внезапно упавшую: привычная для глаз динамичная форма, знакомая нам хотя бы по рисункам животных в пещере Ласко. Потом наш взгляд смещается в правый нижний угол, где, собравшись в комок и, вероятно, прикрыв руками голову, лежит наездник в светлой одежде. И только потом мы переводим взгляд влево.
Там мы видим на траве еще одну фигуру, судя по всему женскую; левая рука тянется вверх, ноги согнуты в коленях, голова приподнялась от земли: нам кажется, будто мы слышим отчаянный крик. И неудивительно – минутой раньше женщина попала под копыта скакуна. О ее боли мы можем догадываться, хотя это ее внутреннее ощущение, скрытое от нас, – в противоположность той причине, которая вызвала к жизни знаменитый фотообраз. Женщина кинулась наперерез лошади, скорее всего для того, чтобы как-нибудь прикрепить к ней флаг Женского общественно-политического союза, боровшегося за равенство полов и женское избирательное право. Подоспевшие полицейские пытались газетами остановить кровотечение из раны на голове пострадавшей. Через четыре дня эта женщина, сорокалетняя Эмили Уилдинг Дэвисон, умерла. Ее фигура на черно-белом кадре – словно набросок углем, запечатлевший ее протест и ее жертву, и это не просто кульминационный момент, но закономерный итог ее жизни, которая вся – протест. В молодости Дэвисон с отличием окончила Оксфордский университет, но не получила ученой степени, поскольку на женщин это право не распространялось. За свою активную деятельность она девять раз попадала в тюрьму, объявляла голодовки, подвергалась насильственному кормлению. Ее похороны напоминали мастерски поставленный спектакль: десятки тысяч людей вышли на улицы Лондона, по которым на катафалке, запряженном четверкой вороных лошадей, везли обтянутый атласом гроб. Ее сподвижницы-суфражистки все были в белых платьях, с черной перевязью на груди и черной траурной лентой на рукаве; каждая держала в руке цветок ириса, или суфражистский флаг, или лавровый венок. Когда процессия останавливалась, четыре белые фигуры занимали место в почетном карауле по углам катафалка. На ее могильной плите высечен девиз женского союза: «Дела, а не слова». Суфражистки несомненно шли в авангарде передового визуального мышления. В год трагической смерти Дэвисон в Нью-Йорке прошла выставка нового европейского искусства, благодаря которой Новый Свет узнал о постимпрессионизме и кубизме (скоро узнаем и мы). Художники-модернисты преобразили искусство, но Дэвисон, суфражистки, преобразили жизнь. Они были радикально экстравертны. Используя все доступные средства – кинохронику, фотографию, прессу, – они слали свои визуальные послания миру. Забрасывали его визуальными бомбами!
Ганди собирает соль на берегу Аравийского моря, 1930
Позади протестующих всегда стоят какие-то люди, стоят и ждут, когда их жизнь переменится. А за этим склонившимся к земле человеком стояли миллионы. Имя его – Махатма Ганди. Как и суфражистки, Ганди и его последователи носили белые одежды. Белый – цвет непорочности, с особой силой проявляющий себя на черно-белых изображениях; цвет ослепительно-яркого света; цвет, в котором содержится вся радуга; цвет чистоты; цвет палящего зноя и лютого холода; цвет седины и самой обыкновенной соли. На фотографии Ганди собирает соль с песка на берегу Аравийского моря возле селения Данди (Западная Индия), куда он пришел из Ахмадабада, преодолев пешком почти четыреста километров. И грязь под ногами была как бархат, сказал он. С ним вместе в поход выступили 78 верных последователей. К тому моменту, когда был сделан этот снимок (6 апреля 1930 года), около 100 тысяч человек успели увидеть, как мимо течет живая «белая река», и многие из зрителей влились в нее.
В 1882 году британские власти издали закон, запрещавший индийцам добывать и производить соль, хотя она буквально лежит у них под ногами и в условиях жаркого климата людям совершенно необходимо употреблять ее в пищу. Поначалу политические сторонники Ганди считали, что соль – далеко не главное, за что нужно бороться, но Ганди понимал: соль – наглядный символ, а протест эффективен тогда, когда всем виден. К освещению протестного Солевого похода Ганди привлек мировые СМИ: в Индию съехались кино- и фоторепортеры со всего света, газета «Нью-Йорк таймс» печатала новости с места событий на первой полосе, журнал «Тайм» назвал Ганди человеком года. Миллионы индийцев присоединились к его мирному протесту и, вдохновившись его символическим примером, поверив в неоспоримую справедливость его призывов к гражданскому неповиновению, принялись выпаривать соль. Власть британцев в Индии пала только через семнадцать лет, но Соляной поход Ганди получил настолько широкую известность, что его идеи и образы повлияли на другого выдающегося борца за справедливость, американца Мартина Лютера Кинга.
Через семь лет после Соляного похода, 26 апреля 1937 года, немецкий самолет сбросил несколько бомб на старую площадь в центре Герники – небольшого города в автономной Стране Басков на севере Испании. Людей на улицах хватало, но все бросились врассыпную, попрятались кто куда, и пострадавших оказалось немного. Самолет улетел, люди начали выходить из укрытий, возвращаться к своим делам. Через сорок пять минут их атаковала уже эскадрилья. Три часа подряд бомбардировщики сбрасывали на город бомбы, а истребители расстреливали обезумевших от страха людей, которые искали спасения в полях за городской чертой. Печальный итог: 1654 убитых и 889 раненых. Большинство мужчин воевали тогда на фронтах Гражданской войны в Испании, поэтому жертвами авианалета стали главным образом женщины и дети. Тысячи уцелевших горожан превратились в беженцев. Пикассо узнал о трагедии Герники из газет 1 мая и тогда же сделал первый набросок большой работы, которая в итоге обрела вот такой вид. Грандиозное полотно, созданное всего за тридцать три дня в строгой черно-белой тональности, с использованием самой обычной промышленной краски, вошло в историю как один из мощнейших визуальных протестов – посланный миру сигнал бедствия, SOS. На иллюстрации представлена картина Пикассо, воссозданная в виде керамического панно, которое установлено в многострадальной Гернике, на холме у северной окраины города, где пыталась спастись часть жителей.
«Герника», керамическое панно, фото 1 и 2 © Mark Cousins
Кажется, будто кто-то включил электрический свет в темной комнате, и в тот же миг из тьмы выступила пирамида кошмарных видений. Простертая к левому краю картины рука умирающего воина идеально уравновешена вытянутой ногой женщины справа (ее голова и торс объяты испепеляющим светом). Между этими крайними точками высится груда расчлененных тел, композиционно перекликающихся с человеческой пирамидой «Плота „Медузы“». Три запрокинутые головы с разинутым ртом истошно кричат в невидимое небо. Пальцы и языки сведены судорогой, как у корчащегося на электрическом стуле. Природе нет места в этом кромешном ужасе – на черно-белых газетных фотографиях видны только обугленные развалины.
Сцена на картине – всего один вырванный из времени момент, но в нем есть свои «до», «во время» и «после»: две женщины, устремленные справа к центру, еще только на пороге страшного открытия; истошно кричащие – в пекле событий; бык в левой части словно оцепенел от чудовищного зрелища. Ось Z в «Гернике» практически отсутствует. Все спрессовано, истончено, расплющено, как был расплющен сровненный с землей город… Между изразцами панно в баскской Гернике пробиваются полевые цветы.
Эдуардо Чильида. Дом нашего отца © Mark Cousins
С мемориальным керамическим панно внутренне связано другое художественное произведение в общественном пространстве Герники – «Дом нашего отца» выдающегося баскского скульптора Эдуардо Чильида, издалека заметное бетонное сооружение, чем-то похожее на носовую часть корабля. Сквозь проем, очертаниями напоминающий лист дерева, видны зеленые кроны (символическая отсылка к легендарному дубу – священному для басков Древу Герники) и небо, с которого на город сыпались бомбы.
Теперь посмотрите на иллюстрацию из рукописной книги жившего в VIII веке испанского монаха Беата Льебанского «Толкование на Апокалипсис». Хотя достоверно не установлено, был ли Пикассо знаком с работой средневекового иллюстратора, это представляется весьма вероятным, во всяком случае исследователи указывают на некоторые визуальные параллели. Обратите внимание на лицо беспомощно простертого внизу человека и его отчаянный крик, обращенный в небеса, на лошадей с высунутыми языками, на общую плоскостную трактовку изображения и взмахнувшую крыльями птицу – и вы согласитесь, что сходство есть. Пикассо хотел, чтобы его «Герника» звучала как труба Апокалипсиса. Миниатюра из книги Беата – прямая иллюстрация разрушительной силы апокалиптической трубы. Художники всегда искали способ докричаться до мира.
Выше мы уже говорили о памятниках, и в определенном смысле «Герника» тоже памятник, только ни имен погибших, ни даты катастрофы мы здесь не найдем. Цель этого произведения не в том, чтобы сохранить для потомков подробности происшедшего. Правильнее рассматривать «Гернику» как протестное высказывание или действие, ведь картина предстала перед публикой в то время, когда Гражданская война в Испании шла полным ходом. Впервые она была показана на выставке в июле 1937 года, а война завершится только к апрелю 1939-го, через год и девять месяцев. Это обвинение, брошенное в лицо генералу Франко. Путешествуя из страны в страну, картина Пикассо кричала миру: Посмотрите, что он творит, что он уже натворил!
Беат Льебанский. «Толкование на Апокалипсис». Иллюстрация из Кодекса Сен-Севера. 1038 / Bibliothque Nationale de France, Paris, France
И в следующие десятилетия XX века визуальность играла важную роль в протестных движениях. В столетнюю годовщину Прокламации об освобождении рабов четверть миллиона американцев приняли участие в Марше на Вашингтон за рабочие места и свободу. Кульминацией марша протеста стало выступление Мартина Лютера Кинга 28 августа 1962 года – его знаменитая речь «У меня есть мечта». Она навсегда вписана в вербальную историю, но и связанные с ней визуальные образы тоже стали каноническими. На фотографиях, сделанных с верхних ступеней мемориала Линкольна, мы видим, как людское море охватило весь периметр вытянутого прямоугольника Зеркального пруда, в котором отражается величественный обелиск – монумент Вашингтона. Впечатляющая картина симметрии, покоя и порядка, достойная садов Версаля, сама по себе звала к возрождению высоких принципов, провозглашенных еще отцами-основателями.
Примерно через сорок лет после бомбардировки Герники в соседней с Испанией Португалии произошел военный переворот, свергнувший диктатуру правого толка. Жители столицы высыпали на улицу приветствовать освободителей. Было это в конце апреля, в сезон гвоздик.
Поддержавшие бескровный протест горожане раздавали гвоздики солдатам, и те вставляли их в петлицы и дула винтовок и автоматов. В те годы мировые средства массовой информации уже создавали невозможную какофонию. Новости сыпались на людей отовсюду, и все сопровождались какими-то образами. И значит, чтобы тебя заметили, чтобы твой протест был услышан, чтобы он расходился кругами все дальше, тебе нужно было изобрести такую образность, которая сумела бы прорваться сквозь все прочие, выйти на большую орбиту, преодолеть переменчивость массового интереса. В погоне за яркими образами съемочные бригады новостных телеканалов ухватились за красные гвоздики, показывая их снова и снова, и поэтому все больше людей начинали воспринимать их как символ исторического момента, социалистического отпора правому режиму (тем более что красный – цвет социализма), как символ бесстрашия перед мощью государственной машины. Белый цвет Ганди говорил: «Мы протестуем против несправедливости властей» – и то же самое говорил португальский красный. «Революция гвоздик» привела к тому, что Португалия, хотя и с большим опозданием, избавилась от своих колоний.
Забегая вперед, в конец XX века, заметим, что протесты и дальше стремились к визуализации. К 1980 году грузинский кинорежиссер Тенгиз Абуладзе был уже признанным мастером, обладателем многих международных наград, но после того, как он попал в автомобильную катастрофу и только чудом остался жив, он понял, что ему нельзя больше откладывать осуществление давно зревшего в нем, во многом рискованного замысла фильма «Покаяние». Картина основана на реальных событиях, происходивших на западе Грузии: местный чекист по ложному доносу отправил за решетку своего ни в чем не повинного односельчанина вместе с детьми; спустя годы вернувшийся из заключения сын отомстил за отца – выкопал недавно преданное земле тело злодея и подбросил к дому его родственников. В фильме Абуладзе сюжет переосмыслен: местный диктатор образца 1930-х по имени Варлам, обвиняющий художника в «индивидуализме», своей риторикой и методами сильно смахивает на Сталина. Через многие годы после расправы над художником его дочь выкапывает из могилы тело Варлама. Мы видим – на первом из воспроизведенных здесь кадров, – как тело тирана сбрасывают с обрыва; там, подгорой, раскинулся некий город с типично советской застройкой. На следующем кадре мы видим прислоненный к дереву труп. Символизм здесь прозрачный, но действенный: память о сталинском режиме не должна быть похоронена. Ее место здесь, на улицах и в парках, где она всегда будет на виду – всегда, как разлагающийся труп, будет вызывать ужас и отвращение.
Мало сказать о «Покаянии», что это настоящее искусство: это одно из наиболее сильных по воздействию художественных произведений за всю историю кино. Самый влиятельный человек в тогдашней Грузии, Эдуард Шеварднадзе, взял производство фильма под свой патронаж. Когда фильм смонтировали, нужно было уладить в Политбюро вопрос о его показе, и тогда Шеварднадзе обратился к генеральному секретарю КПСС, реформатору Михаилу Горбачеву, который рассудил, что историю необходимо видеть такой, как она есть, и прокатная судьба фильма была решена.
Картину Абуладзе увидели миллионы, и это сказалось на ходе перестройки, расшатавшей устои коммунистического режима в Советском Союзе.
«Покаяние», Тенгиз Абдуладзе / Qartuli Pilmi, Qartuli Telepilmi, Совэкспортфильм, СССР, 1984
Стремление избавиться от диктата Советского Союза привело к другому акту визуального протеста, известному как «Балтийский путь». На фото, датированном 23 августа 1989 года, множество людей от мала до велика, взявшись за руки, выстроились вдоль дороги в живую цепь, которой не видно конца. И неудивительно, в акции приняло участие до двух миллионов человек, и цепь растянулась на 600 километров.
Акция протеста «Балтийский путь», 1989 / Latvijas Okupacijas Muzejs
«Балтийский путь» соединил Таллин, Ригу и Вильнюс, столицы трех прибалтийских республик, которые хотели привлечь внимание мировой общественности к заключенному в 1939 году договору между Советским Союзом и нацистской Германией, в особенности к секретному протоколу о разделении сфер влияния в Восточной Европе на случай территориально-политического переустройства. Случай не заставил себя долго ждать, и Прибалтика оказалась под властью Советов. В пятидесятую годовщину подписания двустороннего пакта люди взялись за руки, чтобы выразить свой протест против беззакония и сделать тайное зло явным, экстернализировать его. Жители прибалтийских республик открыто выступили против легитимизации советской власти на своей территории. Через год с небольшим советское руководство осудило секретный протокол и признало его «юридически несостоятельным и недействительным».
В тот же год по Центральному телевидению Китая был показан шестисерийный документальный фильм «Элегия о Желтой реке», который вполне может претендовать на звание самого крупного единичного протеста в истории, хотя за пределами Китая о нем многие даже не слышали. Фильм собрал у экранов 600-миллионную аудиторию зрителей, и его беспрецедентно смелое содержание послужило катализатором цепной реакции, которая привела к одному из самых широкомасштабных нарушений прав человека нашей эпохи – бойне на площади Тяньаньмэнь (скоро и до нее дойдет очередь).
Ровно за год до июньских событий 1989 года на главной площади Пекина острополемическая «Элегия о Желтой реке» впервые за тридцатилетнюю историю китайского телевещания так резко поставила вопрос о целесообразности национальных ориентиров. Авторы фильма высказали крамольную мысль: образ великой державы, издавна культивировавшийся Китаем, не имеет отношения к действительности и пора безоговорочно признать превосходство «западных идей».
«Элегия о Желтой реке», Ся Цзюнь / CCTV, China, 1988
На первом кадре внизу – заставка с названием и извилистой лентой Желтой реки, главным символом телесериала. В этом образе закодирован основной посыл фильма: мировые цивилизации можно условно разделить на желтые, то есть «сухопутные», замкнутые, отсталые, и «синие» – «морские», открытые, прогрессивные.
Создатели сериала сетовали на то, что Китай не сумел «капитализировать» даже собственные великие изобретения, такие как бумага и тушь, и далее с помощью оппозиции «желтый – синий» (комбинацию этих цветов мы рассматривали в главе 1) объясняли, почему промышленная революция не затронула Китай. Вывод напрашивался сам собой: стране необходимо срочно пробудиться и провести полный пересмотр ценностей.
Подавался сериал как размышление о путях модернизации Китая, а задумывался как призыв к радикальному политическому переустройству. Желтая река (Хуанхэ), как символическая колыбель китайской цивилизации, слишком долго удерживала сознание китайцев в тисках изоляционистского конформизма – догматичного конфуцианства, не позволявшего стране перенять опыт передовых глобальных экономик. Строительство Великой стены, по мнению авторов фильма, лишь усугубило замкнутость Китая, отгородив его от остального мира.
Убедительную вербальную аргументацию сопровождал сложный мозаичный монтаж архивной кинохроники. Своеобразным камертоном стало изображение, полученное в результате аэрофотосъемки, – взгляд с высоты, предполагавший волевое усилие, отрыв от «почвы», устоев, традиционной культуры, в которую Китай врос слишком крепко. Один за другим визуальные символы «китайскости» подверглись критическому переосмыслению. В Великой Китайской стене авторы увидели изоляционизм, кичливость и самообман, в имперском драконе – сомнительный символ интроспекции. В общем и целом «Элегия о Желтой реке» призывала страну покончить с косностью и открыться для внешних влияний.
Эффект был грандиозный. «Желтую реку» посмотрело больше половины населения Китая. Все национальные газеты частями печатали сопроводительный текст, нередко на первой полосе. Посыл дошел до интеллигенции, рабочих, студентов и крестьян – до всех социальных групп. По следам фильма вышло сразу семь книг! Для его обсуждения были организованы летние семинары.
Но очень скоро стало понятно, что успех провокационного телесериала радует далеко не всех. С точки зрения властей, он вызывал нежелательный резонанс в обществе. После первого показа «Элегию о Желтой реке» запретили. Партийный отдел пропаганды пришел к запоздалому выводу, что по своей направленности это материал «непатриотичный» и «антикоммунистический» и повторную трансляцию допускать нельзя. Некоторых из создателей фильма арестовали, другие успели уехать на Запад. Китайские власти не на шутку испугались. Смелость эстетического и политического высказывания «Желтой реки» вызвала жаркую полемику по всей стране и подогрела студенческое движение за свободу и демократию. Но у власти имелся в запасе неопровержимый аргумент – танки. В своем творчестве вольнодумцы зашли слишком далеко. Под их опасное влияние подпали идеалисты из числа протестующих и реформаторов – все те, кого китайский лидер Дэн Сяопин назовет «отбросами общества».
Накал противостояния между руководством страны и всеми несогласными привел к кровавой расправе на площади Тяньаньмэнь, в ходе которой от 200 до 1000 человек, в большинстве своем студенты, были расстреляны солдатами Народно-освободительной армии Китая. Казалось бы, смерть Мао Цзэдуна в 1976 году означала конец периода идеологического доктринерства и деспотии. Его преемник Дэн Сяопин взял курс на экономические реформы и материальное процветание. На практике это выразилось в сдерживании одних цен и безудержном росте других. Люди на собственном опыте узнали все пороки капитализма – взяточничество, страх безработицы, жадность, стремление к сиюминутной выгоде, инфляция… И если гражданам теперь предстояло мириться с этим, то взамен им – особенно студентам и интеллектуалам – хотелось получить преимущества западной демократии. Но в этом вопросе партия была непреклонна. И тогда люди пошли на голодовку и другие крайние меры. Самый знаменитый кадр кинохроники, снятой в момент этого конфликта, – неизвестный молодой человек с авоськой, вставший на пути у танковой колонны.
Протестующий на площади Тяньаньмэнь, 1989 © Jeff Widener / AP Photo
Мужественный протест этого парня несомненно производит впечатление, но съемка велась «извне», с удаленной высокой точки с помощью супердлиннофокусного объектива. Сравните этот кадр с другим. Один из участников голодовки на третий день потерял сознание. Молодой человек в «маоистской» рубашке цвета хаки несет его на спине, хотя и сам выглядит изможденным – возможно, тоже голодает. Теперь мы смотрим на происходящее, находясь на уровне земли, угол охвата широкий: мы видим, из кого состоит толпа на заднем плане. Второй снимок дает нам ощущение близости, сопричастности; в нем меньше отстраненности и символики, но он окрашен индивидуальными проявлениями чувств.
Рассказы о голодовке тронули простых китайцев. На площадь стеклись сотни тысяч. Именно в эти дни должна была состояться первая за прошедшие тридцать лет советско-китайская встреча на высшем уровне, и торжественную церемонию в честь визита Михаила Горбачева планировали провести на площади Тяньаньмэнь. Но и это не заставило протестующих очистить площадь. Чтобы избежать конфуза, китайским властям пришлось перенести церемонию в другое место. Страсти накалялись все больше, и в конце концов войска открыли огонь. Корреспонденты зарубежных СМИ припали к своим камерам.
Протестующие на площади Тяньаньмэнь, 1989 © Sadayuki Mikami / AP Photo
Какие мысли роились в голове у протестующего на площади молодого человека, пока он не потерял сознание? Вероятно, ему хотелось, чтобы ведущие китайские СМИ верно осветили его мотивы и требования. Он выступал за свободу демонстраций, реформу образования (в частности, дополнительное финансирование), которое позволило бы студентам лучше ориентироваться в реалиях нового Китая. Он выступал за то, чтобы доходы партийной номенклатуры стали прозрачными. Вероятно, он понимал, что традиционный конфуцианский конформизм веками воспитывал в гражданах покорность и долготерпение. И скорее всего, он тоже видел «Элегию о Желтой реке».
Насколько отличались его чаяния от того, что занимало Эмили Дэвисон или вот этого сирийца – последнего из наших протестующих, – который стоит с самодельным плакатом посреди лагеря беженцев на греко-македонской границе в марте 2016 года?
Протестующий на греко-македонской границе © Mark Cousins
На его лице печать усталости. Позади бредет какая-то женщина. На проволочном ограждении сушится белье; забор построили недавно, чтобы перекрыть беженцам доступ к железнодорожным путям, ведущим на север, в Македонию. Свое воззвание сириец написал на упаковочном картоне – написал как мог, на малограмотном английском, – и теперь безмолвно стоит с ним час за часом. Трудно представить себе более примитивный, доморощенный способ достучаться до мира. Но человек пытается – в надежде, что его заметят и его фотография или видео попадет в Сеть. Он мог бы держать перед собой репродукцию «Герники» Пикассо. И вместе со всеми, кто выражал протест до него, не важно где и когда, взяться за руки и выстроиться в линию, которой не видно конца. Точно так же как Дэвисон, Пикассо, митингующие в Вашингтоне, участники «революции гвоздик», прибалтийцы, Абуладзе, создатели «Элегии о Желтой реке» и голодающие на площади Тяньаньмэнь, он экстернализирует несправедливость. Несправедливость – это нехватка, отсутствие того, что должно быть. Протестующие своими действиями привлекают внимание к отсутствию.
Модернизмы
Именно этим и занимались многие крупные художники-модернисты начала XX века – привлекали внимание к отсутствию. Вопрос только в том, чем это вызвано – центробежным, как у протестующих, воображением, которое по спирали раскручивалось все шире, от «я» в мир? Или же авангардному искусству тех лет свойствен скорее обратный процесс?
Начнем с одного религиозного русского, художника Василия Кандинского, который с детства был окружен иконами. Как мы уже видели в главе 4, иконный лик часто смотрит не прямо на нас, а словно бы мимо, поверх нашего плеча, устремляя взгляд в иной, метафизический мир. Этот мир и писал Кандинский. Он верил в грядущий апокалипсис и, разделяя идею модной тогда теософии о конечном воцарении мира духа взамен мира материи, ощущал себя в живописи пророком. На этом полотне 1913 года мы можем при желании увидеть самые разные вещи. Вулкан? Вавилонскую башню?
Василий Кандинский. Маленькие радости. 1913 © Solomon R. Guggenheim Museum, New York, USA / Bridgeman Images
Цветовая палитра здесь яркая, жизнеутверждающая. Вот гора выступает из волн, а вверху справа, «на небе», вроде бы фигурки людей. Хотя эта картина – без пяти минут абстракция, Кандинский, возможно, закодировал в ней апокалиптическое видение, будущую Большую вспышку, отсюда буря и смятение и вместе с тем что-то древнее, доисторическое, вроде наскальной живописи. Наш взгляд блуждает по кругу, цепляясь за «солнца» и «животных», а потом уносится вверх, в хмурое небо – или рокочущее море? После этих слов поневоле вспоминаются знаменитые пейзажи Уильяма Тёрнера, тоже огненно-рыжие, солнечно-туманные или грозовые.
Можно ли считать, что Кандинский и все вышеупомянутые протестанты делали одно дело, только разными средствами? На первый взгляд, нет. Протестующие ставили перед собой совершенно конкретную, социально значимую цель и старались обеспечить своим идеям широкую поддержку, в то время как полотно Кандинского («Маленькие радости») едва ли претендует на роль орудия переустройства мира. И тем не менее в политической акции протеста и творческом жесте художника есть нечто общее: желание открыть людям глаза на несовершенство окружающей действительности, вопиющий дефицит справедливости – или духовности, и в этом смысле живописец смыкается с протестантом; он поднимает над головой свою картину и говорит всем: «Смотрите! Вот что нам нужно!»
Пабло Пикассо. Авиньонские девицы. 1907 / Museum of Modern Art, New York City, USA
У других художественных течений отношения с внешним миром складывались еще сложнее. В отсутствие телевидения главным поставщиком зрительных образов было искусство. В 1904, 1905, 1906 и 1907 годах в Париже выставлялись картины «деревенщины» Сезанна, и его диковинная «оптика», фигуры-манекены и цветовые ощущения стали восприниматься не просто как один из многих вариантов «перехода через Гималаи», но и как нечто интуитивно созвучное атомному веку. «Влияние Сезанна постепенно распространилось на всё без исключения», – признался Пикассо. Под впечатлением от работ Сезанна на выставке 1906 года Пикассо написал воспроизведенную здесь картину «Авиньонские девицы», напоминающую театральный задник, – искусство кройки и шитья в такой же мере, как искусство живописи. Мы видим незакрашенные участки и отсутствие пространственной глубины и вновь вспоминаем Сезанна и его «Извилистую дорогу». Сюжет картины – пять женщин и натюрморт с фруктами – намного более узнаваем, чем апокалипсис Кандинского, но отчего-то нам кажется, что мы застигли женщин врасплох (как Актеон – Диану на полотне Тициана), да еще в момент таинственного превращения. У двух центральных фигур черты лица более или менее традиционные (для Пикассо, во всяком случае), но у той, что слева, лицо странно потемнело, словно оно на наших глазах преображается – как Джекил в Хайда, – а лица двух женщин справа уже полностью превратились в маски, и сами они вполне сошли бы за монстров из «Доктора Кто». Их геометризированные, затененные плотной штриховкой лица-маски возникли после визита Пикассо летом 1907 года в парижский этнографический музей. Всем известно, что там он впервые увидел африканское искусство и был поражен его выразительностью и геометричностью на грани абстракции, той древней абстракции, с которой мы встречались в главе 4.
Белые француженки, скорее всего проститутки, превращаются в негроидных женщин из «времени сновидений» – не то шаманок, не то бесноватых, не то архетипы коллективного бессознательного (по Юнгу). Причем удивительная метаморфоза происходит не только с женщинами, но и с пространством. Иначе как могли бы мы видеть тело женщины справа со спины, а голову анфас? Поворачивать голову на сто восемьдесят градусов способна разве что героиня хоррора «Изгоняющий дьявола». Но, может быть, художник всего лишь воображал, что обходит женщину кругом и рассматривает под разными углами, а после взял и совместил на картине противоположные точки зрения? Нечто похожее мы наблюдали в египетской скульптуре, когда фигура дана анфас, а голова в профиль, с тем чтобы контуры головы и тела были обрисованы предельно отчетливо. При этом фрукты у нижнего края картины написаны так, словно мы смотрим на них сверху. Подобная множественность точек зрения провоцирует вопрос: быть может, перед нами не пять разных женщин, а одна, изображенная в разных позах, как на страницах блокнота для набросков? Голубой фон собран из лоскутов, по форме похожих на куски пиццы и согнутые в локте руки «девиц». И вновь как у Сезанна, в портрете жены художника, кисть живописца не делает различий между одушевленными и неодушевленными предметами.
На пару со своим другом и единомышленником Жоржем Браком Пикассо задумал отойти от академического правила показывать объект с одной точки зрения. В «Авиньонских девицах» уже нет этой единой, доминирующей точки зрения. Художник словно движется по кругу в процессе создания картины, глядя на группу женщин (или на каждую из них в отдельности) с разных сторон, и в результате на холсте возникает «коллаж» из угловатых, грубо нарубленных форм, акульими плавниками врезающихся в живописную поверхность. Новый стиль получил название «кубизм». Вещи и люди интересовали кубистов больше, чем пейзажи: музыкальные инструменты, кувшины, газеты, игральные карты, бутылки и лица – словом, все, что видишь в кафе, – стали их главным предметом изображения.
За четырнадцать лет до «Авиньонских девиц» норвежец Эдвард Мунк тоже написал человека с лицом-маской на фоне условного «задника».
Как уже говорилось, в «Крике» Мунка кроваво-красные всполохи, напоминающие апокалиптическое огненно-рыжее небо Кандинского, отчасти объясняются атмосферными эффектами гигантского вулканического извержения. Но главное здесь – человек на переднем плане, который кажется объятым смертельным ужасом от чего-то увиденного или услышанного. Он кричит, вопит во всю мочь, зажав руками уши. Быть может, те двое, оставшиеся позади, открыли ему нестерпимо горькую правду? Его фигура – невнятная темная форма с головой-черепом. Однако и мир вокруг тоже невнятный, аморфный, расплавленный, дошедший до точки кипения, до перехода в иное состояние. Пейзаж с мостом становится отражением душевной муки персонажа.
Эдвард Мунк. Крик. 1893 / National Gallery, Oslo, Norway
Фрагментарность «Авиньонских девиц» и визуальное созвучие персонажа и его окружения по-своему преломляются в кадре из кинокартины 1919 года.
«Кабинет доктора Каллигари», Роберт Вине / Decla-Bioscop AG, Germany, 1920
Первое впечатление от этой комнаты, как и от «Авиньонских девиц», – сходство с условным театральным задником. Сцена освещена, но теней как таковых практически нет, кроме явно нарисованных. Этот модернистский стиль, экспрессионизм, распространился на литературу, театр и архитектуру. В противоположность импрессионизму, который реагировал на визуальные стимулы, экспрессионизм их производил. Да и в самом его названии заложена устремленность вовне. Задача экспрессионизма – показать мир таким, каким его видит и ощущает герой произведения. Его внутреннее, душевное состояние проецируется на внешний мир, «инфицирует» все, с чем соприкасается, преображая архитектуру, пейзаж, перспективу и прочую видимую реальность. В данном случае герой (неподвижно сидящий в ящике мужчина, с черно-белым, под стать комнате, лицом) – некто Чезаре, человек-сомнамбула, которого за деньги показывают в ярмарочном балагане. Господин в шляпе – доктор Калигари, его таинственный хозяин и наставник. По сюжету Чезаре несомненно душевнобольной. Впрочем, как выясняется, доктор Калигари и сам с большими странностями, и гротескная асимметрия их мира – левая стена наклонена сильнее правой, окно-глаз причудливо объединяет в себе свет и тьму – это проекция их деформированной психики.
Поскольку мы уже знаем, что всякое зрительное восприятие включает в себя, в той или иной мере, и механизм проецирования, этот художественный образ можно рассматривать как великолепное обобщение, которое демонстрирует зрительный механизм любого, не только душевнобольного человека. При этом надо заметить, что в фильме не все так просто: под конец мы видим, что вполне здравомыслящий вроде бы персонаж, из чьих уст мы слышим историю Чезаре и доктора, на самом деле пациент психиатрической лечебницы и, вероятно, это его больное воображение искажает облик окружающего мира.
Расстроенная психика Винсента Ван Гога приводила к созданию образов, подобных «Кабинету доктора Калигари», в которых внутреннее состояние художника обретало внешнее выражение. Понятие о внешнем и внутреннем связано с идеями Зигмунда Фрейда, столь же необходимыми для понимания авангардной визуальной культуры начала XX века, как и идеи Альберта Эйнштейна. Великой экстернализирующей силой эпохи был протест, но и Фрейд по-своему тоже. Фрейд утверждал, что в нас сокрыт довербальный мир образов, желаний и страхов, но дверь в него заперта. Потрясающая скульптура Генри Мура «Шлем» – словно зримое воплощение идей Фрейда. Отверстия в наружном «черепе», или оболочке, открывают внутреннюю структуру.
«Звёздные Войны. Эпизод IV – Новая надежда», Джордж Лукас / Lucasfilm, Twentieth Century Fox Film Corporation, USA, 1977
Эта внутренняя форма кажется какой-то детской, инфантильной, заботливо оберегаемой или хранимой в темноте. «Шлем» Мура и шлем на следующей фотографии разделяют десятки лет, но оба говорят нам о чем-то сокрытом, невидимом и неведомом, тревожном.
Дарт Вейдер («темный отец») из «Звёздных Войн», первоначально воплощавший в себе дух рыцарства и отцовства, предал благородные идеалы и превратился в нечто вызывающее протест и одновременно – в тревожный символ всего того, что не осознается нами, но подспудно присутствует в нас. Фрейд показал, что подавленные и вытесненные в область бессознательного эмоции являются источником неврозов и истерий. Его психоаналитическая теория дает нам ключ от запертой двери, за которой скрываются неосознанные, но довлеющие над нами желания и страхи. Однажды ему приснилась картина Арнольда Бёклина «Остров мертвых», которая и сама по себе – запечатленное в красках видение из сна. В конце XIX – начале XX века картина пользовалась невероятным успехом (среди ее поклонников был, между прочим, Адольф Гитлер). Но нас она интересует как зримая метафора теории Фрейда.
Скалистый полумесяц острова напоминает человеческий череп или шлем на голове Дарта Вейдера; внутри – темные кипарисы бессознательного. В разделе, посвященном гробнице Тутанхамона, упоминалось о том, что Фрейд годами мечтал побывать в Риме. Археология увлекала его. Археолог, раскапывающий то, что скрыто под напластованиями последующей истории, в чем-то сродни психоаналитику; руины можно толковать как символы подавленных желаний и страхов. У Бёклина деревья растут посреди руин и под защитой руин: значит, руины плодородны, далекий остров ждет гостей… Тихо скользит лодка по неподвижной темной глади – «не в добрый час в сиянье лунном», как говаривал Шекспир; в лодке гребец и фигура в белом, она стоит лицом к острову и смотрит, как неминуемо приближается к ней бухта смерти – или, может быть, ее собственное бессознательное. Кажется, будто на лодке установлен кинопроектор, а остров впереди – картинка на экране.
Арнольд Бёклин. Остров мертвых. 1880 © Kunstmuseum, Basel, Switzerland / Peter Willi / Bridgeman Images
Парадокс заключается в том, что Фрейд, столько масла подливший в огонь визуальности XX века, был очень чуток к вербальности. По его мнению, непроизвольная игра слов и обмолвки – это беглецы из каземата бессознательного, которые разглашают правду о запертых там мыслях и чувствах. Это всем знакомые «оговорки по Фрейду», случайно проскакивающие в речи или на письме мелкие, но красноречивые оплошности – по-научному «парапраксис». Значительную часть жизни Фрейд посвятил тому, чтобы сделать визуальное – например, сновидения – вербальным, обезвредить угрожающее психике тайное взрывное устройство. Если экстраполировать эту идею на мировую историю, то величайшая европейская травма той эпохи, Первая мировая война, – не что иное, как чудовищный парапраксис, выброс ужаса, обнаживший одиозное нутро хваленой европейской цивилизованности.
Начиная с 1915 года неприятие войны визуализировалось в нейтральной Швейцарии и других странах средствами провокационного сатирического «антиискусства» дадаистов. Они считали, что после Галлиполи, Ипра, Вердена видимый мир не вправе оставаться прежним. Эту тележку с яблоками пора опрокинуть. Современное общество должно регистрировать первые признаки травмы, как игла сейсмографа регистрирует надвигающееся землетрясение. В 1920-х годах, тоже отчасти под впечатлением от ужасов Первой мировой, но главным образом под впечатлением от теории Фрейда, образовалась группа художников, писателей, эротоманов, которые вошли в историю как одни из самых рьяных визуализаторов всех времен. Формально сюрреализм начался с манифеста Андре Бретона (1924), словесного документа о словах, но основная энергия сюрреализма была в гораздо большей степени направлена на изображение довербального мира желаний и страхов (каземата, острова), чем на изображение поствербального мира избавления от них. Показывая в явной форме то, чего увидеть нельзя, или попросту игнорируя сетчатку, они перевернули наши представления о границах визуальности.
Взять хотя бы вот этот позднесюрреалистический образ – полотно «Вольтаж» американской художницы Доротеи Таннинг, которая дожила до XXI века, а живописи училась, по ее признанию, вглядываясь в картины других художников.
Доротея Таннинг. Вольтаж. 1942
Перед нами обнаженный женский торс, только почему-то без головы, хотя волосы на месте и одна туго заплетенная коса-жгут спускается к левой груди и, кажется, проникает в нее через металлический замок на соске. В правой руке безголовая женщина держит бутылочный штопор с глазами на рукоятке – уж не ее ли собственными? Если так, то с ней происходит знакомая всем вещь, когда во сне ты словно раздваиваешься и, отделившись от своего тела, смотришь на себя со стороны. Твое видение экстернализируется, или овнешняется. Она смотрит на себя так, как мог бы смотреть ее любовник, и оттого ее нагота кажется подчеркнутой, нарочитой, с оттенком нарциссизма. Этот эффект достигается благодаря тому, что наш взгляд движется по картине, следуя изгибам белого шарфа и золотистых волос; еще одну дополнительную дугу образуют волосы сверху, правая рука и глаза. Ни одна из линий не уводит взгляд за раму картины, и даже мореподобный фон удерживает его внутри. Таким образом, сюжет картины – обнимающее само себя, играющее с собой так и этак «я» художника, и ничего больше.
Франческо дель Косса. Святая Луция Сиракузская. Ок. 1473–1474 © National Gallery of Art, Washington DC, USA / Bridgeman Images
Таннинг никогда не говорила о сюжетном источнике своей картины, но можно не сомневаться, что далеким предком ее обнаженной была святая Луция Сиракузская (283–304), о которой нам почти ничего не известно, хотя к началу XV века сложилась легенда, будто бы она пострадала за христианскую веру и перед смертью мучители вырвали ей глаза. Поэтому Франческо дель Косса изобразил ее на алтарном полиптихе.
Глаза-цветки на стебле в ее руке поразительно схожи с глазами на полотне Таннинг, и сходство еще больше усиливают золотистые волосы ренессансной святой и ее белая повязка, концы которой спадают на грудь. Но не менее заметны и различия. Святая Луция изображена как полагается – с лицом и глазами, скромно опущенными долу. А «внешние глаза» с укоризной смотрят на нас, и в этом ясно читается мораль. Картина Таннинг написана с прямо противоположной интенцией – сделать тайное явным, но отнюдь не осуждать. Луция – подвижница христианской веры, в те времена еще нуждавшейся в защите, тогда как у Таннинг женщина поглощена исключительно собой. Когда Луцию похоронили, ее глаза чудесным образом вернулись в глазницы, так что, возможно, дель Косса запечатлел ее посмертный облик. Святая Луция – покровительница слепых, и глаза – ее традиционный атрибут (правда, обычно их изображают на блюде). Католическая образность, со временем все больше приобретавшая барочные черты, порой бывала и сюрреалистична. Глубокое религиозное переживание, вероятно, в чем-то перекликается с визионерскими переживаниями сновидца, а именно в способности верующего испытывать экстатическое состояние.
Колоннада в Турине © Mark Cousins
Доротея Таннинг вышла замуж за немецкого художника Макса Эрнста, внесшего свой вклад в сотканный из сновидений ландшафт сюрреализма. Первые элементы нового стиля появились еще в работах греко-итальянца Джорджо де Кирико: ирреальный, метафизический пейзаж-мечта с резкими тенями и неправдоподобной синевой. Де Кирико некоторое время жил в Турине и полюбил глубокие перспективы портиков и колоннад вроде вот этой.
Они словно кроличьи норы – неизвестно, что ждет тебя в конце пути и где ты окажешься. Кроме того, в отличие ренессансных композиций с единой точкой схода, у де Кирико таких точек множество, по сути – сколько колоннад (или других архитектурных сооружений), столько и перспектив. И хотя каждая обозначена предельно четко – импрессионистическая зыбкость и мерцание не для де Кирико! – между собой они вступают в противоречие. В его городе невозможно ориентироваться, а если попробуешь, то увидишь, что пространство схлопывается, как мнимая реальность в фильме «Начало» (2010). В этом чудятся отголоски кубизма, и действительно, в метафизических пейзажах присутствует его первейший элемент – пространственная несообразность с точки зрения привычного зрительного восприятия. Словно для того, чтобы ни у кого не осталось сомнения, что все это прямо связано с нашим способом видения, в 1918 году де Кирико написал картину «Две головы». Голова слева лишена способности видеть, тогда как у красной, справа, глаза напоминают вход в железнодорожный туннель – или, может быть, правильнее сравнить их с туринскими портиками и аркадами. Свет в этом условном мире вроде бы обыкновенный, головы отбрасывают тени. Но что означает разделяющая головы наклонная доска и как понимать заклепки на «лице»? Головы явно поглощены чем-то, захвачены, возможно, встревожены – одна пугливо медлит, словно хотела бы спрятаться, другая отважно двинулась вперед навстречу жесткому белому свету.
Джорджо де Кирико. Две головы. 1918
Лицом сюрреализма был Сальвадор Дали, гениальный творец собственного мифа, экстраверт, эксгибиционист, мастер саморекламы (чего стоят его знаменитые усы!), сорежиссер «Андалузского пса». С придуманного им образа разъятого глаза мы начали разговор о том, как смотрели в XX веке. Его фирменным знаком стало изображение расплавленного, тающего, растекающегося объекта, будь то часы или часть тела; при желании в этом можно усмотреть отголоски теории Эйнштейна, метафору импотенции или идею метаморфозы – превращения внешнего твердого мира в мягкий внутренний. Если де Кирико снабдил ландшафт сновидений резко очерченными колоннадами, то Дали наделил его эфемерностью. В левой части картины «Африканские впечатления» художник изобразил себя (сохранились замечательные этюды к этому автопортрету) наполовину скрытым холстом на мольберте: он вглядывается во внешний мир, взглядом проникает в него. Затененный глаз художника широко раскрыт, в нем читается настороженность, а возможно, и страх. Он видит так много, что вскинутая вперед рука, кажется, говорит: «Хватит!»
Сальвадор Дали. Африканские впечатления. 1938 / Museum Boijmans, Rotterdam, The Netherlands
Картина очень информативна в контексте нашего разговора о визуальности, потому что ее задний план играет роль обратной проекции, фантасмагорической амальгамы увиденного и всех тех образов, которые роятся в его голове, иными словами – его «оптики». Прямо над ним – его жена, сходство несомненно, но при этом ее глаза темнеют на лице словно пещеры, вырезанные в белой скале. Ее окружают люди и горы, одну из форм моно принять за крыло птицы… И одновременно, вопреки всякой логике, перед нами как будто бы уличная сцена в каком-то пыльном южном городе, какую мог наблюдать упомянутый в главе 3 калькуттский старик-индус. Справа от мольберта – фигура сидящего человека с горестно склоненной головой, еще правее – четыре босоногие фигуры, почти сливающиеся с пейзажем. Под занавес этой визуальной истории мы понимаем, что в «Африканских впечатлениях» есть отсылки к одной из самых прославленных испанских картин – «Менинам» Веласкеса.
«Годзилла», Иширо Хонда / Toho Film (Eiga) Co. Ltd., Japan, 1954
Дали, скорее всего, и не был в Африке, просто разместил свои шахматные фигуры на плоскости из песков и барханов. Он создает иллюзорный, пустынный, пронизанный зноем, статичный ландшафт, и в этой условной Сахаре все зыбко и обманчиво, как мираж. Вообще мираж в пустыне – явление хорошо известное: перегретая земная поверхность отражает лучи света, падающего, например, от полосы неба над горизонтом, с искривлением (так называемая рефракция), и тогда мы видим ниже линии горизонта сверкающую водную гладь. При очень низких температурах наблюдается противоположный, верхний, мираж: то, что в реальности находится ниже горизонта, кажется зависшим над ним. Кроме того, в жарком воздухе возникает эффект марева: если смотришь поверх костра, то «картинка» за ним колышется и мерцает перед глазами. Дали мало интересовался кинетической стороной явления, но он снова и снова, теми же мазками, в той же технике, совмещал на холсте несовместимое (скажем, глаза жены и пещеры) – и наш мозг ошарашенно мечется взад-вперед, пытаясь разгадать, в чем тут подвох. Это своего рода зрительные каламбуры – парадоксальные параллели между несхожими вещами (штопор – глаза), которые играют с понятием «пространство-время» и выступают в роли «погонялок» сознания зрителя. Сюрреализм обожал такие уколы и пинки. Рядом с ним вся прочая визуальность выглядела пресной, ограниченной, буржуазной. Ближе к середине XX века, после того как Соединенные Штаты сбросили бомбы «Малыш» и «Толстяк» (уж не сюрреалисты ли помогли придумать названия?) на Хиросиму и Нагасаки, разом убив четверть миллиона человек, в популярном японском кинематографе родился злобный монстр Годзилла, кошмарный сон городской цивилизации. С одной стороны, это «Малыш» и «Толстяк», вместе взятые, с другой – символ всего того, что тихо спит, пока не пробьет его час. Атомные бомбы разъяли поверхность, и чудовище из темницы страха вышло на свободу, вернее – вырвалось и пошло крушить все вокруг. Пройдет немного времени, и появится новая, энвайронменталистская интерпретация Годзиллы, но так или иначе это один из лучших примеров визуализации бессознательного в XX веке.
На многих картинах Дали декорацией служит не пустыня, а океан. Еще больше воды в сюрреалистических пейзажах-видениях Ива Танги, родившегося на четыре года раньше Дали в Париже в семье чиновника военно-морского министерства; в молодости будущий художник и сам служил на флоте. В его воображении нередко возникало что-то вроде инопланетного морского дна. Так, на картине «Призрачная страна» синева де Кирико и композиционное построение а-ля Дали сочетаются с биоморфными формами подводного царства.
Ив Танги. Призрачная страна. 1927 © Detroit Institute of Arts, USA / Gift of Lydia Winston Malbin / Bridgeman Images
У Танги не было художественного образования, но однажды он увидел картину де Кирико и понял, что должен посвятить себя живописи. Если психоанализ Фрейда можно уподобить рыбной ловле (забрасываешь леску с крючком и надеешься выудить что-нибудь из глубины на свет, из бессознательного в сознательное), то семь тонких вертикальных полос-лесок в «Призрачной стране» нужно понимать как пути наверх, на поверхность обыденной жизни.
Сюрреализм побуждал проводить неожиданные параллели и привлекал внимание к латентным явлениям, и здесь уместно вспомнить о событии апреля 1912 года, звездном часе де Кирико и Пикассо, поразившем воображение XX века настолько, что его тень лежит и на предыдущих абзацах. В той катастрофе погибло около полутора тысяч человек, а одно из самых эффектных в зрительном отношении творений начала XX века ушло в небытие. Океанский лайнер «Титаник» представлял собой плавучую модель общества, стратифицированного согласно капиталистическим представлениям о классах. Грандиознейшее создание человеческих рук и человеческой гордыни – эдакий горизонтальный небоскреб. В его образную систему входят холодная и ясная лунная ночь, вероятная оптическая иллюзия, условное морское чудище и дно океана. Британский историк Тим Малтин скрупулезно сопоставил все данные о погодных условиях в тот злополучный вечер и пришел к выводу, что возникновение так называемого верхнего миража более чем вероятно: линия горизонта зрительно могла подняться и на ней могли возникнуть проекции удаленных объектов, плохо или вовсе невидимых в реальности с борта корабля, в то время как объекты, находившиеся ближе, исчезли из поля зрения, пока расстояние до них не стало критическим.
Памятуя о мысли Фрейда, что в сновидении любой элемент может выступать в образе своей противоположности, давайте отвлечемся от лайнера и обратимся к его «противоположности» – к наиболее вероятной причине его гибели.
Рене Магритт. Голос крови. 1947–1948
В предыдущих главах книги нам уже приходилось сталкиваться с невидимым. Кажется, будто, глядя на айсберг-убийцу, ты почти наяву видишь очертания его жертвы. В этой фотографии навеки поселился призрак.
Последний из наших сюрреалистов гораздо внимательнее других смотрел вокруг и, кроме того, обогатил иллюзорный пейзаж сюрреализма драматическим временем суток – сумерками. В главе 2 мы видели знаменитую картину Магритта: человеческий глаз с небесно-синим белком, по которому плывут облака. Думается, это удачный выбор для знакомства с художником, чьи картины так много говорят нам о зрительном восприятии и о различных «входах» в видимый мир – окнах, зеркалах, туннелях, мольбертах, дверных проемах. Картина «Голос крови» в известном смысле подводит итог его философским исканиям.
Подобно Вермееру, Магритт обрамляет живописный образ занавесом, чтобы создать у нас ощущение, будто бы все, что мы сейчас видим, недавно было скрыто и вдруг предстало перед нашим взором. В просвете между полотнищами занавеса расстилается пейзаж. Рама, в которую он заключен, обозначает границу между миром обыденного и миром ирреального. На переднем плане, по эту сторону занавеса, дерево с двумя открытыми дверцами в стволе: за одной – дом с освещенными окнами, за другой – белый шар (типичная для Магритта форма). В отличие от Пикассо и Брака, дробивших объекты на грани, Магритт не покушался на цельность объекта – будь то яблоко, трубка, рыба, шляпа-котелок, зонт, дерево – и, напротив, утрировал его весомость и значимость, так что нередко объект заполняет собой все пространство комнаты. Жизнь на его картинах предстает чем-то вроде «кабинета курьезов», или специального шкафа-витрины, где выставлены разные диковинные вещи.
Уходящий вдаль пейзаж по ту сторону занавеса можно было бы сравнить с пейзажем на заднем плане «Моны Лизы» Леонардо, если бы не одна странность – звезды на небе, хотя само небо голубое, а не черное, как ночью. Это обстоятельство и еще то, что в окнах горят огни, уносит наше воображение к тому пограничному времени суток, которое казалось Магритту исполненным особого значения: когда день еще не совсем погас, а ночь не вполне вступила в свои права. В этой работе художник, возможно, вплотную приблизился к самой сути сюрреалистического овнешнения. Чем дальше мы уносимся вовне, тем глубже зарываемся внутрь.
Чтобы попасть в иллюзорный пейзаж-сновидение, нужно преодолеть границу между днем и ночью, выйти за раму. Об этом неоднократно напоминал Жан Кокто, один из самых знаменитых кинорежиссеров-сюрреалистов. В фильме «Кровь поэта» (название неспроста перекликается с «Голосом крови» Магритта) художник-поэт в поисках новой образности и нового видения устремляется в мир фантазии – ныряет, как в омут, в большое зеркало на стене. То есть зеркало здесь не просто зеркало, а символ, вход в иное измерение, метафора зазеркальной игры смыслов Магритта, или мнимостей Дали, или теорий Фрейда. Оно проницаемо, как поверхность воды, и наглядное тому подтверждение – фонтан брызг. Наверное, мы не слишком далеко уйдем от истины, предположив, что этот образ родствен разъятому, препарированному глазу.
«Кровь поэта», Жан Кокто, Франция, 1932
Если мы обратимся к модернистской литературе начала XX века, то увидим, что там тоже происходило овнешнение внутреннего видения автора, однако чаще иными, не сюрреалистическими способами. В XIX веке, как мы помним, ведущей тенденцией в литературе был натурализм. В противоположность этому «объективному» методу отображения видимого мира авангардисты настаивали на том, что взгляд художника – неотъемлемая часть его сознания, постоянно меняющегося или фрагментарного. И свою задачу они видели в экстернализации движений души. Отдельные ростки подобного модернистского подхода можно было заметить еще до его расцвета в начале XX века. Так, в 1890 году уроженец Дублина Брэм Стокер под впечатлением от развалин йоркширского аббатства Уитби дал волю своему воображению в типичной для позднего романтизма манере. Руины древнего монастыря, разоренного в эпоху протестантской Реформации, его некогда величественные формы, от которых остались только печальные остовы, весьма, впрочем, живописные и поэтические, вкупе с полуфольклорными восточноевропейскими легендами, заинтересовавшими писателя в то же время, привели его к созданию романа «Дракула». И хотя роман не является произведением модернистской литературы, в его генезисе несомненно присутствуют признаки модернизма, если исходить из того, что вид монастырских развалин трансформировался в прозу почти по законам синестезии.
Динамизм большого города, социальная панорама, новая визуальность в жизни и кинематографе – все это так или иначе исследовал Марсель Пруст в своей семитомной автобиографической эпопее «В поисках утраченного времени». Люди его эпохи постигали смысл существования не столько через церковное богослужение и молитвенное созерцание, сколько через непосредственное участие в безостановочном буги-вуги современной жизни. Словно Галилей иных времен, Пруст смотрит на жизнь в телескоп, сначала фокусируясь на жесте и одежде, затем включая в поле зрения более широкую картину. Уже на первых страницах состояние выхода из сна он сравнивает с картинкой в калейдоскопе. Комната в Донсьере – «оптический центр». Монокль, призма, увеличительное стекло упоминаются неоднократно. В первой книге Марсель смотрит с козел экипажа на шпили церковных колоколен, завороженный игрой перспектив, и его описание «движущихся» колоколен перекликается с другим знаменитым наблюдением. В книге «У Германтов» Пруст пишет:
…и оригинальный художник, и оригинальный писатель действуют по способу окулистов. Лечение их живописью, их прозой не всегда приятно для пациентов. По окончании курса врач говорит нам: «Теперь смотрите». Внезапно мир… предстает перед нами совершенно иным… Идущие по улице женщины не похожи на прежних, потому что они ренуаровские женщины, те самые ренуаровские женщины, которых мы когда-то не принимали за женщин.
Художник и писатель «действуют по способу окулистов», и это общая тенденция урбанистической западной жизни. Реальность вытесняется репрезентацией – телега оказывается впереди лошади. Внутреннее подчиняется внешнему.
Да и любовь у Пруста сродни оптической иллюзии, хотя она же позволяет Марселю видеть объект его нежных чувств, Жильберту, каким-то особым, всепроникающим зрением, словно в инфракрасных лучах. Его видение осциллирует между зрительным озарением и обманом зрения – или его двойственностью. Примером может служить следующий отрывок.
Кто улыбается, увидев в зеркале красивое свое лицо и красивое телосложение, тот, если показать ему рентгеновский снимок, на котором видны четки костей, будто бы представляющие собой его изображение, решит, что это ошибка, как решит посетитель выставки, прочитав в каталоге под номером портрета молодой женщины: «Лежащий верблюд»[31].
Дальновидный Марсель не упускает случая полакомиться визуальной «мадленкой». Он охотно пользуется новыми технологиями в качестве строительного материала своих метафор, но относится к ним с недоверием. В книге «О фотографии» критик Сьюзен Зонтаг пишет, что «о фотографиях Пруст всякий раз отзывается пренебрежительно». Как очень многие светские модники и авангардисты того времени, Пруст принимает позу сомневающегося: дескать, так ли нужны ему удовольствия, которые сулят все эти новшества? Его выражение «четки костей» – попытка увести разговор в плоскость насмешливой иронии. А что, если тот, кто смотрит в зеркало «на красивое свое лицо», видит «Крик» Мунка, или «Авиньонских девиц» Пикассо, или даже айсберг – убийцу «Титаника»? Революционные перемены в визуальности нового, подчеркнуто оптического XX столетия вызывали большой ажиотаж, но разве это достаточный повод для их неприятия?
Соотечественник Зонтаг, американец Генри Джеймс написал замечательный небольшой роман «Священный источник» (1901), который, как нам представляется, имеет прямое отношение к разноголосице мнений вокруг новой визуальности. Его безымянный рассказчик пристально наблюдает за поведением гостей, съехавшихся на уик-энд в английскую усадьбу, и строит теории касательно их любовных связей. С одной стороны, он тайный соглядатай и в этом похож на Марселя, но с другой – он еще и детектив, невольно напоминающий нам о том, что «детективный» поиск и анализ есть непременное условие адекватного зрительного восприятия (помните черно-белый кадр в главе 2, где женщина что-то ест украдкой, сидя в темном кинозале?). В начале девятой главы «Священного источника» рассказчик говорит:
Этот вечер произвел на меня незабываемое впечатление, прежде всего потому, что самый вид некоторых из гостей вмиг превратил ясный свет моих дерзновенных теорий в пустой, непроницаемый глянец. И все время, пока мы сидели за столом, внутренний голос строго увещевал меня отказаться от праздной привычки видеть в ничего не значащих человеческих проявлениях мотивы намного более глубокие, чем те, которые эти ничего не значащие проявления обыкновенно в себе содержат… Смысл нашего существования, я имею в виду всех нас, собравшихся за столом, заключался в том, чтобы быть красивыми и счастливыми, то есть быть именно тем, чем мы казались…
Эта вещь Генри Джеймса не пользуется большой популярностью, и одна из претензий критиков заключается в том, что в романе ничего не происходит, но ведь точно так же ничего не происходит и когда мы наблюдаем за толпой на вокзале, вернее, ничего не происходит с точки зрения событийной причинности, или детерминации. Все дело в отсутствии заранее выстроенного сюжета, финал которого предопределен. Джеймс задается здесь действительно важным вопросом (Пруст его перед собой не ставил): насколько далеко можно продвинуться, если отталкиваться только от внешнего, от непосредственных зрительных впечатлений?
Ответ на этот вопрос дает английская писательница Вирджиния Вулф. Словно доводя идею, предложенную Джеймсом в «Священном источнике», до логического завершения, она пишет в 1930 году эссе «Городская прогулка, или Лондонское приключение». Оно посвящено праздному созерцанию, и «цель» всех действий откровенно надуманная: купить карандаш. На самом деле рассказчице, то бишь Вирджинии Вулф, нужен не карандаш, а предлог отправиться на прогулку по улицам вечернего зимнего Лондона – бродить и смотреть по сторонам.
Глаз не рудокоп, не ныряльщик и не кладоискатель. Он плавно несет нас по течению; и, пока глаз смотрит, мозг отдыхает, воспользовавшись передышкой, – быть может, спит.
Так пишет Вирджиния Вулф, опровергая основополагающую идею этой книги о том, что зрение – насущный хлеб нашей жизни. К счастью, это только начало. Вглядываясь в прохожих и рисуя себе их внутрений мир, она согласна умерить свой скептицизм и копнуть глубже, сойдя с поверхности, по которой скользит глаз. И пишет так, как Леонардо рисовал или Коперник думал. Перво-наперво она отмечает инстинктивную тягу зрения к красоте.
Погожим зимним вечером, таким как нынче, когда природа постаралась прихорошиться, глаз доставляет нам изумительные трофеи, выхватывая тут и там осколки изумрудов и кораллов, словно вся земля сотворена из самоцветов.
Уже здесь она признает за зрением больше прав, чем Пруст: зрение доставляет нам ценную добычу. Потом она переводит взгляд на обитателей лондонских улиц (и мы вспоминаем фотографию женщин, спешащих мимо нищенки на дублинском мосту).
…При виде таких картин нервы позвоночника топорщатся, как будто нам в глаза направили луч света, внезапно огорошили вопросом, ответа на который мы дать не можем. Зачастую отверженные устраиваются неподалеку от театров, им слышны мелодии шарманок, им, может быть, видны в вечерней темноте блестки одежд и блеск легких ног развлекающихся и развлекающих. Устраиваются они и вблизи витрин, посредством которых мир коммерции предлагает миру выброшенных за порог старух, слепцов и хромых карликов диваны на благородно изогнутых и позолоченных лебяжьих шеях, столы, инкрустированные корзинами разноцветных фруктов, низкие буфеты с доской из зеленого мрамора, не прогибающейся под тяжестью кабаньей головы, и ковры, до того старинные, что бледно-розовые тона почти тонут в бледно-зеленой пучине.
Когда идешь и смотришь по сторонам, не замедляя шага, всюду мерещатся случайные, но чудотворные брызги красоты.
Приведенный пассаж свидетельствует о таланте писателя, но и о таланте зрителя тоже. «Как будто нам в глаза направили луч света». Вот что рождает нужные слова. Нет, «глаз» Вирджинии Вулф не просто «несет нас по течению», услаждая, увлекая за собой. Он трудится. Он замечает вопиющие несообразности в уличной сцене и дает им моральную оценку.
Вулф исключительно чутка к той роли, какую играет в зрительном восприятии ожидание. В романе «На маяк» эта роль предельно драматизирована, иллюстрируя мысль о том, что зрение включает в себя проекцию прежних идей и образов. Роман начинается с того, что шестилетний Джеймс мечтает увидеть вблизи маяк на острове Скай, но отец под разными предлогами отказывается везти сына на остров. Через десять лет мечта Джеймса наконец сбывается.
Джеймс посмотрел на маяк. Увидел добела отмытые скалы; башню, застывшую, голую; увидел белые и черные перекрытия; увидел окна; даже белье разглядел, разложенное для просушки на скалах. Значит, вот он какой – маяк?
Нет, тот, прежний, был тоже маяк. Ничто не остается только собою. Прежний – тоже маяк. Едва различимый порою за далью бухты. И глаз открывался и закрывался, и свет, казалось, добирался до них, в наполненный солнцем и воздухом вечереющий сад[32].
Джеймс понимает, что он одновременно видит как бы два маяка – реальное сооружение и то, как оно соотносится с его ожиданиями, с десятилетней мечтой увидеть маяк вблизи. На протяжении нашего рассказа о зрительном восприятии мы не раз могли убедиться, что этот процесс разворачивается не только в настоящем времени, но захватывает также воспоминания и ожидания, прошлое и будущее, – об этом мы еще поговорим, когда дойдем до взаимодействия зрения и времени. Пока же пусть маяк Вирджинии Вулф остается ярким внешним впечатлением, сигнальным огнем, прожектором, предуведомлением.
Двигаясь в том же направлении, что и Вирджиния Вулф, французский писатель и кинематографист Ален Роб-Грийе принципиально меняет свое отношение к сюжету и развивает принципы «антиромана», в частности «вещизм», или шозизм (от фр. chose – вещь, предмет). В романе «Ластики» вещам уделяется преувеличенное внимание не потому, что они важны для развития сюжета, а потому, что они никакой роли в нем не играют и, следовательно, существуют сами по себе. С точки зрения нарратива вещи нейтральны, они просто есть, вне зависимости от причинно-следственных связей или психологии, и в этом их значение. Видимые вещи. В романе Жан-Поля Сартра весомость вещей становится невыносимой. Герой Сартра Антуан – полная противоположность фланеру Вирджинии Вулф. Ее рассказчица смотрит на прохожих, и лица незнакомых людей притягивают ее; Антуан смотрит на жителей города, в котором живет (вымышленный Бувиль, напоминающий Гавр на севере Франции), но в этом зрелище для него нет ничего притягательного. В отличие от романов Пруста, где наблюдение всегда увлекательно, хотя видимость может быть обманчивой, или «Городской прогулки», где видеть – значит думать, оценивать, жить, у Сартра зрение инертно, во всяком случае поначалу. Разделяя взгляд Роб-Грийе, Сартр пространно описывает «вещность» вещей, пока его героя не «осеняет». В знаменитой сцене романа «Тошнота» Антуан смотрит на корни деревьев.
И вдруг, разом, пелена прорывается, я понял, я увидел… Под скамьей, как раз там, где я сидел, в землю уходил корень каштана…
Если бы меня спросили, что такое существование, я по чистой совести ответил бы: ничего, пустая форма, привносимая извне, ничего не меняющая в сути вещей. И вдруг н тебе – вот оно, все стало ясно как день; существование вдруг сбросило с себя свои покровы. Оно утратило безобидность абстрактной категории: это была сама плоть вещей, корень состоял из существования. Или, вернее, корень, решетка парка, скамейка, жиденький газон лужайки – все исчезло; разнообразие вещей, пестрота индивидуальности были всего лишь видимостью, лакировкой. Лак облез, остались чудовищные, вязкие и беспорядочные массы – голые бесстыдной и жуткой наготой.
…Каштан мозолил мне глаза. Зеленая ржавчина покрывала его до середины ствола; черная вздувшаяся кора напоминала обваренную кожу… Я понял, что середины между небытием и разомлевшей избыточностью нет. Если ты существуешь, ты должен существовать до этой черты, до цвели, до вздутия, до непристойности. Есть другой мир – в нем сохраняют свои чистые строгие линии круги и мелодии. Но существовать – значит поддаваться… Каштан впереди меня, чуть левее, – лишний[33].
Для философов роман Сартра стал настоящим подарком, а эта сцена в особенности. Нам она интересна по нескольким причинам.
Во-первых, она описывает момент озарения, когда герою в результате созерцания внезапно открывается суть вещей, – что-то вроде Ньютонова яблока. Кроме того, в ней звучит мысль, что видимый мир в силу своей пугающей избыточности может затопить сознание, как вздувшаяся река. Позже Сартр даст подробный анализ категорий «бытие» и «ничто»; пока же его Антуан удручен – до тошноты – осознанием бессмысленности своих попыток увидеть суть вещей или вывести ее на основе дедуктивных умозаключений. Антуан значит не больше, чем корни каштана, хотя исходит из обратного и эту ошибку совершает снова и снова. Сюрреалисты выплескивали бессознательное, все свои грезы и сновидения, во внешний мир. Крупные писатели, такие как Пруст, Вулф и Сартр, использовали видимое для стимуляции своих мыслей и сомнений, электризации своего «я». Из внешнего мира к нам летят снаряды – и, долетев, взрываются. Каким бы ни был способ видения художника, это то, что помогает ему найти свое место в мире, это его навигационная система.
Небоскребы
В первой половине XX века появились новые возможности оглядеться вокруг и понять, где находишься. Представим себе, как наши писатели сидели в кафе и смотрели в окно. Там, за окном, буквально у них на глазах, словно в режиме интервальной съемки «таймлапс», город рос ввысь. Если все XX столетие можно сравнить – продолжая введенную нами визуальную метафору – с разъятым глазом, то подходят ли под это сравнение крупные города?
Надгробная гранитная стела, Эфиопия © Zaramira / Dreamstime.com
Самое примечательное в росте городов было именно двиение вверх. Высотные здания – характерная примета времени. Не то чтобы идея возникла только тогда. Конечно, нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг, обязанный своим появлением современному уровню развития инженерной мысли, строительных материалов и экономических расчетов, не мог быть построен в прежние эпохи, но сама идея высотного здания возникла намного раньше.
Вспомним хотя бы легендарную Вавилонскую башню «высотою до небес» или другой, вполне реальный пример – вот это эфиопское сооружение высотой с десятиэтажный дом, воздвигнутое в 300 году до н. э.
Жилые постройки в древней Эфиопии были не выше двух-трехэтажного дома, и потому эта массивная надгробная гранитная стела сегодня кажется футуристической моделью небоскреба XX века – с запертой входной дверью внизу и многочисленными уровнями-этажами с рядами окон. В предыдущем, XIX веке символом технического прогресса стала Эйфелева башня, доказавшая, каких заоблачных высот способны достичь металлические конструкции, пусть даже функционально бесполезные, если не считать смотровой площадки, откуда открывается прекрасный вид на город. Что ж, этот вид с высоты птичьего полета помог парижанам найти свое место в мире. В первой трети XX века русские активно экспериментировали с различными конструкциями, но первый небоскреб построили все-таки в Америке. В те годы люди не боялись рисковать ради воплощения своей мечты о чем-то грандиозном, недосягаемом, непостижимом. О чем? Уместно ли здесь говорить об экстернализации, как в случае живописи Дали и Танги?
Условия для концепции небоскребов вполне созрели. Последний раз Соединенные Штаты упоминались в нашем рассказе в связи с фронтиром – условной западной горизонталью, которая постоянно приковывала к себе взоры. Теперь настало время вертикали. И в роли первопроходца выступил Чикаго. В 1871 году пожар уничтожил треть города, 45 километров улиц. Через два года молодой идеалист и талантливый архитектор Луис Салливан пожелал принять участие в восстановлении города (на тот момент ему едва исполнилось семнадцать). Он первый заговорил о высоте. Его небольшая, давно уже признанная классической работа «Высотное конторское здание с художественной точки зрения» (1896) звала единомышленников объединиться в борьбе за вертикаль: «Архитекторы нашей страны и нашего поколения лицом к лицу столкнулись с чем-то доселе невиданным, а именно… с запросом на строительство высотных конторских зданий». Чем вызван такой общественный запрос, он сам объяснил коротко и ясно.
Конторы – необходимое условие деловой жизни; благодаря изобретению и усовершенствованию скоростного лифта подъем наверх, прежде долгий и утомительный, стал легким и удобным; достижения сталепромышленности позволяют создавать прочные, устойчивые, экономичные конструкции, способные достигать большой высоты; постоянной рост населения в крупных городах и, как следствие, нехватка пространства и удорожание земли в городских центрах диктуют требование увеличивать число этажей.
И началось. В 1885 году в Чикаго построили первое в мире высотное здание (Хоум-иншуранс-билдинг) с применением современных инженерно-строительных принципов. Через четыре года вознесся ввысь первый нью-йоркский небоскреб, и в том же 1889 году в Чикаго выросла новая высотка, Такома-билдинг, при строительстве которой впервые был использован полностью стальной несущий каркас. Здания возводились, технические задачи решались, но Салливан хотел донести до всех очень важную мысль: эти вертикали исполнены не только практического, но и эстетического, символического и, если угодно, нравственного смысла.
Как нам вдохнуть в эту безжизненную груду, в это скопление грубых, нахальных, вульгарных форм, в эту неприкрытую демонстрацию извечной борьбы за выживание тот благой дух, который присущ высоким проявлениям душевной тонкости и культуры, хотя под ними лежит фундамент из низких и необузданных страстей? Как нам с головокружительной высоты этой странной, противоестественной, новомодной башни проповедовать евангелие добра и красоты, идеал возвышенной жизни?
Душевная тонкость, красота, идеал возвышенной жизни – весь этот викторианский понятийный набор обращен к архитектуре XX века с призывом стать чем-то большим, чем архитектура. Пожалуй, Вирджиния Вулф могла бы под этим подписаться. Глядя на такую фотографию (см. ниже), трудно отделаться от мысли, что Нью-Йорк или Чикаго сложен из стремления ввысь, капитализма, инженерных решений, кубизма и психоанализа Фрейда. Кубизм ассоциируется с «кубиками» конструкций, а Фрейд возник в этом ряду, потому что небоскребы воспринимаются, по крайней мере отчасти, как экстернализация сексуального инстинкта (фаллические символы).
Эмпайр-стейт-билдинг, Нью-Йорк © Venemama / Dreamstime.com






