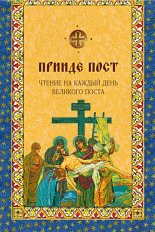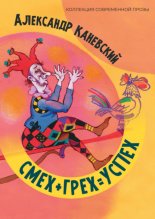Последний ребенок Харт Джон
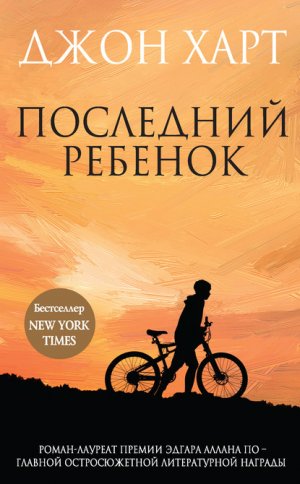
Джонни посмотрел на мать с отвращением и нескрываемым разочарованием. Пальцы сжали бортик кровати с такой силой, словно могли согнуть металл.
— Знаешь, о чем молился я? Каждую ночь, пока не понял, что Богу нет до меня никакого дела? Знаешь?
Это прозвучало жестоко и безжалостно, и Кэтрин, застигнутая врасплох неожиданным вопросом, покачала головой.
— О трех вещах. Я молился о том, чтобы вся наша семья собралась дома. Я молился о том, чтобы ты перестала принимать таблетки. — Мать попыталась возразить, но Джонни не дал ей такой возможности и холодно, без запинки добавил: — Я молился о том, чтобы Кен умер.
— Джонни!
— Я молился об этом каждую ночь. За семью и дом. За то, чтоб не было таблеток. И чтобы Кен Холлоуэй умер медленной и мучительной смертью.
— Пожалуйста, не говори так.
— О чем не говорить? О Кене Холлоуэе? О том, что я хочу его медленной и мучительной смерти?
— Не надо.
— Я хочу, чтобы он умер со страхом в сердце. Чтобы на себе испытал, каково быть беззащитным и запуганным. Я хочу, чтобы он отправился куда-то, откуда уже никогда больше не сможет нас тронуть. — Кэтрин несмело дотронулась до его волос — ее печальные глаза повлажнели, — и Джонни оттолкнул ее руку. — Но Бог ведь не об этом, да? Молитва не вернет домой Алиссу. — Он сел повыше. Злость распалилась в гнев, а гнев быстро вызвал слезы. — И папу не вернет. Молитвой не согреешь дом и не остановишь Кена. Бог отвернулся от нас. Ты сама так говорила. Помнишь?
Кэтрин помнила. Холодной ночью, когда лежала на полу в опустевшем доме с разбитыми в кровь губами, а в другой комнате Кен наливал себе выпить.
— Может быть, я была не права.
— И ты можешь так говорить? После всего, что мы потеряли?
— То, что дает нам Бог, не может быть абсолютным. Он не дает всего, чего мы хотим. У Бога устроено по-другому, иначе было бы слишком легко.
— У нас ничего не было легко!
— Неужели ты не понимаешь? Всегда есть что терять. — Она с мольбой в глазах потянулась к его руке, но Джонни отдернул руку, и ее пальцы сжали бортик кровати. Свет полыхнул у нее на волосах. — Помолись со мной, Джонни.
— О чем?
— Чтобы мы остались вместе. Чтобы отпустили прошлое. — Кэтрин так сжала бортик, что побелели костяшки пальцев. — Помолимся о прощении.
Она долго всматривалась в его глаза, но ждать ответа не стала. Голова ее склонилась, и губы произнесли тихие слова. Не раз и не два она оглядывалась на Джонни — посмотреть, закрыл ли он глаза и присоединился ли к ней в молитве. Но в лице сына не было и намека на прощение.
Ничего похожего на желание отпустить прошлое.
Глава 25
Одолеваемый смятением и сомнением — что же такого прочитала Кэтрин в записках Джонни? — злостью и отчаянием — упрямец таки отказался разговаривать с ним! — но испытывая и огромное облегчение — дети все же остались живы, — Хант вышел из палаты. Прижавшись лопатками к холодной стене, он просто стоял какое-то время, не обращая внимания на проходивших мимо людей, не замечая их взглядов. Сил почти не осталось, тревога еще не улеглась, но детектив надеялся, что смерть Бертона Джарвиса станет началом конца этой трагической истории — и вместе с тем первым шагом в распутывании загадки исчезновения Алиссы. Он пытался убедить себя в том, что мерзкий старик творил свои грязные дела в одиночку, но гадкий и скользкий червяк беспокойства упрямо шевелился в темном уголке сознания.
Коп?
Да возможно ли такое?
Хант предпринял еще одну попытку разобраться в закорючках Джонни. Некоторые карандашные записи стерлись. Другие расплылись от воды. Третьи пострадали от золы и хвойного сока. Кое-где бумага просто порвалась. Судя по уже прочитанному, было ясно, что это далеко не всё, и детективом не раз овладевало желание выбить дверь и вытрясти из мальчишки нужные ответы.
Черт бы его побрал!
А знал Джонни немало. В этом Хант не сомневался. Он снова, как и много раз до этого, представил черные настороженные глаза, в глубине которых таились неведомые мысли. Джонни путался в одних фундаментальных понятиях, имел искаженное представление о других, но некоторые вещи понимал с поразительной ясностью…
Преданность. Неукротимость. Решимость.
Эти качества могли быть помехой, но они же вызывали уважение, гордость и желание защитить парнишку. Джонни следовало бы знать, сколь редки такие вещи в наше время и как высоко они ценятся в мире. Иногда у Ханта возникало желание обнять мальчишку за плечи и объяснить кое-что. И все же лучше бы ему остановиться…
Детектив вышел к автомобильной стоянке. Яркое солнце, чистый воздух и зеленая трава, да только что от них толку в такой вот день… Он прошелся взглядом по окнам шестого этажа. Палата Джонни находилась в одном конце, палата Тиффани — в другом. Белые стены здания сияли под солнечными лучами, и окна отдавали синевой.
Хант уже подходил к машине, когда заметил мужчину в костюме. Сухой, как щепка, сутулый, он появился из-за дальнего угла здания, проскользнул между двумя автомобилями и возник справа от детектива. Руки на виду, доброжелательная улыбка, сложенные бумажки в руке — все это Хант отметил машинально. Больничный администратор? Родственник, навещавший пациента?
— Детектив Хант?
Возраст за тридцать, легкие, как пух, волосы, кожа в едва заметных оспинках. Ровные белые зубы.
— Да.
Улыбка растянулась еще больше. Незнакомец поднял палец, словно, пытался связать знакомое лицо с именем.
— Детектив Клайд Лафайет Хант?
— Да.
Незнакомец протянул сложенные вдвое листы, и как только Хант взял их, доброжелательная улыбка мгновенно испарилась.
— Повестка вручена.
Проводив незнакомца взглядом, детектив развернул листы. Так и есть, Кен Холлоуэй подал на него в суд.
Вот же дерьмо.
Инспектор по надзору, за коим числился Ливай Фримантл, работал в офисном отделе, втиснутом в самый конец третьего этажа здания окружного суда. Ободранный линолеум едва держался на полу в коридоре, на оштукатуренных стенах размещалась собранная за восемьдесят лет коллекцию никотиновых пятен. Двери офиса имели цвет темного дуба, оконные рамы держались на латунных петлях. Из-за дверей доносились звуки: споры, извинения, слезы. Все это он слышал и раньше. Сотни, нет, тысячи раз. Ложь лилась здесь потоком, так что каждый опытный сотрудник надзорной службы поневоле становился проницательным знатоком человеческой натуры.
Детектив нашел его в закутке номер девять. Дверь была открыта, и на табличке значилось имя — Кэлвин Тремонт. На стульях и на полу высились стопки папок. Вентилятор гнал теплый воздух в сторону поцарапанного металлического шкафа. Сидевшего за столом мужчину Хант узнал — лет шестидесяти, среднего роста, расплывшийся посередине, с тронутыми сединой волосами и почти черными морщинами, врезанными в темную кожу.
Хант постучал.
Тремонт поднял голову с уже заготовленным заранее выражением мрачной озабоченности на лице, но продержалось оно недолго. С Хантом у него давно сложились крепкие рабочие отношения.
— Привет, детектив. Какими ветрами?
— Насчет одного твоего подопечного.
— Предложил бы сесть, но… — Он развел руками, включив в жест и оба занятых папками стула.
— Я ненадолго. — Хант переступил порог. — Оставил вчера сообщение. Сегодня по тому же делу.
— У меня первый день после отпуска. — Тремонт повторил жест. — Еще не разобрался со своей почтой.
— Хорошо отдохнул?
— Съездил с семьей на побережье. — Он произнес это с интонацией, которая могла означать почти все, что угодно.
Хант кивнул и тему оставил. Сотрудники службы надзора, как и полицейские, о личном предпочитали не распространяться.
— Хотел поговорить насчет Ливая Фримантла.
Едва ли не впервые за время знакомства Хант увидел на лице Тремонта неподдельную улыбку.
— Насчет Ливая? И как там мой малыш?
— Твой малыш?
— Он хороший парень.
— Ему сорок три.
— Поверь мне, Ливай — ребенок.
— Мы думаем, что твой малыш убил двоих. Может, троих.
Голова у Тремонта двигалась так, словно шейный сустав только что смазали маслом.
— По-моему, ты сильно ошибаешься.
— Ты так уверен?
— Ливай Фримантл может показаться кому-то самым задиристым говнюком в районе, которому ничего не стоит убить за пятак, что не так уж и плохо, когда в кармане совсем пусто. Но скажу прямо, детектив: Ливай никого убить не может. Ни в коем разе. Ты ошибся.
— У тебя есть его адрес? — спросил Хант.
Тремонт кивнул и назвал адрес, никуда не заглядывая.
— Он там три года как живет.
— Мы нашли по этому адресу два тела. Белая женщина лет тридцати с небольшим. Черный мужчина, около сорока пяти. Нашли их вчера, но мертвы они уже с неделю. — Хант помолчал, дав Тремонту время, чтобы усвоить информацию. — Знаешь Клинтона Родса?
— Это его убили?
Хант кивнул.
— Не мой подопечный, но под надзор пару раз попадал. Нехороший тип. Жестокий. Склонен к насилию. Вот он мог бы убить. Но не Ливай. — Тремонт поерзал на стуле. — Он получил три месяца за нарушение режима. Выпустят его только через девять недель.
— К твоему сведению, из рабочей команды он сбежал восемь дней назад.
— Поверить не могу…
— Ушел с дорожных работ, и никто его с тех пор не видел, кроме старичка-пьянчужки, который и имя-то свое плохо помнит, и парнишки, оказавшегося вблизи еще одного места преступления, тоже убийства. Было это два дня назад. Так что, как видишь, у меня на руках три трупа. И каждый так или иначе связан с твоим малышом.
Тремонт вытащил папку с делом Фримантла и раскрыл ее.
— Ливая ни разу не признавали виновным в преступлении насильственного характера. Да что там — ему даже обвинений, связанных с насилием, не предъявляли. Нарушение прав владения — да, кражи в магазинах — да. — Он захлопнул папку. — Послушай, Ливай, как говорится, не самый острый нож в комплекте. Большинство его преступлений… Если, допустим, сказать ему: «Эй, сходи вон туда да принеси бутылочку вина», он пойдет в магазин, возьмет с полки и принесет. Парень не способен осознать последствия своих действий.
— Как и большинство убийц.
— Нет, не так. Ливай… — Тремонт покачал головой. — Он как ребенок.
— Имеем мертвую белую женщину. Тридцать с небольшим. Какие соображения?
— Парень путался с Рондой Джеффрис. Белая, любительница погулять, развлечься на стороне. Особенно ее тянет к большим плохим парням. Тем более к черным. Она и с Ливаем потому связалась, что приняла его за крутейшего парня в районе. Держит беднягу при себе, потому что им легко командовать и он делает все, что она ему скажет. Те гроши, что зарабатывает, Ливай отдает ей. О доме заботится. И ей статус повышает. Когда требуется перерыв или появляется другой, Ронда обычно устраивает так, чтобы Ливая прихватили за какую-то мелочь и на пару месяцев отправили за решетку. Как я уже сказал, он во всем ее слушает. Первый раз его арестовали за магазинную кражу. Ронда взяла с витрины флакон с духами и отдала ему, а сама прошла мимо охранников на улицу.
— Они женаты?
— Нет. Но Ливай считает, что да.
— Почему?
Тремонт улыбнулся.
— Потому что они спят вместе, и… — Он не договорил. — А, черт.
— Что?
— Кто позаботился о ребенке?
Холодок пробежал у Ханта по спине.
— Об их ребенке?
— Девочка. Маленькая. Два годика.
Хант сунул руку в карман — за телефоном.
— Малышка улыбается так, что сердце тает.
Глава 26
В девять вечера больничное начальство все же заставило Кэтрин покинуть палату сына. Жестокая в некотором смысле мера стала для нее благословением в другом. Кен Холлоуэй звонил в палату четыре раза и отказывался класть трубку, пока она не согласится с ним встретиться. Он упорствовал, она стояла на своем, объясняя, что должна наконец позаботиться и о сыне. В конце концов прекратить разговор пришлось ей. И не один раз, а два. После этого Кэтрин вздрагивала от страха каждый раз, когда открывалась дверь или из коридора доносился внезапный шум.
А еще ее мучила сухость. Она старалась держаться, сопротивляться, быть сильной, но жажда жила в каждой клеточке ее тела.
Потребность. Желание. Нужда.
До самого последнего момента Кэтрин оставалась у кровати. Сын уснул, и его лицо, как всегда, сделалось еще более похожим на лицо сестры. Тот же рот. Те же линии. Она поцеловала его и вышла из больницы встретить подъехавшее к задней двери такси.
Поездка домой измотала вконец. Они миновали три магазина с рекламой пива и вина и два бара. Кэтрин сцепила зубы, сжала в кулаки пальцы и позволила себе немного расслабиться, лишь когда огни центральной части города остались позади. Темная дорога, ровное шуршание покрышек по черному асфальту. «Всё в порядке, — повторяла она. — Я в порядке».
Такси начало спуск с последнего холма, и Кэтрин увидела в полумиле дом. Из всех окон струился свет, деля двор на черные и желтые прямоугольники.
Уезжая, она выключила свет везде.
Выбравшись из машины, Кэтрин направилась к двери, но остановилась в нерешительности и, раскрыв сумочку, потянулась за телефоном. Она уже поднялась на крыльцо, но потом передумала и сошла со ступенек. Все вокруг застыло в тишине: двор, лес, улица.
Вот тогда Кэтрин и увидела машину, припаркованную в двухстах футах вниз по улице и въехавшую далеко на обочину. Разобрать ее цвет в темноте было трудно. Может быть, черная. Большой, незнакомый ей седан. Кэтрин присмотрелась, сделала шаг вперед и вроде бы услышала звук работающего мотора.
Она шагнула дальше, и фары вдруг включились. Разбрасывая грязь и гравий, автомобиль сорвался с места, резко, скрипнув покрышками, развернулся и помчался по улице. Задние огни уменьшились и пропали — дорога ушла вниз.
Кэтрин постаралась отдышаться и успокоиться. Всего лишь машина. Просто сосед. Она повернулась к дому и увидела, что входная дверь приоткрылась. Желтая щель расширилась, стоило ей тронуть ручку.
В доме играла музыка.
«Устрой себе веселое Рождество…»
На дворе конец мая.
Кэтрин выключила музыку и осторожно двинулась по коридору. Дом казался пустым, но музыка напугала ее. Одна и та же песня звучала снова и снова. Первым делом Кэтрин проверила спальни — все на месте, все, как было. Та же картина и в ванной.
Таблетки она нашла в кухне.
Оранжевый пузырек стоял в центре стола, на дешевой пластиковой столешнице с отколотым уголком. Яркий, сияющий, с идеально белой этикеткой. Кэтрин смотрела на него, чувствуя, как набухает язык. Таблетки звонко застучали по стеклу, когда она взяла пузырек, чтобы прочесть этикетку. Ее имя, сегодняшняя дата.
Семьдесят пять штук.
Оксиконтин[24].
В порыве злости Кэтрин распахнула дверь, швырнула пузырек во двор и захлопнула дверь. Потом проверила все окна, двери и села на софу у окна. Она сидела, выпрямившись, настороженно, ощущая присутствие пузырька где-то там, в темноте. Сцепив зубы, прокляла Кена Холлоуэя.
Нет, легко не получится.
Джонни выпустили из больницы на следующий день, около двенадцати. Его вывезли на каталке, и он осторожно поднялся.
— Все хорошо? — спросила медсестра.
— Вроде бы да.
— Не торопись.
В сторонке, футах в тридцати, защелкали камеры. Репортеры выкрикивали вопросы, но полицейские держали их на расстоянии. Опершись рукой о крышу фургона дяди Стива, Джонни огляделся. К прежним, местным, добавились новые фургоны — из Шарлотт и Роли.
— Я готов.
Медсестра помогла ему забраться в машину.
— Никаких стрессов, постарайся не волноваться. Два пореза довольно глубокие. — Она улыбнулась на прощание и закрыла дверь.
Сидевший за рулем дядя Стив оглядел толпу репортеров. Рядом с ним мать Джонни прикрыла ладонью лицо. Подошедший к заднему окну Хант объяснил условия сделки, заключенной им со службой соцобеспечения.
— Все это сработает лишь при условии, что вы будете играть по правилам. — Он посмотрел по очереди на каждого и остановился на Стиве. — Мне нужно знать, что вы справитесь.
Тот бросил взгляд в зеркало заднего вида.
— Справлюсь. Если он будет делать то, что ему говорят.
Хант повернулся к Джонни.
— Считай, что получил подарок. Учитывая все случившееся.
— Когда ему разрешат вернуться домой? — спросила Кэтрин.
— Теперь все зависит от соцслужбы.
— Чушь, — пробормотал Джонни.
— Что ты сказал?
Он пнул резиновый коврик.
— Ничего.
Хант кивнул.
— Я так и подумал. — Отступил от машины. — Следуйте за мной, Стив. До конца.
На дорогу ушло двенадцать минут. Ехали молча. Возле дома Хант припарковался на траве. Джонни с матерью выбрались из фургона. Кэтрин посмотрела на уличный фонарь, коснулась рукой горла и вошла в дом. Джонни последовал за ней в свою комнату. На кровати, аккуратно сложенная, лежала его одежда.
— Я приготовила вчера вечером, — извиняющимся голосом сказала Кэтрин. — Не знала, что ты захочешь взять.
— Сам соберу.
— Справишься? — Она посмотрела на его повязки.
— Справлюсь.
— Джонни…
Он посмотрел на мать, увидел, как она напряжена. Раньше мать была сильной, но после похищения все переменилось. Лицо стало другим. Теперь оно выглядело так, словно две его половины сошлись в жестокой схватке.
— Не надо было мне тебе лгать. Не надо было говорить, что он писал.
— Понимаю.
— Я не хотела, чтобы ты знал, что мы остались одни. Думала…
— Говорю же, понял.
Она провела ладонью по его волосам.
— Ты такой сильный… Такой самостоятельный, независимый…
Джонни напрягся. Когда-то именно так мать охарактеризовала отца. Он, что случалось редко, вступил с ней в спор, причина которого так и осталась неизвестной. Вот тогда она и произнесла эти слова: «Вовсе не обязательно быть таким независимым!» Отец только улыбнулся и поцеловал ее — на том спор и закончился. В этом он был хорош. Стоило ему улыбнуться, и уже никто не мог на него злиться. Для Джонни даже теперь сила и самостоятельность были одним и тем же. Не жалуйся. Делай дело. И того и другого ему было отмерено полной мерой. Чего ему не хватало, так это беззаботной улыбки. То ли ее и не было у него никогда, то ли он позабыл, что это такое, — сказать трудно. Жизнь, в понимании Джонни, стала вопросом самодостаточности.
Он взял джинсы, засунул их в сумку.
— Давай просто сделаем все как надо.
Мать вышла из комнаты, и Джонни услышал, как щелкнул замок, как скрипнули коротко пружины. Он не знал, какая ее сторона взяла верх, мягкость или сила, но опыт подсказывал, что она лежит под простыней, с закрытыми глазами. Ее внезапное, через считаные секунды, появление в двери застало его врасплох. Мать держала фотографию в рамке — цветной снимок со дня свадьбы. Ей было тогда двадцать, и солнце заливало ее лицо чудесным светом. Отец стоял рядом со своей беззаботной, залихватской улыбкой. Джонни помнил эту фотографию, но думал, что мать сожгла ее вместе с остальными.
— Возьми с собой.
— Я вернусь.
— Возьми.
И Джонни взял.
Мать нежно обняла его, а когда вернулась в комнату, дверь осталась закрытой.
Джонни остановился за сетчатым экраном; сумка была тяжелая, и ремень резал плечо. Листья во дворе дрожали под ветром. Хант стоял неподалеку, опустив голову и засунув руки в карманы. Глубоко посаженные глаза смотрели на дом, но Джонни он не видел — взгляд его коснулся одного окна, потом другого. Голова оставалась неподвижной, в середине лба залегли морщины. Джонни толкнул ногой дверь, и детектив повернулся.
— Тебе нельзя носить тяжелое. — Он снял сумку с плеча Джонни. — Швы могут разойтись.
— По-моему, всё в порядке. — Джонни сошел с крыльца, и Хант шагнул к нему.
— Пока не уехали…
— Да?
— Когда ты увидел Ливая Фримантла… — Хант помолчал. — С ним кто-нибудь был?
Джонни задумался — нет ли в вопросе какого-то подвоха. Отвечать на вопросы копа он отказался, но этот неприятностей с соцслужбой вроде бы не обещал. В глазах детектива теплилась надежда, но она потухла, когда он покачал головой.
— Только ящик.
— И никого? — сдавленным голосом спросил Хант, оставив при себе остальное: «Никакого ребенка? Маленькой девочки, улыбка которой могла растопить сердце?»
Джонни покачал головой.
Хант помолчал. Откашлялся.
— Держи. — Он протянул свою карточку, и мальчик взял ее. — Можешь звонить мне в любое время. — Джонни сунул карточку в задний карман. Детектив в последний раз посмотрел на дом и, вымученно улыбнувшись, тронул Джонни за плечо. — Веди себя хорошо. — Он забросил сумку в багажник.
Проводив взглядом машину полицейского, Джонни повернулся к фургону и открыл дверцу. Она скрипнула. Стив встретил его с принужденным радушием.
— Ну вот, теперь только мы вдвоем.
— Чушь, — сказал Джонни.
Стив нахмурился, повернул ключ, и машина тронулась с места. Он облизал губы и, скосив глаза вправо, спросил:
— Можешь рассказать, что случилось?
Он имел в виду Тиффани Шор.
— Я никого не спас, — машинально и сухо ответил Джонни, отводя глаза от дома. Там, в этой скорлупе, в пустоте, обернутой в отшелушивающуюся краску и гниющее дерево, оставалась мать, и он боялся собственной реакции, если посмотрит на дом еще раз.
Стив добавил газу.
— Отец гордился бы тобой.
— Может быть.
Джонни все же рискнул и оглянулся — дом уже отступил и съежился. Просевшая крыша как будто выпрямилась, дефекты смазались, и на мгновение дом сверкнул, как новенький дайм.
— Тебя это устраивает? — спросил он. — Ну что я останусь с тобой? Ты же знаешь, это не я так решил.
— Ты только держись подальше от моих вещей. — Фургон забрался на вершину холма, и Стив выпятил подбородок, как будто тот вдруг вывихнулся. Дорога нырнула в тень. — Хочешь купить что-нибудь? Леденец, комиксы или еще что?
— Леденец?
— Дети же любят сладкое, разве нет?
Джонни промолчал.
— Я же вроде как должен.
— Ничего ты не должен.
Немного расслабившись, Стив кивком указал на «бардачок».
— Открой, достань мое курево.
В «бардачке» лежали какие-то бумаги и прочий хлам. Пачки сигарет. Квитанции. Лотерейные билеты. Джонни вытащил мятую, наполовину пустую пачку «Лаки страйк» и протянул дяде. А потом наткнулся на револьвер. Засунутый в дальний угол, под руководство пользователя и заляпанную кофейными пятнами карту Миртл-бич. Отделанная коричневым деревом, с насечками, рукоятка. Отливающая синим сталь, серебристый блеск курка. Трещинки на сухой кожаной кобуре. Рядом с револьвером лежала выгоревшая под солнцем коробка с патронами: калибр 32, экспансивные[25].
— Не трогай, — предупредил Стив.
Джонни закрыл «бардачок». За окном проносились деревья, и пространства между ними наводили на мысль о великанах цвета дыма.
— Научишь меня стрелять?
— Это нетрудно.
— Так научишь?
Стив бросил на него оценивающий взгляд, стряхнул за окно пепел.
Джонни и бровью не повел, но испытал прилив гордости, потому что на душе у него было далеко не спокойно. Он думал о сестре и здоровяке с расплавленным лицом и необычной фамилией.
— Зачем? — спросил Стив, и Джонни изобразил полнейшую невинность.