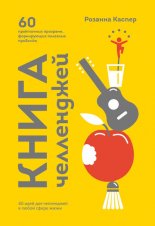По велению Чингисхана Лугинов Николай

– Купец, думающий лишь о близкой выгоде, живущий одним днем, никогда не развивается, не разбогатеет, – говорил видавший виды Хайдар, глядя так, что казалось, он видит зятя насквозь. – Умный торговец должен подняться выше уровня простого обмена, жульничества и видеть оборотную сторону людских мыслей далеко вперед. Почему и к чему стремятся люди? Какая нужда наступает? Если правильно предположишь это, угадаешь их желания, получишь в десятки раз больше, нежели, если словчишь.
Теперь, когда старика нет в живых уже лет десять, можно только поражаться его дару предвидения.
Своим родным найманам он давно предсказал участь «недолговечных, пропащих людей». Говорил, что предпринимаемые меры обеспечат лишь скорый закат и полный крах: связали всех и каждого по рукам и ногам крепкими путами и решили, что нашли спасение. Заставить народ делать одно или другое принудительно можно ненадолго. А про вражду Тайан-Хана с братом своим Кучулуком однажды сказал так: «Эта вражда приведет потом к расколу всего народа, близкие роды пойдут друг на друга и страна погибнет».
Про кэрэитов, на взгляд Игидэя, весьма могущественных, выразился: «Будут жить одним Илом, пока цел этот старик, Тогрул Ван-хан, или поп Иван, как его еще называют. Помрет, сразу же распадутся». По поводу мэркитов, казавшихся непобедимыми, предупреждал: «Сторонитесь их, не надо там держать большие богатства, их непокорный, строптивый характер неминуемо приведет к беде».
Зато о монголах, которые тогда ещё воевали друг с другом, разделившись на десятки мелких враждующих групп, и близки были к вымиранию, заявил, что за ними – будущее. Недоверчивый ко всем правителям, он поверил в Тэмучина, как только пошла о том молва: «Монгольский вождь поднял знамя древнего закона, единого для всей степи. За ним – непреодолимая сила». Это сейчас для всех очевидно, а в те годы его слова многими воспринимались как старческий бред или даже предательство. И уж совсем казалось это немыслимым делом, когда Хайдар, возвращаясь из Китая, нарочно сделал крюк, чтобы встретиться с Тэмучином, а потом почти никому еще неизвестному, юному хану, сильно пострадавшему в войне с кэрэитами, стал помогать деньгами и товаром.
– Пусть другие говорят, что хотят, а я вижу: выдающийся отрок подрастает! Стоит ему окрепнуть, стать на ноги, – равных Тэмучину не будет! Чем раньше люди это поймут, пойдут за ним, не оглядываясь, тем лучше. С Тэмучином мы, худые монголы, можем высоко подняться! Только бы дожить до этого, не пасть где-нибудь.
Это сейчас все стали называть себя монголами. А в те времена гордились принадлежностью к совершенно разным народам, несмотря на легендарную Моголджин хотун – общую праматерь. Игидэй тогда с удивлением услышал, как старик причислил себя монголам, так и сказав: «мы, монголы».
С той поры купец Хайдар начал выспрашивать у Игидэя про Тэмучина, его окружение, родных, происхождение, хотя, как скоро выяснилось, он и сам всё знал прекрасно.
Теперь стало ясно: старик заранее предвидел, куда повернет история, именно потому и выбрал Игидэя в зятья. На самом же деле, ничем он особым не отличался: таких, как он, у Хайдара было хоть отбавляй. Правдивый, честный, простой и верный данному слову Игидэй превосходил других одним: кровной близостью с Тэмучином.
Купец Хайдар был стариком видным, молчаливым, подавляюще действующим на окружающих людей.
Раскрывался редко: заводил разговор обычно только во время дальних путешествий. Однажды, подгадав такой момент, когда старик был в особо хорошем и приподнятом настроении, Игидэй спросил у него:
– Ты по чему, по каким признакам предрекаешь Тайан-Хану бесславный конец? На мой взгляд, сидит он прочно. Если не считать их мелкой размолвки с Кучулуком, кажется, нет никакой силы, способной противиться ему.
Старика, кажется, заинтересовал вопрос зятя. Помолчав какое-то время, вроде бы невпопад ответил:
– Чем человек могущественнее, чем больше жизней находятся у него в подчинении, тем больше скрывается истинное отношение к нему, тем больше выпячивается ложь, лесть для замасливания глаз. Ты же видишь, как по-разному относятся люди даже ко мне. Пока меня нет рядом – одно, но стоит мне войти – сразу всё меняется. А ведь я всего-навсего купец. А каково положение тех, кто распоряжаются судьбами людскими, решают, кому подняться, кому упасть, кому жить, а кому умереть?
– Я и вправду вижу, как пытаются подлизываться к тебе, стараются угадывать желания, чтобы быть на хорошем счету. А как быть с этим?
– Что можешь ты, если сам Бог создал людей такими. Но мудрый человек должен знать, замечать это, давать правильную оценку, главное, не обольщаться. Если не поймет, почувствует себя таким, каким якобы видится в глазах окружающих, он – слепец! А поводыри найдутся. Уведут туда, куда им выгодно, и вчерашний великий правитель или удачливый купец потеряет способность различать добро и зло, правду и ложь, подхалимство примет за уважение – станет ничем!
– Значит, Тайан-Хан не понимает…
– Я этого не утверждаю. Видел-то я хана всего несколько раз, однако по манерам, по его речам, предполагаю, что, по всей вероятности, он мало знает о жизни собственного ила, не владеет положением.
– А говорят, он человек очень жестокий, крайне жестко обращается со своими подданными.
– Я тоже слышал подобное, – купец Хайдар горько усмехнулся.
– О, почему так? Неужели все великие правители таковы?
– А я думаю, что так поступают бессильные правители. Брать горлом, лить кровь направо и налево проще и легче. Ну, ладно, сынок, хватит об этом. Судачить о правителях – небезопасно. Наше дело купеческое – угождать всем на своем пути. Тогда до старости будешь водить караваны, – сказал купец Хайдар и рассмеялся.
Глава четвертая
Судьба беглого хана
«Из главы «Забота о Государстве»:
У-цзы сказал: – Путь есть то, что обуславливает обращение к первооснове и возвращение к первоначалу. Долг есть то, что обуславливает совершение поступков и достижение результатов. Рассудительность есть то, что обуславливает удаление от вреда и приобретение выгоды. Сообразительность есть то, что обуславливает поддержание дела и сохранность сделанного.
Если действия человека не согласуются с Путем, а поступки не согласуются с долгом, то пусть этот человек и находится среди великих, пребывает среди знатных, все равно – беда непременно настигнет его.
Поэтому совершенный человек посредством Пути приводит людей к быту, посредством долга управляет ими, посредством норм руководит их действиями, посредством гуманности привлекает их.
Где эти четыре добродетели осуществляются, там – подъем; их отбрасывают, там – упадок».
У-цзы, «Трактат о военном искусстве» (IV в. до н. э.). Из книги Н.И. Конрада «Избранные труды» (ХХ в.)
Говорят, почтенные старцы-мудрецы, хранители вековой памяти, способные видеть жизнь под курганами лет как настоящее, всегда считали, что секрет развития или разрушения любой страны, народа зависит от его нравственных и моральных качеств. Почему так? Без нравственности и морали человек, может, и живет некоторое время в веселье и удовольствии, но его заживо словно бы разъедает тля, порча: будущего у него нет!
Нравственность настраивает человека на завтрашний день, на созидание, дарует образ будущего, без которого сегодняшнее теряет смысл; мораль оттачивает человеческие поступки, и в результате – появляются «люди длинной воли», способные к великим свершениям. Рождается общенациональный подъем.
А так ли всё просто? Ведь, чем выше возможности человека, тем больше его прихоти? Нет ли тут двойной морали?..
Старый Кехсэй-Сабарах, доверенное лицо всех владык Найманского ила, начиная еще с самого гур хана Ынанча Билгэ, за свой век был и ханским советником, и сегуном – военным главнокомандующим, занимал и пост тюсюмэла – руководил ведомством, которому были подвластны все промысловые люди страны.
Еще не так давно, каких-то лет сто назад, его предки владычествовали над всем Великим Китаем: их уважительно и подобострастно величали Великими Киданями, они держали под тяжелой пятой все досягаемые пределы, и не было никого в среднем мире равных им по мощи, богатству и возможностям. Казалось, так есть и будет всегда. Кидани жили, как хотели, делая то, что запрещали другим, ни в чем не зная ограничений. Но именно это стало началом конца.
Себялюбие породило вражду, на почве распутства и вседозволенности взросли козни и коварство, двойная мораль со временем разбила на два лагеря войско. И выстроились кидани в две шеренги друг против друга, и сразились в непомерной гордыне, теряя лучших сыновей своих, поливая землю братской кровью. А в это время третьи, худшие из рода, в мстительной жажде первенства привели к власти доселе покорных, плативших исправно дань джирдженов.
Когда воины этого прежде тихого народа вошли в раскрытые ворота крепостей, то в одно мгновение превратились в невиданных злодеев и разбойников. Пригласивший их для установления мира Китай потонул в реках крови.
Джирджены, взяв власть в свои руки, не разбирались, кто на чьей стороне. Истребляли, прежде всего, цвет народа: самых талантливых, умных, образованных!
О, китайский народ! Разве может быть народ лучше, терпеливее, простодушнее, трудолюбивее, чем хани, безмерные числом и верные данному слову?!
Они копошатся, будто муравьи, живут по какому-то своему, даже им самим неведомому, закону, и каждому, сумевшему угнездиться на широкой спине этого великана, кажется, что он стал здесь хозяином, всё в его власти, тогда как на самом деле – он всего лишь одуванчик, весело возвысившийся в степи над другими травами. Дунет свежий ветерок – и нет головы!..
Народ хани силен не столь числом, сколь твердыней внутренних заповедей.
Бедные китайцы, и во времена киданей не знавшие ласки и доброго отношения, не слышавшие доброго слова, хоть и попали в еще более жестокую беду, но по своей привычке противопоставлять любым напастям безграничное терпение ради выживания, так и остались жить, не поколебав устоев своей жизни, сделав вид, будто покорились новым хозяевам.
А кидани разделились на четыре части, избрали четыре сомнительных пути. Одна группа, сумевшая организовать ряд восстаний против джирдженов, была истреблена под корень. Вторая – целиком и полностью признала власть победившего народа, став его бьющей рукой, лягающей ногой и кусающими клыками. Третьи – разбрелись во все стороны, большей частью растворились среди тангутов, монголов. А четвертая группа, объединившая восемь киданских родов, под предводительством достопочтимого гурхана Энийэта ушла на северо-запад за триста-четыреста кес – безастоновочных дневных переходов, – и прослыли они найманами и кара-китаями. Найман, по-монгольски, означало «восемь», а кара-китаи – «северные кидани».
Издавна для найманов бльшими бедами оборачивались внутренние распри их вождей, чем козни внешних врагов.
Родные по крови люди соперничали, разъедаемые завистью друг к другу, и никто никому не хотел подчиниться или смириться с участью равного, словно чье-то проклятие лежало на этом народе. Каждый раз к закату жизни очередного правителя возникало новое противостояние, всегда кончавшееся кровопролитными распрями. Если у вождя было два сына, то народ делился на два лагеря, если же трое, то на три, а если больше – по количеству наследников, чтобы с оружием в руках оспаривать первенство. Иногда победитель выяснялся в результате нескольких молниеносных сражений. Иногда же борьба растягивалась на десятки лет. И каждый раз на полях сражений народ терял лучших своих сыновей. Сомнительные, серые людишки, умевшие отсидеться за чужими спинами или, еще лучше, ловко извернуться, вовремя оказать услуги будущему сиятельному властителю, предав ближнего, добивались высоких должностей, богатства.
Энийэт, подобно своему отцу, уселся на ханскую подстилку, окропив его кровью трех родных братьев. Благополучно дожив до старости, он оставил после себя сыновей Тайана и Буйурука. По завещанию отца его место занял Тайан. Младший брат тут же отделился от него, ушел со своими людьми. Тайан-Хан не противился решению брата, не пытался его удержать, зная нравы своего рода. Потом он несколько раз выражал желание по-братски сблизиться, предлагал высокие государственные должности. Но Буйурук так и не примирился с участью второго, не дал своего согласия, не просил помощи, даже погибая от рук монголов.
Тайан-Хан был первым, кто сумел сплотить свой горделивый народ, превратил в единую силу с мощным организованным войском, равным которому не было в округе. Найманы вернули себе былую славу их предков, Великих Киданей. Во всех войнах, в которых принимали участие или которые развязывали сами, они выходили победителями. Разбогатели, стали могущественными. И вновь всё возвращалось на круги своя: пришла уверенность в постоянном успехе и в то, что благополучная, сытая жизнь – неизменные спутники военных побед. Как властных ханов, так и сам народ охватила вера в собственную избранность и непобедимость. Найманы постепенно превращалась в спесивых, пресыщенных людей, не способных ни к радости, ни к удивлению. Неспроста же они, услышав о победах монголов над многими говорили: очень хорошо, значит, не придется нам распыляться, одним ударом подомнем под себя обширные земли.
Вместо того, чтобы готовиться к войне, найманы заранее начали делить ещё не добытые земли, считая собственную победу делом само собой разумеющимся. Иные ханы, опережая друг друга, предприняли одиночные вылазки, опираясь лишь на силы своих улусов, дабы побить монголов и стать хозяевами над ними. И поступив так, сами сунули головы в пасть беды. Одни были полонены, войска других – разбиты.
Тайан-Хан собрал и повел найманское войско также в большой уверенности, что идет наказать этого монгольского выскочку Чингисхана: он был уверен в легкой победе и настраивался на показательные учения, а не на войну.
Кучулуку тогда было четырнадцать лет, но отец уже выделил ему пять боевых мэгэнов, и во главе их юноша стоял позади основного войска, в резерве. Как ему хотелось скорее ринуться в бой, впереди всех, разбить наголову врага, но судьба тогда уготовила Кучулуку другую участь.
Отец его, непобедимый и великий Тайан-Хан, с основными силами попал в окружение. Сторонники найманов – татары, кэрэиты, хатагы, ойураты, дурбуены, салджиуты, воевавшие под началом мэркита Тохто-Бэки, – тут же бросились врассыпную, что называется, дали деру. Большинство из них потом собрались и двинулись следом за джаджыратами Джамухи, предавшими Тайан-Хана ещё до начало сражения и ушедшими в Алтайские горы.
А Кучулук с Тохто-Бэки убежали на запад, к берегам Иртыша.
Племена, ушедшие в сторону Алтая под предводительством Джамухи, вскоре перессорились между собой и, если не передрались, то расстались, разошлись разными тропами. Наиболее разумные их них вернулись в восточные степи, влились в рать Чингисхана: тот великодушно прощал вчерашних врагов и ставил в ряд со своими воинами.
Найманы Кучулука прожили бок о бок с мэркитами четыре года. Весной года Желтого Дракона[32] по их следам нагрянули преследователи – монголы во главе с Джучи. Тохто-Бэки погиб, мэркиты были почти полностью истреблены. От найманов же Кучулука выжила лишь половина, да и те разбежались. Сам он в сопровождении всего лишь нескольких воинов сумел уйти к кара-китаям.
В начале года Серого Зайца[33] умер хорезмский правитель Ил-Арслан. Вместо него на престол сел отец Мухаммета Тэкис, одержав победу над младшим братом Баргы. В этой борьбе он обратился за помощью к тогдашней царице кара-китаев Чэн-Тэнь и завоевал трон, благодаря ее поддержке. Тэкис обещал царице Чэн-Тэнь умножить дань, которую правители Хорезма издавна платили кара-китаям.
Получив в наследство слабую во всех отношениях страну, Тэкис мучительно размышлял над путями ее укрепления. С одной стороны, собственные его владения состояли из нескольких областей со своими, мало зависимыми от него, вождями, с другой – на нем висело тяжкое бремя ежегодных податей кара-китаям.
С целью укрепить свое войско он взял в жены дочь кипчакского хана-кочевника Дженкира – Турхан-хотун. В качестве калыма вместе с хотун в Хорезм прибыла великая числом диковатая тюркская рать, противостоять которой никому в соседних странах было не под силу.
Обретя такую мощь, Тэкис теперь мог не бояться своих господ. И он не преминул тут же подмять под себя Бухару, Нишапур, Рей, Мерв, находившиеся доселе под пятой кара-китаев.
На западе Тэкис подчинил себе восточную часть Ирана. Таким образом, у Хорезма по обе стороны выросли крылья. Воодушевленный победами, Тэкис решил углубиться дальше в Иран, чтобы захватить центр исламского халифата Багдад.
Но, уже собрав все войско, двинувшись в поход, внезапно заболел на территории Сахристана и умер 13 июля года Такыкая – Обезьяны[34].
Тогда-то на трон Хорезмского ила и взошел сын Тэкиса от Турхан-хотун Мухаммет. Молодой султан оказался достойным своего отца. Первым делом он захватил земли курдов, простирающиеся вплоть до Индии. Став правителем такой громадной страны, равной которой не было в землях сарацинов – народов, исповедующих ислам, – Мухаммет посчитал, что не подобает великому повелителю мусульман выплачивать дань каким-то ничтожным людям, поклоняющимся богу Тэнгри. Он решил дать бой кара-китаям, к которым в трудные времена прежде всегда обращался за помощью.
В год Белой змеи[35] встретились лицом к лицу две силы, два огромных войска, не знавшие на то время поражений. Три дня и три ночи шел жестокий бой, лилась кровь так, что земля превратилась в красное месиво. А на четвертый – сарацины оказались в сжимающемся, словно удавка, кольце. Мухаммет был вынужден сдаться. Но что не под силу оружию и воинской доблести, то подвластно материнской любви и женскому сердцу. Турхан-хотун не пожалела никаких средств, чтобы устроить побег султанского сына.
Султан Мухаммет оказался человеком упорным. На следующий год, собрав достаточно сил, он нанес кара-китаям сокрушительный удар.
Кучулук прибыл к кара-китаям накануне этих событий.
Если бы он приехал к ним в прежние, благополучные, полные достатка и уверенности в своих силах, времена, вряд ли здесь встретили бы его, нищего бродягу-изгнанника, приветливо. А то могли и прогнать без всяких разговоров, несмотря на благородное происхождение!
Отправляясь на аудиенцию к правителю такого могущественного народа, как кара-китаи, почти единовластно царившего на благодатной земле Семиречья, ставшей центром вселенной, Кучулук достал единственную реликвию, оставшуюся от предков – золотой шлем своего деда Ынанча Билгэ Хана.
Пользуясь тем, что до сих пор все переговоры от имени Кучулука вел старый Кехсэй-Сабарах, и его никто в лицо не знал, перед тем, как отправиться к гур хану, найманский вождь поменялся одеждой с молодым джасабылом. Они были ровесниками, друзьями с детства, и теперь, глядя друг на друга, хохотали от души.
– Теперь я Хан Кучулук! – оглядывал себя джасабыл в ханском наряде.
– Да, но если гур хану найманы были не по душе, то это он тебе велит отрубить голову!
– Зато меня похоронят с ханскими почестями, а тебе всю жизнь придется быть обычным командиром или даже простым воином!
Кехсэй-Сабараху их шутки не нравились.
– Не подобает в игры играть в серьезном деле! – укорял он. – Как бы худом это не обернулось! Мы же прибыли в великую страну за решением своей судьбы.
– Понадеемся на милость Господа Бога нашего Иисуса Христа! – перекрестился ряженый «Кучулук».
– Если сами себя подведем, Бог не спасет! – молвил Кехсэй-Сабарах.
– Чему суждено быть, того не миновать, – не унывал Кучулук-«джасабыл».
Так, смеясь и веселясь, молодые люди и отправились к нарядному сурту гур хана Дюлюкю.
Чуть впереди – «Кучулук» джасабыл, рядом, отстав на полшага, – «джасабыл» Кучулук.
Он и держал перед собой на вытянутых руках дар гур хану – сияющий шлем своего деда.
Суровые, надменные тюсюмэлы, которые в обыденной жизни бровью не поведут без взятки, приподнимались, вставали, сгибали спины и мягчали лицом при виде боевого старинного шлема. Прислужники гур хана с неожиданной резвостью и подобострастием распахивали доселе неприступные двери.
Тем не менее, иноземных гостей продержали перед вратами, ведущими в покои Великого Хана, время, за которое можно сварить баранину. И пока джасабыл «Кучулук» важно прохаживался туда-сюда под чужими взглядами, настоящий Кучулук внимательно наблюдал за поведением тюсюмэлов, которые входили к гур хану, издали начав отбивать поклоны, и выходили, пятясь спиной, и всё кланяясь до земли. Судя по всему, кидани далеко отошли от своих исконных простых, бесхитростных обрядов и близко приняли обычаи и традиции страны западных сартелов.
Сначала тюсюмэлы немного поспорили между собой: вползать ли гостям на коленях, или все же Кучулуку, как преемнику древнего ханского престола большого народа, а значит, избраннику небес, можно войти во весь рост и, склонив голову, опуститься перед гур ханом на колено.
– Сам ничего не спрашивай, – строго предупредил один тюсюмэл переодетого в хана джасабыла.
– Ничего не проси! – грозно добавил другой.
– Ты можешь лишь давать подробный ответ на вопросы гур хана! – учил третий.
– Как только гур хан даст знать, что разговор окончен, тут же оба должны выйти, пятясь назад. И ни в коем случае не поворачивайтесь к нему спиной!
На это «Кучулук-Хан» ничего не ответил, только смотрел угрюмо исподлобья. А вот «джасабыл» вдруг гонористо стал напоминать про знатность и родовитость «своего» хана, но Кехсэй Сабарах незаметным и весьма ощутимым тычком в бок осадил его велеречивый порыв.
Становилось ясно, что старик был прав, но теперь уже ничего нельзя было исправить, и оставалось лишь продолжать легкомысленно затеянную глупость, за которую и впрямь могли отправить на плаху.
Найманы были оглушены и поражены необыкновенно торжественной обстановкой, какой им не приходилось видать даже в прежние победные времена. Чего тут только ни было!
От золота и драгоценных камней слепило глаза. Стены ярко освещенного сурта казались сотканными из молока. Выстроившиеся по обе стороны от дверей люди в разноцветных одеяниях беспрерывно дули в трубы, издавая протяжный звук разной высоты.
– Ух ты!.. – переодетый ханом джасабыл согнул колени и, чуть присев в оторопи, выдал в себе холопского сына.
Кучулук, подняв над собой старый помятый шлем деда, в столь беспощадном блеске показавшийся жалковатым, шагнул вперед в качестве сопровождающего господского слуги, превозмогая стыд. Вошли внутрь, ступая по разостланной на полу мягкой, пестротканой материи.
Десятки глаз стоящих вдоль стен сурта высших сановников, будто по шаманскому заклятью, впились в шлем, который Ынанча Билгэ Хан надевал в своих победоносных сражениях. Слава давно почившего легендарного героя словно одушевила шлем: подернутое налетом времени, истончившееся местами золото вдруг засияло, а потускневшие, только что казавшиеся омертвевшими драгоценные камни вдруг так брызнули россыпью искрящихся огней, что затмили сверкающие богатства роскошного ханского сурта.
– Ух, ты! – теперь восхитились тюсюмэлы.
– Вот это да! Настоящее, изысканное творение старых великих мастеров!
– О, какой жемчуг, как прекрасен этот алмаз!.. – раздавались восторженные голоса, произносившие совершенно незнакомые Кучулуку слова.
К нему, «джасабылу», удивительно легко и грациозно подскочил человек в длинных черных одеяниях, напоминающих одежду священника, только почему-то увешанный бесчисленными золотыми и серебряными подвесками. Похожий на ворона человек осторожно, кончиками пальцев взял шлем, положил перед гур ханом.
Гур хан взял шлем в руки, долго разглядывал, поглаживая каждый камень. Было заметно, как стали подрагивать кончики его пальцев. Вдруг властительный хан снял с головы венчавшую её корону, как ребенок, сверкнув глазами, примерил боевое убранство. Шлем оказался ему велик, сполз набок, словно надетый на палку.
– Головастый старик был, оказывается! – гур хан восхищенно поцокал языком.
– Этот шлем принадлежал не только Ынанча Билгэ Хану, – будто невзначай, повернул речь в нужное русло мудрый Кехсэй-Сабарах. – Когда-то его надевали в сражениях наши общие предки, киданские цари, когда они владели Великим Китаем. Ынанча Билгэ Хану он достался по наследству, чтобы ныне обрести другого всевластного повелителя.
Шлем перешел в руки сидящей рядом с гур ханом старшей жены. И тотчас вокруг боевого убранства защебетали, восхищенно восклицая, касаясь длинными пальцами, младшие жены и дочери его, все казавшиеся на одно лицо. Гур хан улыбался среди девичьего царства, покачивая головой, словно хотел сказать, мол, все вы хороши, да нет среди вас парня. Неужели у него не было сына?
Вдруг гур хан изменился в лице и посмотрел на гостей тяжелым, испытующим взглядом:
– Ну, рассказывайте. Кто из вас хан, и кто – слуга?
От этих слов Кехсэй-Сабарах чуть сквозь землю не провалился. Беда! Какой позор! Выходит, гур хан сразу разгадал их маскарад!
В то же мгновение Кучулук мужественно шагнул вперед.
– Я – прямой потомок царей Великого Китая, внук Ынанча Билгэ Хана, единственный сын Тайан-Хана, Кучулук-Хан.
Люди загудели, удивленные явлением вошедшего в качестве слуги вождя найманов. Затем наступила напряженная, угрюмая тишина, готовая разразиться громом.
Но, к счастью, вместо ожидаемых громовых раскатов, послышался заливистый смех.
– Забавляетесь, добрый молодец, – разом снял напряжение гур хан. – Я в молодости хорошо знал твоего деда. Несколько раз гостили друг у друга на Курултаях по приглашению. Увидев тебя, я сразу догадался, кто ты. По внешности, по стати ты – вылитый дед. Породу не спрячешь. Для пытливого взора она заметна и в лохмотьях раба, – с подчеркнутой гордостью заявил гур хан, оглядывая свиту.
– Великий гур хан! Прошу, не думайте, что от безделья озорую или так поступил от неуважения к вам, не забавлялся я, наоборот, поостерегся, как человек, находящийся в крайней нужде. Мало ли что могло случиться. Не гневайтесь, плохого не думайте, – просил Кучулук, стараясь сгладить неприятный осадок, оставшийся от выходки, недостойной родовитого наследника.
– Хорошо, – со сталью в голосе произнёс гур хан, как бы показывая, что устал от общения с шутом. С почтением обратился к Кехсэй-Сабараху. – Судя по внешнему виду, ты, старик, за жизнь немало повидал. Чем занимался на своем веку, кому служил, какого призвания?
Кехсэй-Сабарах, шагнув вперед, упал на колено:
– В молодости я на самом деле немало побродил по свету. А призвание у меня одно – с тех пор, как помню себя, – я воевал. Война стала делом моей жизни… моим единственным занятием.
– Имя?
– Кехсэй-Сабарах.
– Да ну! Вон как! – воскликнул радостно гур хан. – Вот ты каков, оказывается, тот самый знаменитый, прославленный Кехсэй-Сабарах.
Повелитель вскочил, приблизился к старику, положил руку ему на плечо.
– Приятно слышать, – вдруг задрожали губы старого воина и навернулись слезы на глаза. – Думал, что проторенные мною тропы давно уже исчезли с лица земли, поросли травой, предано забвению имя мое.
– Мы, народы, оторванные от родных исконных земель, даже во сне не расстаемся с оружием: войной живем, из войны извлекаем средства к существованию, поэтому высоко чтим славных воинов, – гур хан похлопал старика по плечу. – Ну, хорошо! Скажи мне, в чем ваша нужда? Я дам тебе все, что захочешь!
– Все предназначенное мне на этом свете я получил сполна. О чем теперь могу еще просить? – сказал Кехсэй-Сабарах и, указав на своего молодого тойона, продолжил: – Одного прошу: чтобы вы посмотрели милостиво на моего молодого правителя Кучулук-Хана, внимательно его выслушали. Он отпрыск знатного рода, потомок славного племени, хоть и находится сегодня в крайней нужде. О, если бы вы дали ему возможность, помогли крепко встать на ноги, он мог бы стать верной опорой и надежным союзником.
– Хм!.. Ты задал непростую задачу. – Гур хан несколько раз многозначительно кашлянул, испытующе глянул на Кучулука. – Сегодня он пришел ко мне в чужой одежде, хотя шел просить помощи у самого гур хана. А не изменится ли его личина, когда твой молодой тойон Кучулук-Хан получит из моих рук власть над людьми и наберется сил?
– Среди здешних народов бытует древняя пословица, что яблоко падает недалеко от дерева, на котором росло. Точно так же Кучулук, хоть и балуется по молодости лет, подобно молочному жеребенку, но никогда и ни за что не отступит с дороги своих великих предков. Я склоняю перед вами, перед вашим величием свою седую голову, которую не склонял еще ни перед кем, кроме своих ханов, – сказал Кехсэй-Сабарах дрожащим голосом и, опустившись перед гур ханом на правое колено, поклонился ему до земли.
Гур хан вскочил, подхватил старика за подмышки, поднял и растроганно воскликнул:
– Не надо, не надо! Если есть человек, который по-настоящему понимает и ценит твои выдающиеся победы над грозными врагами, добытые для своих ханов, твою великую мощь и громкую славу, которая грозным эхом катилась по Степи, укрепляя основы Ила, то это – я! Мы решим так. Ты, великий воин, не роняй сегодня своего победного имени ради какой-то мелкой просьбы. Пусть будет так, что ты мне не кланялся, а я этого не видел.
– Почему?.. Почему, гур хан?.. Я прошу потому, что пришел крайний случай, нет иного выхода. Что значит эта пустая былая слава, преходящая, словно проплывающие по небу облака? Наши победы, сверкнувшие на мгновение и угасшие, подобно сорвавшейся с неба звезде? Теперь, когда все уже позади, оказываешься перед леденящей душу истиной: в настоящем не имеет значения, кто победил или кто потерпел поражение в минувших смертных боях.
– Нет-нет! Не говори так! Хоть и не по нраву пришлась мне глупая шалость молодого человека, но не могу отказать тебе! Пусть будет по-твоему! Мы признаем Кучулук-Хана как единственного найманского хана и подтверждаем это! Я сказал! Бичиксит! Пиши указ.
Все, кто находился в сурте, упали перед гур ханом на колени.
– А вы… – гур хан повернулся к своим тойонам и сказал тихо совершенно другим, жестким голосом. – А вы посмотрите на этого великого старца. Как он, забыв обо всем, защищал своего хана!? Пусть это послужит наукой для вас. Он даже перед Чингисханом на колени не становился. Более того, когда Величайший, желая видеть его в своих рядах, предложил ему чин и должность, не принял, вернулся к своему неокрепшему еще, слабому, но исконному хану. Вот это и есть верность данному слову, нерушимость произнесенной клятвы! – На какое-то время гур хан замолчал, оглядывая столпившихся вокруг придворных, людей из свиты. – Вас бы так испытать. Как бы себя повели? Я не уверен, – повернулся он к Кехсэй-Сабараху, – чтобы кто-то из них поступил, как ты. И от этого мне очень и очень горько…
В сурте наступила тишина. Тойоны, каждый из которых считал себя большим человеком, не четой какому-то старику-бродяге из угасшего племени, с обидой восприняли эти слова. Но все они молча опустили глаза.
– А что делать с этим слугой, переодевшимся в одежды хана? – гур хан указал в сторону джасабыла, и без того отупевшего от стыда. – Тот, кто проник в мои покои под видом другого человека, может покинуть их только без головы.
Молчавшие до сих пор тюсюмэлы зашептались одобрительно, зашумели, будто обрадовались этому странному объявлению.
Кучулук шагнул вперед.
– Великий гур хан! Если вы признали меня ханом, то мой джасабыл оделся в эти одежды по велению хана. Так что виноват во всем я. Признаю свою ошибку, допущенную не по злому умыслу, а по молодости и глупости. И нижайше прошу, усмирите свой гнев, проявите милость, – теперь Кучулук упал на колено и низко склонил голову. – Я преклоняюсь перед вашим высоким именем и благодарю за великодушие ваше! Пусть я сегодня сирота бесприютный, но даст Господь Бог Христос сил, вдесятеро отплачу за добро ваше!
– Хороший ответ. Первое испытание ты прошел: не оставил друга, пусть он всего лишь твой слуга. Мои люди соорудят для вас стан, достойный твоего ханского звания.
Вот так за столь короткое время в покоях Великого Хана Кучулук несколько раз попадал из огня да в полымя.
Он возвращался в сурт, куда определили его с товарищами на постой, молча. Хорошо было на душе. Даже чуток слишком. Все-таки получить поддержку самого гур хана, которая означала признание и подтверждение его высокого звания, – это многого стоит! Кучулук думал о том, как он оправдает доверие, будет истово служить, и видел себя на белом коне впереди большого войска. Шедшие следом за ним друзья также за всю дорогу не обронили ни слова, видимо, разделяя его чувства. И лишь когда вошли в сурт, Кучулук с удивлением обнаружил, что у верных его товарищей понурый вид.
Джасабыл снял с себя ханское одеяние, из-за которых чуть не поплатился головой, переоделся в свои привычные боевые доспехи, и только тогда облегченно вздохнул, тотчас упав перед своим ханом на колено:
– Кучулук-Хан, пока жив, буду благодарен тебе за то, что спас меня, заслонив собой!
– Не говори ерунды! – отрезал Кучулук. – Нас осталось так мало, что если не будем беречь друг друга, защищать, а уж тем более, предавать, подставлять друг друга, то все перестанет иметь какой-либо смысл! А не будет нас, перестанет существовать великий народ. А пока мы есть, пока мы вместе – найманы живы, и у них есть будущее!
Кучулук улыбнулся, чуть застыдившись своей слишком возвышенной речи.
– Ладно, – добавил он просто, – иди, лучше поесть добудь. Мы должны есть хорошо.
Джасабыл опрометью бросился исполнять поручение.
Кехсэй-Сабарах, глядя на молодых друзей, щурил благодушно глаза. Однако так ничего и не сказал, оставшись наедине с ханом. Оба сидели неподвижно, глядя в разные стороны, одинаково прислушиваясь к чему-то пронзительно гудящему в душе каждого из них Кучулук-Хан с удивлением обнаружил, что ломит кости и горячо жжет в груди. Немудрено: в свои семнадцать лет он столько отведал горького и сладкого, пережил взлеты и падения, большой чаркой хлебал беды и радости, прошёл-проехал такие расстояния и встретил на пути своем столько народов, что другому человеку вдоволь хватило бы на три жизни! Чудом вырывался из цепких когтей смерти, оказываясь зажатым в кольце врага; не раз обдавала леденящим холодом пролетевшая на волосок от него шальная стрела; грозное острие копья скользило по его виску. Страшно бывало – мурашки бегали по спине! Но такого чувства опасности не было! Там требовались смелость, смекалка, быстрота! А здесь… думать надо и думать. Как говорится, держать ухо востро.
Здесь все решают острый ум и бойкий язык. Высказанная вовремя умная мысль, веский довод, верное слово могут в корне изменить твою судьбу. Странно, но пышная, благодушная придворная жизнь таит в себе особую опасность. И как выматывает она, и как заставляет бояться даже его, который доселе казался себе бесстрашным человеком!
– Да, в трудную переделку попали, – Кучулук покачал головой, обращаясь к Кехсэй-Сабараху. – Не знаю, что было бы с нами, не будь тебя рядом. О, не зря, оказывается, говорят, что громкая слава открывает крепостные ворота! Старик гур хан ценит тебя! Видел и помнит моего деда, потому сразу же узнал меня. Кого я хотел провести! И как только он простил меня! А ведь вы предупреждали, да я, глупец, не внял вашему совету. Теперь, задним числом, и сам не пойму, зачем, из каких соображений я так поступил? Больше никогда не буду перечить вам! Я сказал!
– Ты сказал, я услышал, – Кехсэй-Сабарах усмехнулся горячности мальчишки. – И если ты готов следовать моим советам, не горячись! Не давай обещаний, которые завтра могут помешать тебе. Что значит, никогда не буду перечить тебе? Да, я больше повидал, знаю побольше, но все же я – лишь твой советник. А ты – хан. Ни на миг не забывай, что ты хан. Сегодня у тебя один советник, а завтра – их будут десятки. И у каждого по одному вопросу могут быть разные мнения. Как бы ни доверял мне, что получится, если будешь следовать лишь советам одного человека?
– Хм… Что я тогда должен был сказать? – Кучулук усмехнулся и, подобно маленькому мальчишке, почесал затылок.
– Скажи, что всегда будешь внимательно выслушивать мои советы и взвешивать их. Для меня этого достаточно.
– Но ведь я и так, вроде, почти всегда слушаю тебя, – хан опять почесал затылок.
– Правильно, слушаешь. Но часто, именно «вроде». А на самом деле, если что-то не по тебе, пропускаешь мимо ушей. А вот если что-то по нраву, конечно, слушаешь всем сердцем и принимаешь. Вот и кажется тебе, что слушаешь, считая это за заслугу.
– Что правда, то правда. Признаюсь! – хан засмеялся, совершенно став похожим на провинившегося ребенка. И снова царапнул затылок. – Почему я такой?
Кехсэй-Сабарах грустно вздохнул, глянув на парня. Довольно долго молчал. Несколько раз старик даже набирал воздуху, порывался что-то сказать, но получился лишь вздох.
– Я должен знать причины своего поведения, – помог заговорить ему хан. – Понять свой характер, чтобы управлять им. Понимать ошибки, уметь их признавать, сдерживать чувства. Без этого меня могут называть ханом, но настоящим ханом я не буду.
– Вот это дельные слова! – помутневшие глаза Кехсэй-Сабараха загорелись, лицо посветлело. – К широкому пути приведут лишь мудрые решения. Ну, раз ты сам просишь, сам желаешь услышать… Истину знает лишь Всевышний, лишь высшие силы способны узреть ее! А смертные люди могут судить да предполагать, исходя из жизненного опыта, из того, что от людей слышали да из преданий узнали.
Старик с радостью увидел, как внимательно, совершенно по-новому слушает Кучулук. Прежде молодой хан уже бы нетерпеливо ерзал на месте, улыбался из вежливости и потряхивал головой, мол, все понятно, старик, давай покороче! Его манила степь, где подростковые забавы текли вперемешку с грозными взрослыми делами. Кехсэй-Сабарах даже иногда с опаской подумывал, что да, хорош парень, и ловок, и смел, боец удалой, но сомневался: получится ли из него предводитель и повелитель? Теперь Кучулук восседал на пестрой подстилке, будто сокол перед охотой. Крутой лоб словно нависал над лицом, а в глазах отражалось каждое слово учителя. Как он в эти мгновения был похож на своего отца!
Старый воин спрятал улыбку умиления и продолжил суровую речь.
– Любой человек должен понимать, что его характер и внешность передаются ему от предков, как древесный ствол растет из корней. У глупца, произошедшего от рода никчемного, случайного, и судьба обретает случайный характер, подобно щепке, плывущей по течению. А тот, у кого благородные, знатные предки, прежде, чем совершить тот или иной поступок, может воспользоваться своей родовой памятью, как копилкой, заранее взвешивая все достоинства и недостатки своего характера. Он имеет возможность просчитать, основываясь на опыте предков, возможные ошибки и сделать выводы. Родовитый человек, даже самого пылкого нрава, всегда ведет себя осторожно, руководствуется разумом. Тогда ему удается преодолевать многие преграды, уходить из расставленных недругами ловушек.
– Потому я должен знать не только легенды, воспевающие величие нашего рода, но также всю его подноготную. Только ты один можешь поведать мне всю правду, не искажая ее ни в чем, – сказал Кучулук, вскочил и заметался в маленьком сурте, словно зверь в силках. – Ведь сам я еще не выстроил своей судьбы, и все мои достоинства и недостатки – наследство предков?!
– Истинную правду говоришь, – Кехсэй-Сабарах во все глаза смотрел на своего мальчишку, еще не веря, что хан так быстро уловил суть его слов. – Жизнь человеческая подобна наконечнику длинной стрелы, выпущенной из лука.
– Все зависит оттого, из чего сделан, кем и как был натянут лук, и верно ли заточен и насажен наконечник? Так откуда пошла стрела моего рода и какова она?
– Ты думаешь, что готов выслушать правду, выдержать и понять?
– Выбора не дано. Я должен знать правду о своих предках, какой бы она ни была. Я рожден ханом.
– Это слова настоящего Правителя!
– Давай для ясности рассмотрим то, что произошло сегодня. Сейчас мне самому понятно, что я, в шутку переодев джасабыла Арсыбая в собственные одежды, не считаясь с твоим советом, рисковал не только своей жизнью, но и судьбой нашего народа. Теперь спрашиваю прямо. Только я такой уродился или в отце, в деде тоже были похожие черты?
– Хм… – Кехсэй-Сабарах долго мялся, крякнул и заговорил опять иносказаниями: – Если покопаться в прошлом, то из старого сундука многое можно вытащить…
– Правду! Ты должен рассказать все по правде! Не бойся, что бросишь тень на святые лица моих предков или обидишь меня. Нет здесь никого постороннего. Ты говоришь только мне. А я должен знать это!
– Хорошо-хорошо. Только ты не наседай на меня так. Не горячись. Я уже не молод, надо собраться с мыслями. Думаю, как тебе объяснить….
– Говори прямо, – замер напротив старика Кучулук.
– Теперь я вспоминаю, что и дед, и отец твой на самом деле обладали нравом вспыльчивым, горячим, что вело иногда к опрометчивым поступкам. Очень часто в угоду своему характеру стремились воплотить в жизнь даже случайно влетевшие в голову мысли, а это почти всегда оборачивалось несчастьем.
– А если это были случаи, когда нужно было мгновенное решение, надо было ловить момент?!
– Бывало и такое, бывало. В решительные моменты они вели себя, как герои. Но это не всегда оборачивается крупными победами. В жизни ничего не решается однозначно. Одно дело – уметь принять решение. Это очень важное качество для повелителя. Вот бедного Тогрул-Хана погубила его привычка слишком долго раздумывать, не принимая решения в неотложных вопросах, сомневаться именно в такие моменты.
– Я тоже слышал про это.
– Но это одна сторона. Другое дело – поймать удобный момент. Этот момент в девяти случаях из десяти нужно уметь подготовить! Пусть иные говорят: «Как ему везет!» Но ты о своем везении должен уметь позаботится сам.
– Выходит, медлительность все-таки лучше горячности?
– Выходит, так. Но еще лучше – взвешенность суждений. Не зря есть выражение: золотая середина.
– Значит, только тот, кто ходит по середке, сможет прожить свой век без больших ошибок и упущений? – Кучулук усмехнулся и опять уселся на подстилку, нахохлился, став похожим на хищную птицу. – Но ведь середка, она и есть – середка. Может, это и спокойная долгая жизнь, но – по середке! Без больших, и уж тем более, выдающихся побед и завоеваний!
– Как сказать… Лично я предпочел бы долгую, размеренную жизнь глупой смерти по собственной дури. А сколько на моих глазах сильных племен и родов оказывались истребленными под корень из-за большой горячности и пыла своих предводителей. О, таким орлам укорачивали крылья те, кто с виду казался телком. Но – обладал осторожностью и расчетливостью. Да можно ли вести войско по чужой стране без опаски, без оглядки?! – у Кехсэй-Сабараха от волнения даже задрожал голос, и он невольно перенесся мысленно в прежние, счастливые для найманов времена. – Я делал переходы с войском в сотни мэгэнов!..
Кехсэй-Сабарах вдруг осекся, застыдившись, что позволил себе погордиться.
– Я знаю, мне не раз говорили, – поддержал его ученик, – что ты ни разу не попадал в засады и не оказывался в неожиданных положениях.
– Ладно, что прошлое ворошить, – старику все же было неловко. – Прошло безвозвратно. Как будто ничего и не было.
– Но, по рассказам людей, тебя знавших, воевавших с тобой, выходило, что ты не был таким уж осторожным военачальником?
– Что теперь скрывать, дело давнее, – старик усмехнулся: – Я был хвастуном.
Этого Кучулук никак не ожидал услышать.
– Да ну?! – не поверил он.
– Правда, сынок, правда. Уж я-то знаю, – старик вздохнул. – Когда хан хвалил, а люди возносили хоть малейшую мою удачу, мысли мои парили, язык развязывался. Признание людей окрыляет любого, даже самого посредственного человека. А если я видел, что хан не понимает, не поддерживает меня, делает замечания или ругает, я терял всякую способность думать, падал духом.
– Видимо, это было так. Даже я помню, как огорчились тойоны, когда хан тебя отстранил от руководства войском перед самым сражением с монголами, и ты не стал спорить, – Кучулук заговорил с укором. – Молча и покорно согласился с его решением.
– С решением хана не спорят. Нельзя спорить. Если хан будет менять свои решения, то люди перестанут в него верить.
– Пусть так. Но слишком дорогой ценой заплатил отец и все найманы за это решение. Если б ты настаивал, я уверен, отец понял бы и послушал тебя. Тогда, возможно, не случилось бы столь страшной беды, – Кучулук, во власти вспыхнувшей досады, стукнул себя по колену.
– Задним числом мы все умны. Я сам не раз думал об этом и жалел. Хотя уверен в другом: до той поры при Тайан-Хане найманы не знали поражений, и он решил, что ему нет равных на всем свете. И никто, никакие доводы, никакая сила не заставили бы его изменить свое решение.
– Неужели мой отец Тайан-Хан был так самолюбив, что не стал бы слушать тебя, самого лучшего своего полководца, которому действительно не было равных? – теперь в голосе Кучулука послышались грозные нотки.
– Никогда не имей привычку судить о прошлом с высоты сегодняшнего дня! – поднял голову Кехсэй-Сабарах.
– Высотою сегодняшнего дня ты называешь черные дни, когда мы находимся в крайней нужде, вынуждены просить милостыню у чужих людей, пряча глаза от стыда?! – Кучулук смотрел в упор на своего старого советника.
– И, тем не менее, это так. Высота или ничтожность времени никогда не определяется ни богатством, ни счастьем. Ты на две головы стоишь выше своего отца.
– Каким это образом я, превратившийся в нищего, могу стоять над временами моего отца, прославившего найманов?! – Кучулук пожал плечами, широко раскинув руки. – Я, все войско которого состоит из трех нукеров, тогда как мой отец имел свыше двух сотен мэгэнов?! Все мое богатство вмещается в две сумы, а у отца были табуны, золото, у него было невиданное ханство!
– Ты еще имеешь выжившего из ума советника, нерасторопного, туповатого джасабыла…
– Да ты смеешься надо мной, старик?! – гневно воздел руки Кучулук. – Как смеешь ты потешаться над ханом?!
– Вот теперь я узнаю потомка Тайан-Хана. А ты еще хочешь, чтобы с таким нравом он стал слушать меня, своего подчиненного. Тайан-Хан не стал бы менять своего решения, потому что никто из нас тогда и представить не мог, что монголы, еще недавно маленькое, жалкое племя, могут в считанные годы сделаться сильными и опасными! Никто не мог представить в полной мере то, что сегодня понятно каждому: воинское величие вождя монголов Чингисхана! И это первое, что делает тебя выше твоего отца: наш опыт. А второе… Как ты думаешь, что – второе?
– Ну, говори уж, не тяни душу!
– То, что ты рано познал нужду, лишения.
– Ты полагаешь, это возвышает хана?!
– Ты знаешь, что такое – беда целого народа! А твой отец даже предположить тогда не мог. Тайан-Хан, подражая сарацинским султанам, считал себя «земным отражением Господа Бога», а потому до глубины души, истово верил, что Бог должен вызволить его из любой беды. Он и поплатился за грех гордыни, который не водился за нашими древними предками. Расплата легла и на твои плечи. Теперь дело в тебе: ты встанешь выше на три головы, если сделаешь выводы.