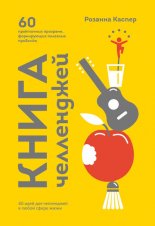По велению Чингисхана Лугинов Николай

Под духовным крылом
Я помню 1992 год, когда проходил первый съезд Международного Сообщества Писательских Союзов (МСПС). Помню слова якутского писателя Софрона Данилова, который сказал: «Очень хочу, чтобы на учредительном документе рядом со мной подписался мой молодой земляк писатель Николай Лугинов».
Доверие обязывает, и сегодня мы видим, что старший коллега не ошибся: на счету у Николая Лугинова несколько книг прозы, и среди них роман «По велению Чингисхана» об основателе великой империи.
Радует в романе совершенно новое отношение к теме, свежая, порой неожиданная трактовка старой проблемы, которая не оставляет читателя равнодушным. Хочется поспорить, и это уже немало, значит, автор задевает читателя. Особенно читателя со сложившимся мировоззрением.
Роман интересен еще и тем, что, несмотря на разделяющие нас восемь веков, читатель найдет в нем множество аналогий с сегодняшней жизнью. Значит, автору удалось найти и затронуть некие общие закономерности становления и разрушения государств, закономерности в жизни людей, в человеческих чувствах.
Так мы в очередной раз убеждаемся в талантливости и художественности национальных литератур, выросших под могучим духовным крылом русской классической и современной литературы. Я с большой надеждой смотрю на золотистую ниву российских национальных литератур, уже создавших и свою классику. Зрелая поросль таких писателей, как Николай Лугинов, продолжает эти классические национальные традиции. И пусть им помогает талант и вдохновение в этом благородном деле.
Сергей МихалковДекабрь 2000 года
Об авторе
родился в 1948 году в Якутии. Окончил физико-математический факультет Якутского государственного университета (1972) и Высшие литературные курсы Союза писателей СССР при Литературном институте им. А.М. Горького (1983). Автор свыше двадцати книг прозы, переведенных на многие языки мира. За французский перевод повести «Таас Тумус» («Каменный мыс») в 1987 году получил Международную премию. Лауреат премий В.Шишкова (2009), «Прохоровское поле», «Расула Гамзатова», Платона Ойунского (2013), Имперской премии (2014)
О «людях длинной воли»
Образ Чингисхана привлекал многих художников слова. В нем видели завоевателя, жестокого покорителя народов, коварного восточного тирана. Роман Николая Лугинова «По велению Чингисхана» – это исторический эпос о создателе великой империи. Будущий непобедимый воитель в пятнадцать лет становится ханом одного из самых малочисленных и слабых племен в Великой степи, живущей постоянной враждой и кровопролитием. Сильный здесь истребляет слабого, но чем могущественнее он становится, тем больше навлекает на себя врагов и завистников. Чтобы отстоять свое племя, Тэмучин разрабатывает свою собственную тактику и стратегию войны, учится побеждать малым числом. Но главное, он вводит своеобразный моральный кодекс – «Ясу Чингисхана». В ней твердо указаны наказания за проступки и почести за доблесть и верное служение. Себя и воинов своего рода Тэмучин называет «людьми длинной воли». И эта четкая родовая, а по существу, государственная выстроенность дает возможность не только победить более многочисленные враждебные племена, но и объединить все народы Степи: отдельные воины и целые племена зачастую добровольно стекались под знамена Чингисхана, увлеченные славой его и определенным знанием того, что ждет их впереди, какая доля уготована. Чингисхан в романе Николая Лугинова философ, учитель народа. А воин он, скорее, по необходимости.
Такова историческая версия писателя Николая Лугинова. С ней можно соглашаться или нет, но нельзя не признать, что художественная ткань его произведения выписана убедительно, с точностью и знанием нравов и быта того времени.
Может быть, с северных земель, где условия жизни неизмеримо сложнее, нежели в Центральной России, в Москве, Николаю Лугинову стало виднее, понятнее, что значит защищенность, которую человек обретает в сильном государстве! «Свободный человек зависим ото всего вокруг и лишен того, без чего свобода теряет всякий смысл – покоя…», – предупреждает писатель.
Сегодня, когда мы переживаем упадок государственности, размытость моральных ценностей, роман «По велению Чингисхана» обретает особую актуальность. Писатель возвращает нас к нашей первооснове, к пониманию того, как из следования родовым законам и заповедям, из четких моральных требований складывается, как из кирпичиков, великое государство, создающее человеку основу для его полноценного личностного самовыражения. Николай Лугинов утверждает: только «люди длинной воли» способны творить историю и строить будущее.
Владимир Карпов
Книга первая
Пусть свершится по установке Одун-бииса,
Пусть будет по велению Чингисхана,
Пусть выйдет по решению Джылга-тойона.
Что там наша воля?
Что там наше желание?
Благородным – решать.
Родовитым – повелевать…
Так-то!
П. Ойунский. «Нюргун Боотур Стремительный»
Глава первая
Притча о Чингисхане
Один достаточно чтит другого, и все они достаточно дружны между собою; и хотя у них мало пищи, однако они вполне охотно делятся ею между собою. И они также довольно выносливы, поэтому, голодая один день или два и вовсе ничего не вкушая, они не выражают какого-нибудь нетерпения, но поют и играют, как будто хорошо поели.
Плано Карпини. XIII в.
Кровным предком, зачинателем рода-племени Чингисхана, нашего великого вождя и предводителя, сумевшего переместить тех, кто прозябал на отшибе да на окраине, в самую сердцевину, тех же, кто жировал в центре, пируя да блаженствуя, веселясь да играючи, будто рыбья молодь в теплой воде, оттеснить на обочину; связавшего тугим монгольским узлом воедино судьбы разных народов и огромных государств; заключившего в объятия свои мир земной, прославляемого и проклинаемого, оправданного и оклеветанного, хулимого и возносимого в веках, – был досточтимый Берте-Чоной, взращенный и спущенный с небес с предопределенной целью Верхними Высокими Божествами Айыы.
Супругой Берте-Чоноя была госпожа хотун Куо-Марал-тай. Они кочевали вдоль устья реки, огибающей подножие горы Бурхан-Халдун. От них родился Бата-Чаган.
Бата-Чаган родил Тамачу, Тамача родил Хорочоон Мэргэна, Хорочоон Мэргэн родил Уоджу Борохула, Уоджу Борохул родил Салы Хачая, Салы Хачай родил Еке-Джудуна, Еке-Джудун родил Сим Сэчи, Сим Сэчи родил Хорчу.
Жену сына Хорчу Борджугунатая Мэргэна звали Могол-джун-Куо. От нее родился сын Тороголджун Байан. У того в свою очередь родились сыновья Дуба-Соххор и Добун Мэргэн. Старший из братьев отличался исключительной зоркостью, несмотря на то, что был слепым на один глаз, а потому и прозывался Соххором – кривым.
Однажды, сидя на высокой скале Бурхан-Халдуна, Дуба-Соххор заметил вдали большое число людей. Он понял, что со стороны севера приближается неизвестный ему род, и послал своего младшего брата Добун Мэргэна навстречу, чтобы разузнать, откуда и куда кочует племя и каковы намерения его вождей.
Добун Мэргэн выяснил: один из крупных предводителей хоро-туматов Хоролортой Мэргэн, женатый на Баргуджун-Куо, дочери знаменитого правителя земель, называемых Хол Баргуджун, Бархадай Мэргэн, уводил свой род подальше от распрей и кровавых раздоров за лучшие охотничьи угодья, обильно политые в последние времена кровью ближних. Мирные цели пришлых людей пришлись по душе Добун Мэргэна, но более всего молодца поразила невиданная красота дочери их вождя Алан-Куо. Вернувшись, Добун Мэргэн, полнясь восхищением, рассказал старшему брату о прекрасной девушке, выразив желание взять ее в жены незамедлительно. Дуба-Соххор сам отправился сватать невесту за младшего брата.
Хоролортой Мэргэн, его жена Баргуджун-Куо, старейшины, оторванные от отчей земли, с радостью согласились породниться с сильным местным родом, умилостив дарами духи Бурхан-Халдуна, вселившиеся в идолов, а также задобрив кровью жертвенного скота верхние божества.
Так Добун Мэргэн и Алан-Куо стали мужем и женой. У них родились два мальчика: Бугунатай и Бэлгинэтэй.
А у Дуба-Соххора было четыре сына. Именно им впоследствии судили Боги стать прародителями четырех изгоев – родов Дюрбюен. Характер они показали смолоду. Как только умер отец, четыре брата, не подчинившись, как того требовал обычай, своему дяде Добун Мэргэну, откочевали на четыре стороны. С той поры и пошла поговорка: «Четыре Дюрбюена, не признающих ни крови, ни родства!» На все их потомство пала тень, так что по сей день люди сторонятся Дюрбюенов или посматривают на них косо.
Удивительно, однако же – как река от истока до устья проносит свои воды, так и по родовому руслу течение поколений несет в себе характер праотцов. Человеку лишь кажется, что он впервые живет и по-своему видит белый свет, являясь в мир единственным и неповторимым. Он может не знать, забыть своих предков, но все равно останется похожим на них, повторит их повадки, поступки, судьбу… Мудрецы-долгожители, называемые в народе «оком земли», безошибочно предрекают еще несмышленому младенцу его будущее, нрав, ошибки и затруднения, поджидающие на жизненном пути, не потому что, как обычно считают, умеют заглянуть вперед, а потому, что тщательно и беспристрастно, ничуть не умиляясь детской пригожестью, изучив внешность ребенка, понаблюдав поведение, умеют определить, кровь каких предков преобладает в нем. При этом им ведомы до мельчайших подробностей дела и поступки каждого из двух линий сорока колен в родословной младенца, циклично и неотвратимо повторявшие характеры и судьбы родов. Родословная перебирается мудрецами с особой тщательностью, когда речь идет о подборе подходящей невесты или нужного жениха для обретающих силу юноши или девушки.
Впрочем, все это важно лишь для избранных, веками, из поколения в поколение с гордостью отстаивающих имя «родовитые». Простым же смертным, челяди или рабам, которым все равно, какие они и каким будет их потомство, подобное внимание к характеру и делам предков ни к чему: их удел личная свобода…
Добун Мэргэнэ ненадолго пережил своего старшего брата. Бедная Алан-Куо осталась вдовой с двумя сыновьями. Тем не менее она не только не расточила, но и приумножила свои богатства, умело управляя работниками и объединив родичей. При этом безмужняя вдова умудрилась родить еще трех сыновей: Беге Хадагы, богатыря Салджы и Бодончора. Все три парня имели совершенно удивительную для степи внешность: были светловолосы, светлоглазы, белы телом и лицом, росли необычайно крепкими, превосходя своих сверстников в силе и выносливости намного. Старцы-мудрецы, глядя на мальчишек, лишь вздымали руки к небу, указывая тем самым на Божественное провидение, обычные люди судили иначе.
Не без наущения последних, охочих до похихикиваний и чужого раздора людей, старшие сыновья, рожденные Алан-Куо от Добун Мэргэнэ, Бугунатай и Бэлгинэтэй однажды затеяли разговор:
– Поблизости нет ни одного человека с такой светлой кровью, от кого же родила наша мать наших младших братьев?!
– Конечно, неплохо, что у нас появились братья, но плохо, что после смерти матери все наше богатство придется делить на пятерых, вместо того чтобы поделить его на двоих.
От матери, как известно, ничего не скроешь: Алан-Куо стало известно об этих речах. Дело было весной, в самую голодную пору, когда кончаются все запасы. Мать достала из самых дальних тайников копченое мясо, сварила, усадила всех пятерых сыновей рядком, а когда те наелись досыта так, что замаслились их глаза, вручила мальчикам по прутику толщиной в мизинчик. «Ломайте», – предложила она. Каждый из них без затруднений поломал свой прутик. Тогда Алан-Куо протянула сыновьям по связке из пяти прутьев. И вновь предложила сломать. Сколь мальчики ни усердствовали, ни одному из них не удалось переломить связанные вместе прутья.
– Так и вы, пятеро родных братьев, – сказала мать. – Будете вместе, в одной связке, как эти пять прутьев, станете непобедимы. Ваша взаимная вера, мир, дружба добавят вам сил. А поддадитесь жадности, корысти, зависти и себялюбию, разбредетесь на пять сторон – не то чтобы черпать силы, даже та сила, что была с вами, оставит вас. Тогда вместо того, чтобы стать великими тойонами, будете подавателями кушаний, открывателями дверей, держателями лошадиных уздечек, слугами дружных родов.
Пятеро сыновей внимали матери, но у двух из них, старших, стали при словах ее опускаться стыдливо глаза.
– У вас есть повод подозревать свою мать, – обратилась она теперь только к ним, к Бэлгинэтэю и Бугунатаю. – На это я вам отвечу: в младой поспешности не берите на себя грех, давая слишком простое и низменное толкование вещам, понимание которых вам пока недоступно. Слушайте, как было на самом деле… Однажды, когда небо утонуло в кромешной тьме, вдруг словно день воссиял передо мной: в дымоход сурта спустился будто светящийся человек, волосы его отливали золотом, глаза лучились небесной голубизной… Он тихо присел рядом… Я замерла, не в силах пальцем пошевельнуть, дыша и не дыша, ибо страха не было во мне, а было лишь удивление и странная радость, сердце, стучавшее, казалось, на всю степь, откликнулось на давний зов Высокой Судьбы Айыы… Еще в детстве мне была предвещена встреча с этим человеком, грезы о нем я порой считала наваждением, пыталась выкинуть их из головы, но от Судьбы не уйдешь… Солнечный человек распростер надо мной руки, и из разведенных его пальцев вырвалось пламя, которое обожгло меня, проникло внутрь, и в нижней части зародилось тепло… Не знаю, долго ли, коротко ли сидел он со мною рядом, только так же неожиданно, как появился, человек поднялся в воздух и улетел в дымоход, подобно огненной птице. Так были зачаты ваши братья. Вы же толкуете об этом, как люди без роду-племени, ходящие заезженными тропками, имеющие короткие мысли, нищие духом… Через века, когда наши потомки станут царями царей, повелевающими великими странами, о них, а значит, и о нас станут слагать легенды и предания, тогда, наконец люди поверят в наше Божественное происхождение, поверят и никчемные людишки, мусор и пыль времен.
Я сказала, что сказала!
Пришла пора, и умерла Алан-Куо. По завещанию матери сыновья первое время жили вместе, сообща управляли хозяйством, растили скот. Но без главы, единого хозяина, которому бы все подчинялись, начали расходиться швы жизни, не ладилась работа. Посоветовавшись, они решили разделить богатство, жить хоть и недалеко друг от друга, но порознь. При дележе, как это часто бывает по отношению к младшему из братьев, ничего не досталось Бодончору. Во-первых, рассудили старшие, он холост и одинок, во-вторых, ни о чем, кроме рыбалки и охоты, не помышлял, ничему не придавал значение, проще говоря, слыл придурковатым. Однако, памятуя наказ матери, старшие братья все-таки совестились совсем уж ничего ему не дать, решили собрать все, что им самим негоже. Последыш Бодончор, при жизни матери ни в чем не знавший отказа, великодушно отослал «свою долю» – обноски братьев – по назначению: нищим и увечным… Показно, чтоб видели люди, оседлал худого серого облезлого жеребца, покрытого язвами и коростой, гордо молвил: «Суждено помереть – так помру, выжить – так выживу!» – и отправился один-одинешенек вниз по реке Онон.
День ехал, другой… Ярость обиды на братьев начала утихать, и все более бередило душу тревожащее чувство, неведомый ему ранее страх перед завтрашним днем. Становилось ясно: одной охотой да рыбалкой не проживешь, потому что у всякой живности есть своя пора. Скоро настанут холода, снег выпадет: где же он будет зимовать?!
Размышлял он так, на своей кляче едучи, голову понуро опустив, как вдруг к ногам его камнем упал гусь-гуменник, убитый метким ударом сокола. Не зря говорится: голь на выдумки хитра. Бодончор, озабоченный своим будущим, вырвал из хвоста своего облезлого жеребца пучок волос, сплел из них силок, поставил петлю, положив для приманки убитого гуся. На его счастье, сокол, привлеченный своей добычей, попал в силки! Бодончор обладал легким нравом, поэтому быстро приручил вольного сокола: так у него появился друг и кормилец.
Скоро Бодончор стал использовать для получения добычи и волков. Однажды он, преследуя дичь, наткнулся на целое стадо оленей, загнанное в овраг волками. Он убил одного оленя, наелся досыта, поразмыслил и понял, что волк, задрав оленя, два-три дня лежит в снегу лежкой, не представляя никакой угрозы, олени же в страхе все еще жмутся друг к другу где-нибудь в расщелине, представляя собой легкую добычу. Судьба улыбалась ему, но волки, словно спасаясь от непонятного человека, топчущего их следы, вдруг скрылись из этих мест.
Стали чахнуть травы и деревья, похолодало враз так, что ночами зуб на зуб не попадал, охватывал его, коченеющего во тьме под зыбкими звездами, ужас. «Что делать, Боги?! Неужели я рожден только для того, чтобы замерзнуть в степи одиноким, будто раненый загнанный зверь?!» – стенала душа.
Бодончор построил себе урасу, утеплив жилище оленьими шкурами. Но и это не спасало от преследующего, выматывающего силы, жуткого страха… Гордый Бодончор, в самых лютых боях и схватках не знавший боязни, теперь обмирал душой при малом завывании ветра!.. В такие мгновения только сокол мог поддержать его, величественно вздымая крылья…
За зиму сокол стал для него роднее родных!.. Прокормились они олениной да мясом тарбагана. А весной, когда стали прилетать птицы, под ударами сокола гуси и утки падали с неба, будто шишки с горного кедрача по осени.
Тогда же, весной, с верховья реки Тюнгкэлик спустилось кочующее племя и разбило стан неподалеку, на противоположном берегу.
Бодончору в его одинокой жизни не раз встречались люди. Сначала он радовался им и заговаривал, но потом стал сторониться: он шел навстречу с распростертыми объятиями, а его откровенно пускали на смех… «Посмотрите, да это тот самый придурковатый последыш Алан-Куо, которая умудрилась родить его, будучи вдовой!..» Бывало, такая злоба брала, хотелось выхватить из ножен меч, да и сделать хотя бы из трех-четырех корм воронью, а там будь что будет!.. Но в удушье обиды, стыдясь расплакаться да разрыдаться на пущее посмешище, он лишь бросался прочь, бежал, подгоняемый раскатами хохота, презирая весь род людской, ненавидя себя…
Люди с верховья Тюнгкэлик были иными. Им было все равно, кто он, откуда, почему один, ибо каждый из них, оставаясь в племени, жил сам по себе, независимо от общих желаний и решений – молодой человек здесь был равен старшему, женщина мужчине, а слово вождя не являлось законом.
Бодончор присматривался к жизни этих людей, все более очаровываясь: разве плохо, когда каждый поступает, как хочет, никто никому не подчиняется и никем не распоряжается?! Каждый сам себе господин, все позволено!.. Прекрасная, удивительная, свободная жизнь!
Среди тюнгкэлинцев Бодончор не чувствовал себя изгоем. Он приносил им гусей и уток, а они поили его кумысом, ни о чем не спрашивая. И совсем уж сердце одинокого юноши возликовало, когда он познакомился с одной из женщин пришлого племени. Выделил из других он ее раньше: Бодончор тайком любовался ею с противоположного берега, когда та приходила по воду, – чуть приподняв подол платья, она забредала по щиколотку, ладным красивым движением откинув волосы назад, словно конь гриву, зачерпывала воду бадьей, уходила, извиваясь водорослью… Женщина также приметила его и помахала рукой, смеясь… А когда он в стыдливости хоронился так, что она не могла его видеть, женщина всегда угадывала его взгляд, отвечая на него то кивком, то заливистым смехом… Тогда он осмелился и подошел к ней, переправившись через реку. Звали ее Адангхой, была она из рода уранхаев. Но… оказалась замужней.
Бодончор приносил в ее сурт гусей и уток, которых в изобилии добывал сокол. Она наливала ему кумыс, и он вздрагивал, немел от прикосновения кончиков ее пальцев, чарующего движения ниспадающих волос, близких улыбающихся губ…
Мужчины и женщины племени, пришедшие с верховья Тюнгкэлика, были свободны в любви. То, что в роду Бодончора называлась распутством и осуждалось, здесь было делом обычным, нормой: женщины не хранили верность, а девицы не берегли честь… Ибо каждый поступал в соответствии со своими желаниями: столь безгранична была тяга к свободе!.. Но вольный Бодончор в отношениях с Адангхой не мог переступить законов и понятий, сложившихся в его племени. Он уходил, все более восторгаясь жизнью племени Тюнгкэлик: «Ах, если бы все так жили, не было бы войн, вражды, корысти!..»
Когда же он увидел полюбившуюся ему женщину в объятиях одного из мужчин племени, имевшего жен и детей, сладить со своим пониманием ему стало сложнее. Адангха, ласкавшая чужого мужа у семейного очага, ничуть не смутилась, когда вошел Бодончор, а лишь поднялась и взяла с улыбкой из его одеревенелых рук гостинцы… Бодончор вышел, побрел, будто в забытьи… Но тут же его заставил вздрогнуть и словно проснуться голос юноши, который кричал на согбенного старика!.. Бодончор попытался вступиться за старца, но тот затряс руками, мол, ладно, ладно, что ты, что ты, пусть…
Старики не были здесь равны молодым, как ему сначала показалось: они были зависимы от них, ибо немощны.
Не успел Бодончор переправиться через реку, как нагнал его оклик:
– Эй, друг, продай мне своего сокола!
Это был вождь племени. На сокола он уже давно смотрел горящими глазами, как, впрочем, и многие мужчины племени, не знавшие прежде соколиной охоты.
– Как же я без него буду жить?! – простодушно ответил Бодончор.
– Отдаю за него стадо овец!..
– Нет…
– Табун лошадей!..
– Зачем мне столько скота? – был непреклонен Бодончор. – Одни хлопоты. А с соколом я не пропаду!..
Даже через реку было видно, как пламя злости, жадности и зависти полыхнуло в глазах вождя.
– Смотри, – произнес он угрожающе страшные слова правды, – ты одинокий человек. Мы могли бы отобрать у тебя сокола силой – за тебя некому вступиться. Но мы хотели с тобой по-людски… Так что пеняй на себя…
Бодончор остро ощутил себя одиноким тоненьким стебельком ковыль-травы, пригибающимся под дуновением слабого ветра… При жизни с братьями он не дал бы обидчику и с места сойти.
Но что делать… С ним действительно легко расправиться, и не только никто не отомстит, но даже и не пожалеет о нем!..
Бодончор поплелся восвояси, понимая, что давно живет заячьей жизнью, прислушиваясь к каждому шороху, вздрагивая от каждого звука.
Свободный человек, оказалось, зависим ото всего вокруг и лишен того, без чего свобода теряет смысл – покоя… «Даже чайки, – глянул Бодончор на резвящихся над водой птиц, – не имеющие гнезд, откладывающие яйца, где попало, сбиваются в стаи, чтобы защититься от врагов!»
«Дурак всегда запоздало кручинится, принимая от наделяющего людей судьбой Божества Джылга-Хана лишь то, что тот ему пошлет, – вспомнились ему слова матери. – Умный же судьбу завоевывает, зная путь наперед…»
Охватывала тоска по братьям, вымещая из памяти обиду. Сокол в клети посреди жилища гортанно вскрикнул навстречу, словно предупреждая, что от пришлого безродного племени нужно держаться подальше.
Утро было ясным. Ласково покалывали щеки лучики солнца, речная гладь переливалась бликами. Но и это не приносило утешения, а скорее наоборот… Бодончор сидел на берегу, и нехорошие мысли пошли-поплыли от манящего, завораживающего движения реки: а не здесь ли, не под толщей ли этой воды судьба его?.. Камень на шею – и отмучился…
– Бодончор!.. – помахал ему с другого берега молодой охотник-тюнгкэлинец.
Изгой напрягся: неужто к нему опять насчет сокола?!
– У нас находится человек, который разыскивает тебя! Он очень на тебя похож, такой же светлый, но только очень, очень важный! Настоящий хан!
Бодончор вскочил, не зная, что сказать, махнул лишь в ответ, потряс головой, да снова сел: подкосились ноги-то!.. Пронаблюдал искоса, когда молодой охотник удалится, и в неожиданном, страстном приливе сил вновь поднялся, забегал кругами… «Кто-то из братьев приехал, – понимал он, – кто еще может быть на него похожим, да и кому он еще нужен?!» Верилось и не верилось: неужели он, в самом деле, нужен?! А может, просто дошли до них слухи да пересуды о нем, несчастном перекати-поле, разыскивают, чтобы не позорил…
Опять ноги стали не слушаться, подкашивались, будто у древнего старика… Вдруг показался всадник вдали, ведущий за собой свободного скакуна… По выправке и осанке Бодончор узнал Беге Хадагы, брата, который всегда был ему особенно близок и которого он вспоминал чаще других…
Бодончор собрал все силы, распрямился, встал степным орлом, ожидаючи…
Но лишь приблизился брат так, что стали различимы черты родные его, очи ясные, не выдюжил гордец, спала спесь, застлались слезами глаза, крик ли, рев ли звериный вырвался из груди, да и бросился он брату навстречу!.. Заревел в голос, по-бабьи, и Беге Хадагы, братка родный, спрыгнул с коня, стиснул, рыдаючи, в объятиях!..
Потом они сидели, смотрели друг на друга с такой пристальностью и удивлением, будто небожитель встретился с обитателем преисподней…
– С Божьей помощью зиму пережили, – рассказывал Беге Хадагы тоном почтительным и смущенным, словно перед ним был не младший брат, а старец-мудрец, называемый «оком земли».
Именно таким, возмужавшим, познавшим тяготы и премудрости жизни, Беге Хадагы и воспринимал еще всего лишь год назад озорного и бездумного Бодончора.
– Хотя с осени было дело, чуть не полегли все… – продолжал Беге Хадагы. – Перед самыми заморозками вдруг напало на нас неизвестно откуда взявшееся племя!.. Были на волосок от гибели, едва удалось отбиться…
– Напали, когда вы были порознь?
– Конечно. Во время осеннего отора, когда перебирались, прежде чем остановиться на зимовку, на более богатое отавой место, захватили брата Бэлгинэтэя, потом Бугунатая, не дав опомниться. К счастью, это увидели нукеры Хадагына, рыбачившие на противоположном берегу. Прибежали ко мне. Мы с Хадагыном собрали своих людей, напали сообща, заставили их умыться кровью… Главарей убили, а мелких разбойников поделили меж собой, как слуг и рабов.
– Даже после этого вы не съехались?
– Съехаться не съехались, но решили не разбредаться, как раньше, держаться друг друга, жить общим советом.
– Жить советом – это хорошо. Но рано или поздно наступит момент, когда вы не сможете найти общего решения. Кто-то должен быть главным…
– Ты же знаешь своих братьев!.. Подчиняться они не умеют…
– Ну, если вы не можете распорядиться собой, быстро найдутся те, кто станет распоряжаться вами…
– Ты говоришь так, брат, будто ты чужой, – встревожился Беге Хадагы, – ты ведь тоже наш…
– Разве?.. – чуть усмехнулся Бодончор. – Посмотри внимательнее на себя – и на меня…
– Прости, брат… – искренне засовестился Хадагы, – я за этим и приехал, просить прощения… И все остальные просят прощения и понимают вину перед тобой. Я приехал сказать тебе, чтобы ты возвращался… Каждый из нас, старших, выделит тебе твою долю…
Бодончор опять усмехнулся с тоской в глазах: мог бы он напомнить о том, что однажды братья уже выделяли ему «долю»… Но одиночество не лишило Бодончора гордости, а лишь добавило к ней великодушие:
– Пусть будет так. Я вернусь с тобой. Дадите долю – хорошо, а не дадите – и на том спасибо. Но одна просьба у меня есть. Племя, которое ты повстречал на пути… Оно многочисленно, но безродно. Всяк в нем живет по-своему, не подчиняясь никому. Это племя обречено так же, как обречен был на безродность и животную смерть я, оставаясь один. Помогите мне покорить его!..
Сразу же, после радости встречи и веселого пира, братья, вновь сплотившиеся дети Алан-Куо, решили напасть на жителей реки Тюнгкэлик.
Возглавил поход человек, знающий местность и заранее все обдумавший – Бодончор.
Новому военачальнику удалось взять тюнгкэлинцев, что называется, голыми руками: он захватил их спящими, когда даже караульных, опившихся архи, трудно было добудиться.
Так в один миг Бодончор из нищего одиночки превратился во владельца многочисленного люда и скота. Ни один из братьев теперь не мог с ним сравниться богатством!.. Он также понимал, что, хотят того они или нет, зависть даст о себе знать… Бодончор опередил ее, зловредную, отдал каждому из братьев их долю, считая победу общей. Братья были так рады, что наконец-то на самом деле выделили младшему его долю из числа исконных, преданных слуг. Таким образом, у Бодончора образовался круг подчиненных, на которых он мог опираться в управлении своенравными, не привыкшими к повиновению людьми.
Жизнь шла на лад: Бодончор крепко взял узды судьбы в свои руки. Но вновь и вновь приходилось ему поражаться и с изумлением открывать премудрости жизни: с виду все просто, а вот изнанка многообразна… Был гол, не имел ничего, кроме тени своей да верного сокола, считал, что одинокий человек не может быть свободным и счастливым, потому что находится в вечной службе у своего живота! Стал большим господином, а… разве можно быть свободным и счастливым, с утра до ночи, с ночи до утра занимаясь всеми и всем, только не собой?!
А тут еще народ такой, что кроме собственной прихоти да придури ничего знать не желает!.. Характер же не изменишь: думами овладеть несложно, а вот привычки, нравы веками не вымоешь!
И братья, и все вокруг советовали ему жениться, пытались сосватать невест. Бодончор и сам понимал, что надо, пора. Не лежала ни к кому душа. Приведут – и хороша, и умела, а… не нужна. Кто был нужен – он знал. И всех других он сравнивал с ней, вспоминая, как заходила она в воду, приподняв чуть подол… Полюбилась ему Адангха в дни тяжкие, смутные, когда белый свет казался черной ямой, а она так поддержала дух его своим игривым смехом… Помучился, помучился, а потом решил – зачем?! Отказался от всех родовитых невест, нашел среди подданных своих Адангху – была она к тому времени на сносях, но и это его не остановило, – да и сделал ее женой-госпожой.
Адангха хоть и жила среди тюнгкэлинцев, но взята была из доброго племени, а потому, когда пришла пора и она родила, сына назвали в память о материнском роде – Джарадарай. Внук Джарадарая – дед блистательного воителя Джамухи, состязавшегося в ратной славе с самим Чингисханом! Как знать, на какие высоты воинской доблести взошел бы Джамуха, если бы не сбивал с пути на пустое веселье и озорство его отзвук крови далеких предков…
Четыре брата, сыновья Алан-Куо, дали начало крупным родам.
Бэлгинэтэй – бэлгиниэты.
Бугунатай – бугунуоты.
Беге Хадагы – хадагы.
Букутай-Салджы – салджы.
От младшего же, Бодончора, пошли великие бурджугуты.
Семь сыновей внука Бодончора Менге-Тудуна расширили родовое древо так: от старшего из них, Хойду, пошли тайчиуты и бэсиуты; от Джодун-Ортогоя – оронгоры, хонгкотои, арыласы, сонгуты, хатыргасы, кэнигэсы.
Громадный Барылатай дал жизнь известным обжорам, рослым и крупнотелым барыласам.
Харандай основал род быдаа, которые пошли в своих предков тюнгкэлинцев привычкой к беспорядку и хаосу.
От одного из внуков Менге-Тудуна, горделивого и спесивого Наяхыдая, берет начало найахинский род, ни на йоту не растерявший в веках нрав своего прародителя.
Сын Хачыана, непримиримый упрямец Адархай Адаар – зачинатель рода хадаар, что означает грубый, ищущий причину для ссоры.
Два сына Начын-Батыра от его младшей жены Урутай и Мангытай дали степи великих воителей, мужественных и стойких урутов и мангытов.
Потомство Тумбуная-Сэсэнэ было величайшим из великих, сравнимым лишь с сиянием небесных светил. Его сын Хангыл-Хаган сумел объединить и возглавить всех монголов. Правнуку же Хангыл-Хагана Тэмучину, прозванному Чингисханом, суждено было объять своей дланью пол-Земли.
Глава вторая
Охотники
§ 59. Тогда-то Есугай-Баатур воротился домой, захва-тив в плен татарских Темучжин-Уге, Хори-Буха и других. Тогда-то ходила на последях беременности Оэлун-учжин, и именно тогда родился Чингис-хаган в урочище Делиун-балдах, на Ононе. А как пришло родиться ему, то родился он, сжимая в правой руке своей запекшийся сгусток крови, величиною в пальчик. Соображаясь с тем, что рождение его совпало с приводом татарского Темучжин-Уге, его и нарекли поэтому Темучжином.
Сокровенное сказание монголов. 1240 г.
Охотники, тремя сюнами – сотнями верховых, словно сетями охватив местность, спускались в низину, сжимая кольцо. Их гортанные крики и топот лошадиных копыт слагались в кровожадно нарстающий гул, сотрясая устланную снегом степь, выгоняя зверя из норы, из теплого логова, сбивая с привычных троп, пугая и тесня малого и большого.
– Держать строй! – прерывая гул, раздался грозный рык джасабыла, распорядителя охоты.
Аргас невольно глянул на младшего сына, который скакал по левую от него руку: молодые в нетерпеливости часто вырываются вперед, нарушая цепь. Нет, его Мэргэн мчался, будто воин в бою, припав к гриве, чуть склонившись с коня, цепко глядя перед собой, устремленный вперед, но не нарушал строя. Теплый, собачий язык нежности лизнул сердце Аргаса, и старик мысленно ругнул себя: старуха мать и без того забаловала меньшенького, как говорят, поскребыша, и сам он с ним не по-мужски мягок…
Откуда-то из-под ног коня выскочил заяц и запетлял, теряясь в снежной белизне. Тотчас вжикнула слева тетива. Стрела с пестрым оперением воткнулась перед зайцем. Вторая стрела, выпущенная сыном через миг, угодила в заячий след… Аргас держал зайца на прицеле, но не торопился, зная, что косой обязательно присядет…
Третья стрела с пестрым оперением настигла во всю прыть мчавшегося зайца.
– Хороший выстрел, – похвалил отец. – Но почему не выжидаешь, когда заяц присядет?
– Хотел проверить себя.
Сын, пытаясь скрыть радость, торжество победы – ведь он опередил отца, старого охотника! – степенно спустился с лошади, собрал стрелы, добычу привьючил к седлу. Аргас же вновь подумал: надо строго наказать старухе, чтобы не потворствовала своему любимчику Мэргэну… А то, может, отослать его к старшему, в железные руки?..
– Тот, кто может сразить бегущего зверя – хороший стрелок. Но хороший стрелок – это еще не хороший охотник, – проговорил Аргас, пришпорив коня.
Мэргэн после этого сразил одного за другим еще двух зайцев и трех тарбаганов, стреляя только в бегущего зверя. Движения его были стремительны, точны, глаз необыкновенно цепок. Отец, вида не подавая, с радостью принимал свое поражение в этом негласном споре с сыном.
Меж тем кольцо охотников сужалось. Смыкая ряд, они стали продвигаться совсем медленно, стреляя в мечущуюся дичь. Аргас замечал: с десяток стрел метнулись в бегущего наперерез кулана, но впилась ему в бедро одна, знакомая, с пестрым оперением…
По цепи охотников передали приказ остановиться. Наступало время настоящей, большой охоты. По обычаю, право первых выстрелов принадлежало тойонам и уважаемым старикам. Аргас, все более охватываемый звериным предощущением добычи, молодея от азарта, уже выбирал, метил цель, ожидая команду.
– Сегодня право первой охоты получат юноши, впервые вставшие в стремена рядом со взрослыми, – раздался голос распорядителя охоты Мухулая.
Мальчишки, среди них и Мэргэн, выехали вперед. Ах, как горели глаза их, с какой единодушной верноподданностью устремлялись взгляды в сторону Мухулая, как играла в юнцах каждая жилочка!.. Глядя на них, Аргас заново переживал давно знакомые ему, понятные чувства, тем более что среди подростков был и его младшенький…
Молодых разбили на арбаны – десятки, назначили арбанай-тойонов – десятников. Мэргэн стал одним из арбанай-тойонов. И на глазах, как по волшебству, из ликующих юнцов мальчишки превратились в организованных, собранных, суровых охотников-воинов.
– Кюр-р! – сорвал их с места клич, зовущий вперед. Ряды устремленных к цели юных охотников были подобны монолиту. И так же чеканно, на едином дыхании, по новому приказу они встали, как вкопанные. Звери, стиснутые в кольце, притаившиеся в зарослях тальника, словно в такт людскому движению, затравленно бросились в разные стороны – прямо на охотников. Окрестность пронзил запальчивый посвист стрел!..
– Кюр-кюр! – снова раздалась команда. И опять навстречу охотникам, словно комариный рой, высыпало зверье, в основном куланы. Мальчишки неистово посылали стрелы, ряды их теперь нарушились, и, как сквозь прорванную сеть, не только заяц или лиса, целое стадо оленей вырвалось за пределы первого кольца…
– Хар! – прогремела команда. Юноши бросились назад, по своим местам. Вновь быстро образовали строй. Запоздавшую десятку джасабыл пригрозил отстранить от охоты…
В дело со всей мощью вступали опытные охотники. Аргас свалил оленя и трех куланов, приостановился, пытаясь в толчее разглядеть сына: опасно было, слишком горячего и нетерпеливого, надолго выпускать его из вида…
– Шоно! Шоно! – раздались крики охотников, выгонявших притаившихся в кустарнике зверей. – Волчица!..
В той стороне, куда бросилась волчица, охотники расступились, образовав проход: их предки называли себя потомками волков!..
Скоро загремел бубен, возвещая о конце охоты. Аргас наконец-то разыскал глазами Мэргэна: тот, совсем, кажется, забыв об отце, скликая свою десятку, как и положено, направлялся к центру, на построение.
Верховые, стоя рядами, внимали громовому голосу командира охоты.
– Когда минул полдень, левое крыло отставало, – подводил итог Мухулай, – а правое чересчур торопилось. Молодые достойны похвалы: они точно следовали приказам и не позволяли себе ничего лишнего.
Тойоны-сюняи – сотники, а затем арбанаи – десятники в свою очередь сделали замечания своим людям. И только после этого Мухулай пригласил уставших, взмыленных от пота охотников к дележу добычи.
Разожгли костры, в больших чанах варили потроха. Мясо разделывали на длинные узкие полоски, коптили на дыму, развешивали для сушки. Потом, довольные охотой, раскрасневшиеся от жара костров и обильной пищи, чревоугодничая, неторопливо ели, снимая мясо ножами с костей, выскребая их до белизны, прихлебывая загодя припасенную для такого случая кисловатую молочную архи. Завязывались обстоятельные разговоры, кто-то заводил песнь…
Вестовой на рыже-пегом коне объехал охотников, пригласил тойонов-сюняев к Мухулаю.
– Хорошая была сегодня охота! – чуть улыбаясь и приглашая всех жестом к трапезе, проговорил Мухулай. – Молодежь показала себя. Особенно твой Мэргэн отличился: у него острый глаз!
Аргас сдержанно кивнул, понимая, что речь пойдет о другом. Мухулай не торопился, давая возможность проголодавшимся сюняям и старейшинам насладиться пищей. Аргас давно уже не испытывал той страсти, с которой молодые сюняи поедали куски парящегося мяса: неторопливо, смакуя, он снимал с ребрышка мясные дольки, выскребая кость до сияющей белизны.
– Наступает конец дням, когда мы могли вот так вольно охотиться и жить спокойно… – заговорил вновь Мухулай, когда в лицах охотников появилось отдохновение сытости. – Видит Бог, мы никому не грозили силой. Но теперь уже найманы, как нам донесли, собираются двинуться в нашу сторону!..
Лица охотников тотчас посуровели, а в глазах молодых сюняев даже заблестели огоньки воинственного азарта: для них война была еще и возможностью показать себя, выдвинуться, прославить имя свое и род свой.
– Я думаю, наше войско должно иметь другое устройство. До сих пор перед каждым новым сражением мы поручали руководить войском новому выборному человеку. В малых столкновениях – это себя оправдывало. Но в большой войне может начаться разброд. Скажем, выберем мы сегодня Ходо – он распорядится по-своему, а завтра вновь выбранный Мадай начнет дело с другого конца… А в результате, от арбаная до мэгэнея никто не будет знать, что делать. Нужен один человек, для которого войско, военное дело – станет основным делом! Тойонов-сюняев и мэгэнеев-тысячников назначит сам хан своим указом. Важно правильно подобрать людей. Этим займутся шесть тойонов-чербиев – советников хана, и пятеро самых уважаемых стариков, лучше других знающих родословную каждого: Усун, Аргас, Содол, Джэлмэ, Мадай.
– Позволь сказать? – насупился в задумчивости гордый и обычно медлительный Усун.
– Говори, говори…
– Если, к примеру, мэгэнеем будет один тойон, то как расти другим? Ведь, допустим, сюняй стремится отличиться в бою, чтобы в следующем бою быть уже мэгэнеем!..
– У мэгэнея – десять сюняев. Он может поручить ведение боя одному из них, не снимая с себя ответственности. Сам сюняй может вызваться вести бой вместо мэгэнея, если получит его согласие. Все действия будут оцениваться старейшинами, тойонами-чербиями, на совете с ханом. К тому же тойоны будут уходить с поста, сохраняя за собой звание: если воин стал мэгэнеем, то чин мэгэнея остается за ним на всю жизнь…
– Что же получается?.. – развел в недоумении свои нечеловечески огромные пятерни Усун. – Я теперь останусь мэгэнеем, даже если стану немощным и буду лежать у старухи под боком?!
– Посмотрите на него, – засмеялся толстый Мадай, отчего лицо его стало еще шире, – он и в немощи собирается со старухой лежать!..
Все заулыбались: в свои почтенные годы Усун напоминал племенного быка – прямой затылок переходил в крепкую шею, а та, в свою очередь, в мощные покатые плечи, как бы перерастающие в богатырские руки… Мало кто до сих пор мог сравниться с ним в борцовских поединках!
– Да, – продолжил Мухулай, – ты теперь навеки мэгэней.
Аргас настороженно относился к изменениям в укладе жизни, но это нововведение ему пришлось по нраву: оно укрепляет род.
– Хан пока еще не назначил мэгэнея вашего мэгэна, – обратился Мухулай к остальным собравшимся, – не определены еще пока и шесть сюняев. Вот я и хочу вас спросить: кого вы до поры можете выбрать на место мэгэнея, чтобы этот человек мог заняться подготовкой к войне?
– Благодарю вас, друзья! – воздел тяжелые руки тучный Мадай. – Мы вместе прошли не одну войну, одержали не одну победу. И мне приятно, что вы сейчас смотрите на меня и меня хотите видеть своим мэгэнеем, – Мадай, как всегда, самонадеянно опережал события, – но, догоры, силы мои уже не те, пусть командуют молодые…
При этих словах Мадай почему-то кивнул на Аргаса, хотя был с ним одногодок.
– Согласен с тобой, Мадай, согласен, – кивнул Мухулай. – Заслуга твоя велика, большинство из нас прошли твою науку, чтобы стать хорошими нукерами!..
– Да, – поддержал Джэлмэ, – мы одержали не одну победу и с Божьей помощью не раз одолевали превосходящего нас числом и оружием противника: или, мэркитов, татар, кэрэитов… Но ныне на нас идет враг, превосходящий нас неоднократно. В тойоны нам нужно выбирать не молодых и не старых, а тех, в кого будут верить все, от мала до велика.
– Надо готовиться к долгой войне, – коротко сказал Аргас.
– Кто будет мэгэнеем, решит хан, – подвел черту разговору Мухулай. – А до той поры задачу подобрать сюняев, подготовить тысячу к военным действиям я возлагаю… на Аргаса.
Старый охотник и воин казался себе недостойным звания мэгэнея даже на время, но в беспрекословном повиновении перед вышестоящим в роду опустился на правое колено, склонил голову:
– Ты сказал, я услышал.
После сытного обеда и решенного дела подоспела пора испить архи: пошла чаша по кругу…
– Догор, зайдем ко мне, – по обыкновению широким жестом под-хватил Аргаса под локоть Мадай, когда тот отвязывал узду своего коня.
– Зачем? – Аргасу не нравились молодецкие выходки Мадая, который, ко всему прочему, еще и выглядел старше своих почтенных лет.
– В кои-то веки заделались тойонами: я – сюняй, как ни говори, а ты вообще… считай, мэгэней! Это дело надо отметить!..
– Полвека тебя знаю и не могу понять: ты и впрямь такой или прикидываешься? Страшная война на подходе, а тебе все хаханьки!.. Ну, скажи, зачем ты выскочил вперед других в разговоре с Мухулаем?..
– Я и сам не понимаю, сказал, а потом думаю: чего это я ляпнул!
– Аргас, сделай его сюн алгымчой – охранной сотней, – встрял в разговор Усун. – Потрясет свое толстое пузо день и ночь в седле, может, поумнеет!..
Усун подтянул потуже подпругу и поскакал в сторону своего стана. Аргасу и Мадаю было по пути. Они помчались рысью по безбрежной заснеженной степи. Солнце уже садилось за край земли, но еще лило свой вечерний тихий свет, рассыпаясь искорками в каждом хрусталике талого снега.
– Чох, чох!.. – припустил галопом коня Мадай и, оглядываясь и посмеиваясь, высоко взмахивая плетью, стал уходить вперед.
Аргас вздохнул было, придерживая рванувшегося вслед коня, не желая участвовать в детских шалостях старого друга, но тотчас взыграло, застучало в нежданном мальчишечьем азарте сердце, пятки сами шлепнули скакуна по бокам, взметнулась плеть, и с гиканьем, припав к гриве, он понесся, полетел, словно выпущенная из тугого лука стрела.
– Чох!.. – кричал в небеса Мадай, которому склониться вперед мешал живот, и он скакал как бы отвалившись назад. Но при этом ему удавалось быть ловким и держаться крепко в седле.
– У-ра-а!.. – поравнялся с ним Аргас.
– Ура! – поддержал его воинственный клич Мадай. Так, бок о бок, их кони взбежали на пригорок. Но на самой вершине конь Аргаса резко пошел вперед…
– Подожди, догор, сдаюсь! – взмолился Мадай.
Аргас проскакал по дуге и, останавливаясь, вздыбил коня– ну, чисто юнец! Вздыбил коня и Мадай, показывая, что он хоть и поотстал, но удали пока еще хватает!.. Смеясь, друзья съехались, дальше им было в разные стороны.
– Ну что, догор, может, все-таки завернешь ко мне, – в глазах улыбающегося Мадая появилась печаль, – а то и впрямь, удастся ли нам еще посидеть спокойно за чаркой архи, потолковать…
Возле сурта старых воинов-охотников встретили два сына Мадая, приняли поводья.
– Дай Бог нашим детям такой жизни, какую прожили мы… – сказал в умилении Мадай.
– Мы жили, вечно защищаясь, жили в страхе. Мы не развязали ни одной войны.
– Разве это плохо?..
– Это было бы хорошо, если бы мы сейчас были сильнее найманов. Наших детей может ждать иная слава!..
– Дай-то Бог, дай-то Бог…
Парни даже не вошли в юрту. Пока друзья усаживались, очень молодая и красивая женщина поставила перед ними кожаную чашу с сушеными молочными пенками и белые глиняные пиалы, доставшиеся Мадаю после битвы с или. Женщину можно было принять за дочь или невестку Мадая, но по тому, как тот оскалил в масленой улыбке свои лошадиные редкие зубы, стало ясно, что это его младшая жена. «Он и пригласил для этого, – подумал Аргас, – чтобы погордиться молодухой…»
– Ты суровый человек, Аргас, – заговорил Мадай, подливая другу чай, – а мне, если честно, всю жизнь больше нравилось спать со своими женами и кочевать со скотом…