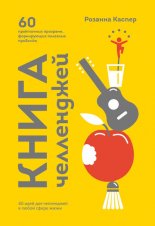По велению Чингисхана Лугинов Николай

«Твои слова – бальзам для моей души, о, Итикут! Ты знаешь, какое тяжкое бремя мы, монголы, взвалили на свои плечи и на спины наших коней! Мы хотим навсегда искоренить кабалу произвола и притеснения на этой солнечной земле серединного мира – и мы совершим это по воле Божьей! Каждый, кто рожден для жизни, – Божий человек и равен всем остальным по праву рождения и наследования свободой и всем тем, что дарует ему земля, небо, огонь и вода. Но есть гордецы и народы, мнящие себя избранными, – мы укажем им их место в общем строю, на безудержных накинем узду, усечем головы непокорных! Ибо как бы ни хорош был каждый из нас в отдельности – вместе мы лучше, когда признаем один закон для больших и малых. И скорее скала начнет источать воду, нежели единых победят розные. Ты помнишь уничтожение уйгурского государства в Ганьсу тангутами и не забыл, как уйгуры стали данниками кара-китаев. Такое не должно повториться, если мы будем едины. В знак нашего союза и моей признательности за то, что владыка уйгуров готов подставить свое плечо под мою тяжкую ношу, отдаю тебе мою любимую, лелеянную дочь Аал-Алтынай. Когда станут дороги, приезжай, погоняя перед собой, ведя за собой, со свитой по обе стороны, и забирай ее в жены. Я сказал!»
– Ты сказал – мы услышали!
Говоря послание, Чингисхан видел, что посол по имени Атхарах-Бичиксит обмакивает в краску кисточку и водит ею по глади хрусткой рисовой бумаги. Он подошел и, не скрывая любопытства, глянул из-за плеча писца на изощреннейший рисунок письма. Удивился:
– Это все мои слова?
– Одно в одно, великий хан! – с готовностью отозвался Атхарах-Бичиксит.
И не в силах сдержать восхищения, Чингисхан улыбнулся и помотал одобрительно головой.
Ожулун в эту ночь не просыпалась, как обычно, от любого шороха, а проснулась только с первыми звуками утренних кюпсюров.
Ожулун оделась и вышла из сурта. Стояла, смотрела на алеющий горизонт чистейшего неба, осторожно вдыхала полной грудью прохладный весенний воздух, словно пила из стремительного течения холодную воду…
Осознавая, что близится день расставания с срединным миром, Ожулун снова и снова перебирала в памяти те мысли и думы, что, став привычными за все эти годы, раньше вроде и не затрагивали сознания.
Как будто в первый раз любовалась несказанно прекрасным, горящим алым пламенем восточным горизонтом.
Красоту рождения нового дня замечает каждый, кто не слеп и имеет сердце. Так почему же мало кто понимает величие занимающейся над степью зари новой жизни? Противников и хулителей же много… Возможно ли привести к единому правдивому суду-джасаку, к единому началу народы, до сих пор жившие по-своему, создать для всех людей спокойное благоденствие под солнцем, уму непостижимо…
Великая задача, до которой не дойдет своим мозгом обычный человек. Разве уступят добровольно свою неограниченную власть многочисленные правители, каждый из которых считает себя подобием Всевышнего на земле? Неужели захотят они расстаться с привычкой править как вздумается, поступать как захочется, не боясь ничьего суда, и идти в подчинение к кому-то?
Разве только докажешь свое неоспоримое превосходство и в силе оружия, и в глубине ума. Но и тогда это возможно, если только Бог будет благосклонен к тебе…
В нос ударил запах дыма. Значит, Хайахсын внутри уже развела огонь, поставила чай. Ожулун продрогла, но не могла никак надышаться. Небо прояснялось, вырисовывалась перед глазами степь.
В сурте тепло. Прихлебывая чай, разлитый Хайахсын в фарфоровые сосуды, говорили обо всем сразу и ни о чем конкретно.
К восходу солнца опять заговорили кюпсюры, но на этот раз звук был не такой глухой, звонче и раскатистей.
Хайахсын, не дожидаясь, когда замолкнут барабаны, выскочила из сурта, чтоб встретить своих любимцев, но мальчики пришли раньше, уже дожидались у входа.
Первым вошел Джучи, за ним Чагатай, потом Угэдэй с Тулуем, сели рядышком перед бабушкой.
– Ну что, в путь собрались? – Ожулун оглядела внуков. Какое все-таки это удовольствие: наблюдать, как маленькие мальчики, угловатые подростки превращаются в мужчин, приобретают особую мужскую стать и красоту…
– Собрались. На днях отправляемся, – ответил за всех Джучи.
– Это хорошо, чего воинам сидеть на месте. Как поедете, вместе или врозь?
– Я должен отправиться на запад к уйгурам, Чагатай – на север к хоро-туматам, Угэдэй – к восточным рубежам ила, где джирджены, а Тулуй вместе с отцом – на юг, к Великой китайской стене.
– А когда обратно? В далекие края едете… даже слишком… – Ожулун вздохнула своим мыслям. Доживет ли она, дождется ли возвращения внуков? Скорее всего, нет…
– Наверное, только осенью, когда выпадет снег.
– Бабушка, мы для тебя добудем в далеких краях много разных лекарств, лекарей отправим, а осенью еще привезем, – совсем по-детски выпалил Тулуй.
– Отрадно слышать, но я должна вам одно сказать, – Ожулун улыбнулась. – Запомните, подарки – в первую очередь для каждой из матерей. Заранее выпытайте, кто чем увлекается, ищите подарки соответственно этому. Вся ваша семейная, домашняя жизнь в их руках. Они же будут решать, на ком и когда женить каждого. Решение, принятое матерями, выполняться должно неукоснительно. Конечно, что-то вам не понравится, кое-что вызовет протест, но вы не имеете на это права. Знайте одно: все это они делают для вашего счастья и благополучия ила. Время обязательно докажет их правоту. Я сказала…
– Ты сказала, мы услышали!
– Разъезжая по далеким странам, увидите немало прекрасных женщин, возжелаете их…
Внуки покраснели и опустили глаза, но она даже не улыбнулась.
– У истинного правителя, настоящего мужчины воля должна быть твердой, душа устойчивой, страсть, вспыхнувшая и ослепившая на миг, пройдет, а жизнь долгая. Нельзя осквернять свое имя, свой род невоздержанием. Невмоготу станет – женитесь. Но только через решение матерей. Им видней, какая девушка достойна ханского ложа. Запомните, не мужское это дело – поиски невесты.
– Мы понимаем, бабушка.
– Это одно. А теперь хочу сказать о сестрах ваших. Вы не раз, наверное, с ревностью думали, что их любят и лелеют больше, но, признайтесь, хоть раз задумывались, почему? Вы – воины. Известно, на войне трудно, но вы постоянно находитесь среди своих, вместе с кровными родственниками, на глазах почтенных старцев. Годами можете топтать чужие земли, но в конце концов обязательно вернетесь на родину, домой… А сестры ваши навсегда расстаются с родными местами и родней, поселяются среди чужих незнакомых людей, окруженные лишь горсточкой слуг и помощников. А ведь они должны всю жизнь проводить там нашу линию, претворять наши долгие мысли, становясь объектами многолетней тайной ли, явной ли ненависти, зависти, коварства, притеснений. Вынуждены будут постоянно дрожать за собственную жизнь. И не к кому будет им обратиться за советом, сочувствием и поддержкой. Там, в логове совершенно чуждых нам людей, в таких условиях они должны будут родить и воспитать истинных монголов по уму и разуму – будущий наш оплот в чужом краю, правителей, способных править там согласно нашему уложению. Вот почему мы стараемся дать им побольше тепла, пока они еще дома, напитать нежностью и любовью на всю жизнь. Тогда они никогда не отвернутся от нас, не перейдут на сторону врагов, не пойдут против родных… Помните о моих словах, нежьте и хольте своих дочерей, берегите их как хрупкий сосуд. Народ, не способный использовать ум и способности своих женщин, теряет половину от половины своей мощи. А как далеко может уйти такой народ или племя? Как вы думаете?
– Ты права, как всегда, бабушка…
– В-третьих, велю вам быть дружными между собой. Время от времени вспоминайте слова нашей праматери Алан-Куо. Правитель должен высказывать свои сокровенные мысли, только взвесив и рассчитав все, что было и будет. За каждым из вас стоят огромные войска, множество племен, так что разногласия между вами станут настоящим бедствием для ила, пройдут по всем нашим людям, подобно силе, разделяющей их сперва на соперничающие, а затем на враждующие группы. Ну, вот и все. Я сказала… Вы услышали…
– Ты сказала! Мы услышали! – все четверо преклонили колени перед бабушкой.
Ожулун обняла, поцеловала внуков. Они будто поняли, что видят бабушку в последний раз, у всех на глазах заблестели слезы, а Тулуй, обняв ее, и вовсе не выдержал, всплакнул…
«Судьбу значительного человека и рода решает Джылга-хан по велению всевышнего Господа Бога, и все, что кажется земной твари случайностью – есть воля небес…» – размышлял Чингисхан, уехавши в степь, которая со дня на день готова была выткаться разноцветьем, родить цветы и травы. Конь волновался, и по огненной шкуре его пробегали волны горячего озноба. «…И от моих дочерей родятся ханы и хотун, на которых с надеждой и упованием будут смотреть народы… Но в мире все же правят судьба и Бог, и никому не дано знать своего завтра… Там, на чужбине, маленькая Алтынай будет немало горевать и мучиться, страдать от одиночества, но всю жизнь будет нести свою нелегкую службу. Ее будут сторониться, тонко обижать – но она родит детей, которые усвоят знания и науки уйгуров, но оставят в себе наше родовое: выносливость, силу духа, верность слову, данному раз и навсегда, а этого у уйгуров нет… Мы сохраним наш великий род, ибо наши заспинные поводья-нити, невидимые для других, но окружающие нас, тянутся в небеса… Однако же надо ей подсказать, чтоб запомнила: судьба судьбой, но тот, кто опускает руки, целиком полагается на волю судьбы или, наоборот, отходит от предначертанного, пытаясь идти своим путем, не может выстоять перед ее каверзами и ударами! Нужно, чтоб внуки мои знали это, чувствовали натяжение небесных поводьев и закаляли свой дух воздержанием и одиночеством…»
– Как, Орхон, правильно? – потрепал он коня по шее. – Ответь, большая голова!
Не ответит конь – ответит время.
А вождь уйгуров Барсах-Итикут, едва прочитав послание Чингисхана, велел готовить караван в несколько сот верблюдов, навьюченных дарами, и после недолгих приготовлений тронулся в путь за невестой. Слухи о несметных богатствах его оказались верными. Он вез с собой золотую и серебряную посуду, дорогую конскую упряжь и боевые доспехи, жемчуга и самоцветы, тюки кашемира и парчи.
Но наступало неумолимое время боевых походов.
После его недолгого гостевания в ставке Чингисхана стало тихо: сам отправился на юг, к Великой китайской стене, а старый Усун-Туруун принял временное главенство внутри ставки, перестали мельтешить всадники, как муравьи перед дождем, перестали глухо и тревожно рокотать кюпсюры-барабаны, а увядающая Ожулун уже почти не вставала с одра, и ее нутро отказывалось принимать пищу.
После проводов внуков она словно уже и не хотела видеть людей, все уже привыкли к ее новому состоянию, но однажды она попросила Хайахсын пригласить невестку Усуйхан-хотун.
– Поешь сначала, наберись сил, – ворчала подруга. – Вот я рыбу на рожне пожарила – помнишь, как дети приносили рыбу? Ты любила на рожне! Поешь, а? Вот я глухарку-курочку потомила в горшке! Помнишь, как Хасар с Тэмучином гуся в силок изловили? И мы его в горшочке потомили – запах шел на всю черную пещеру Хара! Помнишь?.. Поешь, моя хотун, солнце жизни моей, поешь, а!
– У меня уж и зубов нет, а ты все мне их заговариваешь! – слабо смеялась Ожулун. – Зови Усуйхан – я кому сказала!
«По правилам-то нужно сначала Борте позвать… – недоумевала Хайахсын, но не перечила воле госпожи. Любит она свою невестку Усуйхан…»
Ожулун и не скрывала ни от кого своей особой приязни к подвижной, смышленой и расторопной невестке. Та умеет и мужу угодить, и людьми распорядиться, и в руках у нее все горит, а про усталость и слов, казалось, не знает. У таких людей в голове дурных мыслей не заводится, ибо там нет пустого места. Вот прилетела легкая, как пушинка одуванчика, и сразу:
– Слушаю, моя хотун! – присела на корточки. Глядит прямо в глаза и, кажется, что не дышит. «Ах ты, моя деточка!» – с нежностью думает о ней Ожулун и берет невестку за белую руку, смотрит на ладонь, сжимает ее в кулачок своей жесткой кистью, давая понять, что ласки кончены – пора к делу.
– Слушаешь, так слушай… – умиротворенно и негромко говорит Ожулун. – Все на свете имеет свое продолжение. Я хочу, чтобы ты после меня стала тем человеком, которому я вверяю попечительство о всей нашей родове… Да, да… – пригасила она слова, готовые сорваться с языка невестки. – Я знаю, что ты хочешь, скромничая, сказать: есть, мол, Борте-хотун, Усуй-хотун… Но, сказав так, ты дашь мне понять, что я старая глупая овца и ничего не понимаю в людях! Говори же!
И Усуйхан испуганно помотала головой: нет, нет.
– Я выбрала тебя, – говорила далее Ожулун, – и я знаю, что не ошиблась. А для начала возьми себе мою горькую думу: что с людьми, которых я отправила на поиски северной тайной ставки во время войны с найманами? Может, они уже вымерли от морозов или от голода – там ведь Север, полунощная страна! Шесть лет прошло, а от них и голубь не прилетал! Отбери-ка ты выносливых и умелых людей из разных родов, это обязательно. Главным поставь молодого и умного мужчину! Он должен быть там, на месте, главой тайной – заметь: тайной! – ставки! хан даст ему золотой ярлык на власть. Но прежде чем отправлять это малое войско на Север, поговори со стариком Усун-Турууном. Пусть он растолкует тебе, каким путем проще и безопасней двигаться. Все храни в глубочайшей тайне. Понятно?
– Да, моя хотун!
– Иди и занимайся делом. А ко мне кликни Усуй и Борте, я скажу им, кто здесь будет главным после моего ухода… Не волнуйся, они поймут… Слава Богу, у моего сына нет глупых жен после Ыбахи!
Она старалась жить и не спешила уходить – то не сделано, это не сказала, о том не предупредила. Но уже путались в ее сознании явь и навь. И сказано ей было сердцем, чтоб ждала Джэсэгэя. Однажды Ожулун вскочила с ложа и в несколько легких прыжков достигла выхода во двор, откинула полог тыльной стороной ладони – глядите-ка, приехал! Стоит молодой и держит в поводу двух белых кобылиц – о, радость! О встреча! И сели они на теплые попоны седел, и взялись за руки, и сплели ласково пальцы его правой и ее левой, и ехали так до заставы. На заставе их встретили рослые воины, одетые в кованые рубахи, в шлемы с личинами. Джэсэгэй снял свою островерхую богатырскую шапку, снял пояс с ножнами и с огнивом, с гибкой саблей и отдал все это турхатам.
Говорит с пониманием:
– Там оружие ни к чему, отвоевались, жена, – и остается в тонкой чесучевой рубашке, что носят под кольчугой. Ветер играет его светлыми кудрями. Тихим светом сияют его зеленые глаза. И снова берет ее за руку, и ведет сквозь туман к незнакомому, неведомому сиянию.
Она слышит слова:
– Вы исполнили благословение, дети! – и сияние поглощает их.
Ожулун похоронили на выбранном ею месте. Обрядом погребения занимался старик Усун-Туруун, но когда уже вернулись в ставку, то он вдруг уронил голову на шею всхрапнувшего коня и умер.
Люди восхитились этой смертью и говорили, что хотун забрала его с собой.
Наверное, так и было.
Люди часто поминали его. Все вспоминали, когда и что он говорил, как поступал в сложных случаях. Он стал легендарной личностью, образцом истинного служаки.
– Счастливый! – завидовали ему. – Какую жизнь прожил! Всю земную жизнь прослужил около великой госпожи и получил высшее повеление служить ей и дальше в небесах…
Глава двадцать первая
На южных рубежах
Главное в любой заварухе –
Не нарушай строй, не теряй свое место.
В страсти не опережай других,
Но и не отставай от них никогда.
В бою будь свиреп, как лев,
Быстр, как тигр.
В мирное время
Среди родных и близких
Будь ласков, как жеребенок.
Наставление древних правителей
Спеша не упустить время дружной весны 1211 года, хан вел войско, куда был включен мэгэн Аргаса, на юг, навстречу лету.
Обошли со стороны восхода земли онгутов, продрались через пустыню Гоби, пока еще ее не обезводило солнце, пока еще кони могли ухватить травы под ногами, и стада, гонимые пастухами вслед за войском для его кормления, не начали падать от бескормицы. Но бескрайние пески уже струились, как вода, и пыльные бури крепли и подавляли слабовольных, что пускали коней вскачь, стараясь быстрей пересечь гнетущее однообразие, и кони падали. Весна в пустыне скоротечна.
Встали у поистине Великой китайской стены, что змеилась по гребню горных отрогов и казалась нескончаемой и неприступной. Много столетий назад задумал выстроить ее император Цинь Шихуанди. Был он сыном неба из созвездия Льва и любил наблюдать свою прародину с помощью хитроумно расставленных зеркал. Люди говорили, что пришлый чародей предрек завершение строительства стены тогда, когда в ней будет захоронен человек по имени Ван или десять тысяч человек. Император нашел человека с таким именем, убил его и замуровал в стену, а уж сколько погибших строителей захоронены в ее кладке – несть числа. Стена прошла от Цзяюйгуна[25] до залива Ляодун через горы, расщелины, через пустыни и болота.
«Не богоподобные ли люди возвели ее! По силам ли такое человеку! Но если это так, то что заставляет этих китайцев столько лет терпеть кабалу нучей? – размышлял Аргас, опершись о луку седла. – Говорят, что отцом китайцев был Пхан Ку, который родился из «небесного яйца» и прожил тысячу восемьсот лет; что из его праха появились земли и горы, деревья и реки, птицы и звери, а из его блох – все прочие китайцы. Мы – люди длинной воли, люди бунта и боя, но просуществуем ли мы во времени столько, сколько эти долготерпеливые китайцы? Не терпение ли – высшая мудрость бытия? Ведь говорим же мы ребенку, поранившемуся об острые камни: терпи, умей терпеть боль! А чем отличается боль от боли?.. Не тем ли, что раны, нанесенные унижением, не заживают и взывают к отмщению! Смотрите: нучи поработили этот многочисленный народ, они отнимают у него урожай, дев, юношей – он молчит. Молчат даже кидани[26]. Алтан-хан дает им надсмотрщиков из числа их родственников – они молчат. Надзирающие родственники доносят нучам на своих, и те казнят их бестрепетно – и тишина. Что это и как называется?.. Как может греть солнце тех, кто у себя на земле живет изгнанниками?»
Мысли заводили Аргаса в непролазные дебри, он пытался понять то, что называется Божьим промыслом, и оттого чувствовал себя полным глупцом, заходя в тупик, где спасительной мыслью звучало: «Мне-то что? Я воин… Моя воля – воля моего хана. Таких, как я, у Бога много, а таких, как Чингисхан, больше нет во всей Поднебесной. Он собрал сюда все силы, нас поддерживает князь Ляодуна, но победим ли мы цзиньцев, имеющих катапульты, тетивы которых натягивают две сотни людей, и чугунные заряды, сеющие ужас среди кочевников! Да, их боевые колесницы с запряжками в двадцать лошадей устарели, но порох! У них есть волшебный этот порошок, имеющий силу грома и рождающий смертоносные молнии!.. И если нас побьют, то это развяжет руки нашим западным и южным недругам, а это капкан… Это капкан… Вся надежда на Чингисхана и силы небесные…»
Аргас до слез напрягал глаза, всматриваясь в очертания величественной стены, словно пытаясь найти в ее мощном монолите трещину, куда можно вогнать боевой клин. Он понимал, что нужна глубокая разведка.
«А как думает хан?» – с некоторой опаской, словно боясь, что чужой услышит его, подумал Аргас. – хан-то осведомлен получше, чем мы, смертные…»
Его мэгэн стоял на пологом скате лесистой горы. Рассчитывали на долгую бивачную жизнь: лес укрывал от постороннего глаза и от палящих лучей солнца. Когда же наступит летняя жара, то можно уйти в тенистые расщелины, где его четыре с половиной сюна разместятся, как у кормилицы за пазухой.
Вернувшись на бивак, Аргас поднял два арбана и повел их на разведку окрестностей.
Только древние тюрки до монголов не грабили и не убивали, не жгли и не насиловали в поселениях, что попадались на пути следования войска, справедливо полагая, что и волк не охотится вблизи логова и что ни к чему у себя в тылу множить число своих врагов. В точности исполняя указания Чингисхана, разведка старалась обходить китайские деревеньки, но места у «пристенка» были столь густо заселены, что маневр удавался не всегда. И тогда кочевники удивлялись муравьиному копошению огородников, одинаково одетых в синие кофты и штаны мужчин и женщин, ближние из которых при виде конников Чингисхана бросались ничком на землю, а дальние пускались бежать, сея вокруг переполох и панику. Они ведь не знали приказа, согласно которому нукерам запрещалось брать у населения что-либо, пусть и зубочистку из утиного пера, дабы не портить нравы воинов. Нарушение приказа чревато судом и строжайшими карами.
Разведчики видели в долинах зелень заливного риса, таро и сахарного тростника, шелковистые всходы овса и ячменя, они видели в горах стада буйволов и коз, отары тонкорунных овец, табуны пасущихся лошадей, что особенно радовало и вселяло надежду на благоприятный для монголов исход боевых действий.
Разведчики искали подходящий участок для перехода Великой китайской стены, который можно преодолеть с малыми потерями в людях и лошадях. Укрепление это, конца которому не мог видеть глаз, от самого пересечения с Желтой рекой до пригородов северней Енкина[27] являло собой две неодолимых, на первый взгляд, преграды: наружную и внутреннюю стены, прикрывающие собой китайскую столицу с северо-запада. Вторая отстояла от первой на расстоянии двух с половиной дней пути. Меж ними паслись многочисленные отборные табуны императорских лошадей. проход же через внутреннюю стену на перевале Цзюй-юнь-гуань был надежно охраняем войсками цзиньского полководца Даши.
Видно было, что появление монголов у стены не явилось неожиданностью для цзиньцев, однако все их надежды покоились на уверенности в ее неприступности, а это могло стать слабостью.
Монголы тщательно изучали местность.
Возвращаясь из глубокой разведки, Аргас устало подремывал в седле под негромкие разговоры своих нукеров. Пораженные увиденным, молодые воины словно забыли о трудностях пути и возможных опасностях, они говорили оживленно и горячо. Аргас различал голос юноши Салбара, который любил петь после сытного ужина. Салбар немного знал китайский и рассказывал о том, что выведал у землеробов:
– На западе есть река Хуанхэ – Желтая, а по-нашему – Харамурэн – Черная. Она многоводная. И стрела, пущенная из лука-ангыбал, не долетит не то что до другого ее берега, но и до середины не достанет. А течет эта река к морю, потому по ней стоят богатые города с большой торговлишкой! Понятно?
Ему отвечал Дабан – еще один певец, с которым Салбар негласно состязался уже не первый день:
– Много шелку, имбиря, драгоценного оружия, дев!..
– Ух-се! – торопили распаленные желаниями юные нукеры. – Говори, Салбар, говори!..
Тот продолжал с интонациями знатока и очевидца:
– За той рекой на запад – два конных перехода до города Качиан-фу. Вот там, говорит манзя, и шелк ткут, и золотые материи… Бамбуки в тех местах уходят вершинами в небо… От одного узла до другого – не меньше пяти пядей… А тамошний государь ездит на прогулки, запрягая в коляску самых красивых девиц…
И снова загомонили молодые:
– Ух-се! Ай-ай! Ой, какие люди – девок вместо коней!..
– А ты бы не отказался, Тохту?
– Не-э-э-т! Только я бы их сперва… того…
– Пощади девиц, Тохту! – смеялись юноши.
Однако Салбар успокоил разгоряченных товарищей:
– Нельзя ржать над запретными мыслями. Вдруг вас, дураков, на грех потянет.
Перекрывая громовой хохот из молодых глоток, Аргас крикнул:
– Ти-хо!
Все мгновенно притихли, ожидая, что же последует за этим начальственным возгласом. И Аргас для острастки сказал:
– Вы что, на сабантуе? Почему расшумелись? Забыли о войне? Забывчивая голова – телу обуза! А ты, Салбар, расскажи, что говорят китайцы о нас?
– О-о-о! – сказал юноша и засмеялся. – Об этом и язык мой не повернется…
– Расскажи, расскажи, – поторопил Аргас, и нукеры подхватили.
– Говори всю правду, Салбар! Чем мы хуже их?
Но юноша шепнул Аргасу, что не все должны слышать то, что говорят китайцы о монголах, и Аргас согласился:
– Приедем в ставку – расскажешь мне, это важно. А пока запевай… Мы уже почти на месте… Пой, пусть молодежь успокоится!
Первым завел песню Салбар, а парни подпевали ему довольно слаженно, но как-то робко, потому песня сперва получалась какой-то печальной, что не соответствовало ее содержанию:
- Ржет мой горячий конь –
- В путь-дорожку отправляться пора.
- Бьется в жилах горячая кровь –
- К схваткам жестоким я готов!
Постепенно песня набирала темп, наливалась силой, и вместе с ней выпрямлялись, оживали нукеры.
- Кто стремится вперед – тот счастлив,
- Врага низвергнувший – тот силен,
- В походе, битве и на войне –
- Я есть частица силы неумолимой!
Аргас с удовольствием смотрел на своих парней.
В песне на самом деле заключена какая-то удивительная сила, способная проникать в сокровенные глубины души, вернуть силы и надежду. Только что тусклые от усталости глаза вновь засияли силой и молодостью. Теперь их хоть в бой, хоть в огонь и воду.
- В походе, битве и на войне –
- Я лишь частица силы великой!
Вскоре показались тянущиеся к небу столбы дыма – это нукеры опять разожгли костры, чтобы посидеть, поговорить, благо дров не приходится жалеть. Здесь не степь и не песчаная пустыня.
Они оставили коней у наружной заставы и подошли к ставке пешком.
Здесь тоже слушали песню. Да с таким волнением и увлечением, что не заметили их.
- Детство мое и юность моя,
- Вы остались далеко-далеко
- На подножьях Алтай-хана,
- В прекрасных долинах-степях.
- Я о счастье уже не мечтаю –
- Пусть мечтает юнец безусый,
- Я, как льдина в водовороте,
- Становлюсь холодной водою.
«Да это же песня Джамухи, – понял вдруг Аргас. – У него даже в песне обязательно должны присутствовать стенания, плач и кручина…»
Заунывные, плачущие звуки хура еще больше наполняли песню невыразимой скорбью.
«Грех какой! Разве можно так? Ну почему такие безусые юнцы так любят подобные песни, чем они могут так завораживать их?»
Единственный спутник мой – одна песня,
Отрада души моей – только песня,
Надежда моя – только в песне…
«Бог мой, кто же поет с таким чувством?» – поразился Аргас и, подойдя поближе, заглянул в круг.
Оказалось, пел Дабан, прибывший к ним недавно. Хорчу-тойон перед походом на север за своими тридцатью женами специально приходил, чтоб упросить взять парня.
– Е-если хо-хорошо об-обучить, большой тойон получится из юноши.
– Вон даже как? Если хорошо обучать, то из любой посредственности тойона можно сделать, – привычно подшучивал над другом Аргас. – Раз ты та-такой умный, учи сам.
– Ладно-ладно, не издевайся. А ведь на са-самом деле хороший ма-малый, сам п-посмотри.
Вспомнив, как смеялся Хорчу по поводу его женитьбы на молодой Малтанай, Аргас решил вернуть должок:
– Нохо, каким же образом ты собираешься удовлетворять тридцать молодых женщин? Может, у тебя особенный какой-то?
– Ты не с-смейся, прошу. Са-самому с-страшно, но ради имени… Слово у-ушло – голова у-ушла…
Песня затихла, замолк и хур. На мгновение зависла тишина, нарушенная восторженными голосами:
– Какая песня!
– Дабан, спой еще!
И только теперь кто-то заметил Аргаса-тойона, сдавленно воскликнул:
– Аргас-тойон!
Уличенные в пении запрещенной песни, нукеры быстро разошлись.
Возле костра остался лишь Дабан, виновато понурив голову и теребя в руках хур.
– Это ты? После ужина – ко мне.
Когда Аргас ушел, к Дабану подошли Тулуй с Салбаром.
– А ты, оказывается, так хорошо поешь, Дабан. Жаль, я только конец услышал, – сказал Салбар.
– Такую песню каждый бы спел хорошо, – Дабан вздохнул. – Накажут, наверное… А ведь в моем положении это ни к чему. Жаль.
– Так мы же упросили, а ты уступил нашим просьбам, – сказал Тулуй, обняв Дабана за плечи. – Не грусти. Аргас – старик великодушный. Не станет слишком строго наказывать. Я попробую объяснить…
За ужином было тихо, говорили почти что шепотом.
– Не понимаю, почему нельзя петь такую хорошую песню?
– Кто знает. Она всегда была запретной.
– Да ведь это песня Джамухи.
– При чем тут Джамуха? Джамуха Джамухой, а песня песней.
– Ведь Джамуха наш враг. Значит, и песня его – тоже враг. Потому и запрет.
– Кто знает…
Накормив проголодавшегося мужа сытным ужином, старуха Дарайа выжидающе смотрела на него в ожидании новостей. Но откуда было взяться большим новостям?! Привыкшая к сражениям, быстрой смене обстановки, старуха скучала. Малтанай, родившая, на этот раз осталась в ставке распоряжаться хозяйством.
Сынку скоро должен стукнуть год, наверное, только начинает ковылять на крохотных ножках. Но уже успел завоевать сердца всех домочадцев и челяди, теперь солнце для всех восходит только с него. Но больше всех прикипела сердцем к маленькому старшая жена, может, еще и потому, что кроха удивительно похож на их первенца, погибшего двадцать лет назад в битве. И теперь часто повторяет: «Скорей встал бы на ножки, сама бы нянчилась, никому не доверила».
«Да, поход уж больно неудачный получается, – думает она про себя. – Придется возвращаться к Малтанай без хороших гостинцев. Хорошо хоть старик Джаргытай здесь, отец Сюбетея. Мастер он искусный, уж он-то сумеет отлить из отнесенного вчера серебряного седла украшения для Малтанай и крохотную кольчужку для мальчика. Пусть приучается ходить в кольчуге, это настоящая одежда для воина, спутник жизни и защита. Что ни говори, жизнь пошла худая. Вместо того, чтобы добыть на стороне, приходится из собственного переделывать… Неужели так и простоим здесь в карауле все время? Хоть страшна война, да, видать, привыкли мы к ней, не обойтись без нее, – от этой неожиданной для нее самой мысли старуха даже оглядывается, ошарашенная. Дожила, старая, войну ей подавай. Но мысли бегут вперед. – С войны с пустыми руками не возвращаются. Но ждать сражения не приходится. Вот что значит привычка, жизнь без войн кажется пресной, что еда без соли и приправ. Хоть бы раз еще принять участие в большом сражении, чтоб было что вспоминать до конца дней… Старость-то вот она уже, скоро совсем ослабею… Слава богу, хоть женщина хорошая подвернулась. А старик-то артачился, не хотел жениться, теперь вон каким орлом ходит, а ведь хиреть уже начал было. У меня же – дите малое, утешение и забава на старости лет».
Но вслух она ничего не говорит. У старика и без того хлопот хватает. Нелегко в его возрасте дни напролет крутиться наравне с молодыми. Не каждый бы сумел это выдержать, да и старик держится больше по привычке… ведь всю жизнь возился с молодежью…
Караульный доложил, что пришли Дабан и Тулуй.
Аргас сразу понял, для чего явился Тулуй.
– Ну, я вас слушаю. Что скажете? – Аргас строго смотрел на парней, покорно опустившихся перед ним на правое колено.
– Я скажу, Аргас-тойон, – первым вызвался Тулуй.
– Ну…
– Дабан не виноват, он отказывался, но мы упросили.
– Хм… И кто же тогда виноват?
– Мы.
– Мы – это кто?
– Мы… – Тулуй в замешательстве посмотрел вокруг, но тут же поправился: – Я виноват, это я просил его спеть.
– Вот это другое дело. Впредь говори, только когда определишься точно. Ты хан, а не простой тойон. Одно слово хана может решить судьбу целых народов. Ты всегда должен иметь это в виду.
– Я понял…
– А ты что скажешь? – Аргас повернулся к застывшему Дабану.
– Я… Я сам виноват… Никто не заставлял…
– Ах вон какой ты у нас, оказывается, покладистый, – Аргас воскликнул с деланным удивлением. – И в чем же ты виноват, объясни.
– Так… Песня Джамухи…
– Ну и что?
– А Джамуха наш враг…
– Хм… – Аргас понял, что парень в замешательстве выдал свое потаенное, но не стал обострять на этом внимание.
– Потому нельзя было петь его песню, песню врага.
– Ну, это ты загнул, друг. Никто этого не утверждает. Джамуха на самом деле был осужден Верховным судом. Как и что там было – не нашего ума дело, да только никто еще не объявлял Джамуху врагом, никто не накладывал запрета на его песни.
Парни удивленно вскинули глаза.
– Но ведь тебе не понравилось…
– Я действительно не люблю песни Джамухи. А почему? – Аргас с усмешкой посмотрел на ребят. – Потому что есть песни, заряжающие энергией, прибавляющие ума, с очищающей и возвышающей силой. А насколько энергичнее и возвышеннее становится человек от песен Джамухи?
– Н-нет…
– Вот так. Последние силы могут отнять эти песни, захочется завернуться да лежать. А одному из вас предстоит стать ханом, второму – большим тойоном. Таким людям не дано права руководствоваться собственными симпатиями. Поймите, воину суждено постоянно находиться вдали от дома, родных. А у каждого из них остаются дома старые и малые, больные и сирые. Мало ли у кого какое может быть горе или несчастье. Теперь представьте, человека и без того одолевают тревога и тоска, или он теряет силы от горя, а тут еще песня Джамухи. «Стремление мое к красоте и добру вместе с вечерней зарей сгорело, угасло, растворилось, пропало». Не воскресит ли она, не растревожит ли боль и горечь в душе? Наказывать я вас не буду. Просто вы должны знать, когда и какие песни нужны.
– Аргас-тойон, спасибо за науку, – Тулуй склонил голову в поклоне. – Как просто ты разрешил мои сомнения.
Вернувшись после очередного объезда ближних гор в поисках железной руды, по просьбе старика Джаргытая, Аргас застал старуху в хмуром настроении.
Оказалось, днем приезжал с богатыми дарами местный вождь, пытался всучить. Мудрая старуха из осторожности отказалась принять, отослала обратно, хоть и далось ей это нелегко. Вот и сердится.
Назавтра Аргас съездил в ставку главы войска Сюбетей-тойона, получил разрешение на контакт с местными, принимать от них дары, но только в виде нужных для хозяйства и войска вещей, особенно одежды.
На обратном пути встретил караван купцов, устраивающихся на ночлег неподалеку от их стана. Услышав об этом, старуха Дарайа бросилась собирать всякую золотую и серебряную мелочь и умчалась к купцам.
Через три дня в полночь пришел устный приказ от Сюбетея поднимать людей и на рассвете идти на запад к истоку трех речек: восстали тангуты. Скорый на сборы Аргас без барабанного боя поднял в седла алгымчы[28] и назначил его тойоном юного отпрыска Чингисхана Тулуя.
– Найдете по пути места для привалов. Так, чтоб и лошадей напоить, и чтоб люди без горячей похлебки не отощали. Пастбища чтоб посочней, но укромные, как у мамки под мышкой, – напутствовал Аргас, чувствуя собственное нетерпение и понимая горячность молодых. – Меньше болтайте в дороге. Останавливайтесь только выкурить трубку, попить чайку и мало-мало пожевать вяленого – потом отдохнете, когда мы подтянемся… – Предощущение близких боев ожило в Аргасе, как похмелье. – Салбара пока оставь со мной, Тулуй. Пришли его ко мне – и в путь!..
Алгымчы ушел впереди войска ночью.
Сюн за сюном вышли на рассвете в поход, держась друг от друга на таком расстоянии, чтоб не терять из виду спины всадников передового отряда.
У выступа горы Аласа в урочное время встретились три мэгэна Чингисхана и три – Сюбетея. Разведка донесла, что силы тангутов в двенадцать мэгэнов пешего войска и в три конного остановились в пятнадцати кес отсюда на берегу малого озера, но с разных направлений движутся части подкрепления. А это значило, что бить их нужно безотлагательно, пока не собрались в кулак.
По отточенному в походах порядку выслали впереди основного войска конюших со сменными лошадьми и, проскакав за день почти весь путь, заночевали в горах, чтобы перед восходом солнца напасть на полусонных. Однако первым на тех и других напал обвальный ливень.
Громовые стрелы неба ужасали слабодушных и ярили смелых.
Где-то рвануло дерево.
– В белую сову метило! – сказал Аргас, глядя на то, как спешно конюшие прячут в пещеры и расщелины лошадей, как нукеры ловко укрываются за скальными навесами и большими валунами. – А может, в демона-чотгора![29]
В скальной нише стоял рядом с ним и Салбар. Он полюбил Аргаса по-сыновьи преданно и, когда его не гнали, старался быть около тойона. Он вежливо поддержал разговор:
– Небесный стрелок Хухедей-мерген и тот промахивается!
– Намекает! – поправил Аргас. – Учит уму-разуму, как я тебя! Семьдесят семь небесных плешивых кузнецов куют ему стрелы! Те же, которые не попадают в цель, – возвращаются на небо. Почему же не промахнуться разок-другой! А у нас один старый Джаргытай на всех!
Всегда готовый посмеяться, Салбар заметил: