В гостях у Джейн Остин. Биография сквозь призму быта Уорсли Люси
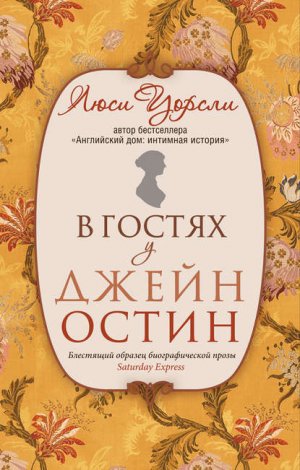
Вступала ли когда-либо Джейн в лесбийские отношения? Здесь процент уверенности не столь высок. Да, обществом это осуждалось. Но в тот век женщины часто спали вместе, и Джейн сама нередко отмечает, что делила постель с подругой. Людей вообще гораздо меньше волновало лесбиянство. Его не преследовали по суду; его не ошикивали матроны из приличного общества — в немалой степени потому, что большинство ни о чем подобном даже не подозревало. Таким образом, дверь вероятности остается открытой. Но лишь на узкую щелочку, и лишь из-за отсутствия доказательств обратного.
Разумеется, Джейн прекрасно знала, что происходит в спальне между мужчиной и женщиной. Более того, она удивила бы многих своей осведомленностью о том, что считалось в ее времена половыми извращениями. Поскольку ее романы настолько вылощены (а по мнению некоторых, выхолощены) и поскольку в них такое значение придается тонким нюансам галантности и изысканности, читателям они зачастую видятся в пуританском викторианском антураже.
На самом деле Джейн была писательницей конца гораздо более вольной Георгианской эпохи. Героиня ее раннего рассказа "Леди Сьюзен" — "самая утонченная английская кокетка". Когда Остины разыгрывали в стивентонском амбаре скабрезную Филдингову "Жизнь и смерть Тома Гнома Великого", двенадцатилетняя Джейн, видимо, исполняла заглавную роль коротышки. Сегодня эту пьесу, наверно, не дали бы читать двенадцатилетним подросткам хотя бы из-за строк:
- О! Хункамунка, Хункамунка, о!
- Твои две полных груди, что тимпаны,
- Восторги будят неумолчным боем;
- Они, как медь, сияющи и тверды;
- О! Хункамунка, Хункамунка, о!
Еще в подростковом возрасте Джейн без стеснения иронизировала над содомией. В своей "Истории Англии", говоря о Якове I и его фаворите Роберте Карре, она хвалит короля за то, что тот "находил достоинства в глубинах, мало кому доступных". Еще есть знаменитая шутка, которую Мэри Крофорд в "Мэнсфилд-парке" отпускает в адрес беспутного окружения своего дядюшки-моряка. "Жизнь в доме дяди, конечно же, познакомила меня с адмиральской средой, — говорит Мэри. — Тыловых адмиралов я повидала довольно. Только не подумайте, будто я каламбурю". Лишь представление о Джейн как о чинной даме не позволяет некоторым читателям поверить, что она могла так грубо шутить. "Тылы" были нешуточной проблемой для брата Джейн Фрэнка, который наказывал своих матросов плетьми за "противоестественный грех содомии". В том же "Мэнсфилд-парке" содержится самый яркий в творчестве Джейн пример фаллического символизма. Запертая внутри парковой ограды, Мария Бертрам пытается перелезть через нее с помощью Генри Крофорда, человека, с которым она в конце концов убежит: "Ты непременно поранишься об эти зубцы!" — кричит Фанни. И Мария поранилась, во всех смыслах.
Пока вокруг Джейн зачинались и рождались дети, жизнь в пасторате шла своим чередом. Необходимость выставлять себя в качестве брачного материала требовала переделок, подновлений и перекроек платьев, что отнимало у Джейн много времени. Чтобы при ограниченных средствах достойно одеваться, приходилось много работать как головой, так и руками. Начать с того, что надо было с умом выбрать ткань, принимая в расчет ее стоимость и практичность. Как говорит София Сентимент в пьесе, которая, видимо, дала Джейн ее первый псевдоним, цвет одежды оповещает о расположенности к кавалеру:
- В том коричневом платье была я мила,
- Воздыхателя холодом льда обдала;
- А вот в этом лазурном, смягчившись чуть-чуть,
- Я надеждой, пусть робкой, зажгла его грудь;
- В этом, цвета сирени, склонилась я пасть;
- Алый шелк был румянцем ответа на страсть.
По утрам Джейн носила "простой коричневый батист", а днем "цветное платье", в идеале — "из хорошенького желто-белого муслина", о котором она мечтала. Муслин был таким тонким и летящим, что его укладывали волнами, чтобы он не просвечивал. Муслин британского производства обходился дешевле, чем оригинальный индийский.
Джейн и Кассандра одевались одинаково, и их юной племяннице в особенности запомнились "их шляпки: притом что они совершенно не различались по цвету, форме и материалу, я обожала угадывать, чья из них чья". В своих письмах Джейн постоянно говорит о переделках и усовершенствованиях нарядов. Вероятно, подобно девочкам Беннет, сравнивавшим себя с сестрами Бингли, она ощущала, что недотягивает до эталона, но не имела достаточных средств, чтобы его достичь без усилий. Порой она впадала в отчаяние. Когда Кассандра бывала в отлучке, Джейн просто кромсала некоторые ее одежки. "Третьего дня я взяла на себя вольность обратиться к твоей черной бархатной шляпке с просьбой одолжить мне свою вуалетку, — писала она, — на что та охотно согласилась, каковой щедростью помогла мне преумножить достоинство моего капора".
Складывается впечатление, будто единственное, к чему стремилась Джейн в одежде, — это выглядеть "прилично". Идеалом было "очень практичное платье на любой случай". Щеголеватая накидка не подходила, поскольку "такую красоту не то что носить, а и созерцать страшно".
Практиковалось и перекрашивание. "Как твое синее платье? — спрашивает Джейн. — Мое все расползлось. Думаю, дело в краске… четыре шиллинга псу под хвост". И нигде ни намека на тщеславие; напротив, тщеславие постоянно высмеивается. "По крайней мере, — пишет она, — волосы у меня были прибраны, а дальше мои амбиции не распространялись". Однако Джейн знала, что ее будут судить по одежке. Знали это и персонажи ее романов, в которых она давала волю фантазии, чего не могла позволить себе в реальной жизни. Одна ее ранняя героиня лежит в постели, притворно занемогшая и одетая чересчур продуманно для настоящей больной: в "ночную рубашку из муслина, неглиже из шамбре и кисейный чепец". Между тем стильная мисс Изабелла Торп из "Нортенгерского аббатства" "всегда" облачена в чудесное маркое белое платье.
Подобные причуды были неуместны в пасторате, так же как изысканная пища. Миссис Беннет в "Гордости и предубеждении" хвастается тем, что "она вполне может держать хорошего повара и что ее дочерям нечего делать на кухне". Даже если Джейн и Кассандра тоже формально были "выше" рутинной стряпни, порой им приходилось засучивать рукава. Джейн часто видела сны о еде. В одном из ее ранних произведений, "Леди Касл", есть сцена, где из-за тяжелого ранения жениха отменяется свадьба, но фантастически бессердечная героиня горюет лишь о том, что пропадут приготовленные яства. "Меня подкосила новость, — жалуется она, — что я зазря жарила, парила и томила мясо и себя… лучшее, что можно было сделать, — это немедленно приступить к трапезе". Тем временем невеста, чей суженый раскроил себе череп, "с белым, как взбитые сливки", лицом бьется на постели в конвульсиях и отказывается съесть хотя бы "цыплячье крылышко".
Живя близко к земле, Остины бережно относились к пище и ценили каждую часть забитого животного. Георгианские поваренные книги напоминают нам, что даже "глаз считается большим деликатесом и вынимается кончиком ножа". "Мы собираемся зарезать свинью", — сообщает Джейн с удовлетворением и рисует себя блаженно "смакующей холодную солонину". Здесь имелись в виду отварные свиные щеки, размятые в грубый паштет и выдержанные в рассоле.
Племянник и одновременно биограф Джейн всячески подчеркивал, что стивентонская семья редко заходила на кухню: мальчики завтракали там только рано утром перед охотой; он высказал "уверенность, что тамошние дамы не имели никакого отношения к колдовству над сотейниками или тазами для варенья". Это чисто викторианская лакировка, имеющая целью представить свою тетушку более утонченной, чем она на самом деле была. Кулинарные книги Остинов и их друзей свидетельствуют о доскональном, практическом знании поварского дела, и неудивительно. Как ни крути, в любом доме, велся он слугами, или семьей, или теми и другими вместе, должны были выпекать собственный хлеб, пудинги и пироги, производить свое молоко, масло и сливки и сохранять на зиму летний урожай фруктов и овощей. Последнее означало засолку и варку варенья. "Пусть твои варенья удадутся на славу!" — написала подруга в тетрадке с рецептами, принадлежавшей подруге Джейн Марте Ллойд. Поскольку Марта поселилась в конце концов с Джейн и Кассандрой, ее рецепты, вероятно, пользовались успехом и в семье Остин. Кто-то из этих любителей словесных игр даже зарифмовал рецепт пудинга:
- Хлеба взять фунта три,
- Рассыпного, смотри,
- В добром пудинге коркам не место;
- Мера, как ты поймешь,
- Может быть какой хошь,
- По запросам семейства — и тесто.
- Чтоб его подсластить,
- Надо сахар вмесить
- И изюм, по полфунта примерно,
- Масло не позабыть,
- А должно оно быть
- С тем изюмом точь-в-точь соразмерно…
И далее еще четыре строфы, в которых добавляются гвоздика, мускатный орех, розовая вода, яйца и молоко. Замужняя кузина Джейн, Джейн Уильямс, урожденная Купер, с раздражающим пылом демонстрировала свое мастерство, делясь собственными рецептами маффинов, яичниц и крыжовенного варенья. Хэмпширские дамы также обменивались рецептами необходимых в хозяйстве чистящих средств, и в тетрадке Марты содержатся советы по изготовлению "чернил", "полировки для столов", состава "для чистки золотых изделий" и другого — "для стирки белых чулок".
Жизнь в георгианском доме была не только хлопотливой, но и небезопасной. У мадам Лефрой, например, заживо сгорела сестра. Женщина зацепила раскаленной кочергой "хлопчатое платье, поверх которого был надет широкий муслиновый передник, и оно мгновенно вспыхнуло". Джейн дважды в жизни наблюдала, как горит город. Ее грызли тревожные мысли за свои пожитки: "что я буду делать, если дойдет до худшего". Во время одного из этих пожаров, в Саутгемптоне, ее сосед с перепугу раздал "все свое добро" первым встречным.
Но сущим кошмаром для Джейн была не сама работа по дому, а надзор за теми, кто ее делал. Кассандра это обожала и разделяла интерес матери к изготовлению продуктов питания и управлению хозяйством. "Для меня такое удовольствие бывать на деревенской ферме", — говорила она. Но не для Джейн. Вынужденная в отсутствие Кассандры исполнять ее домашние обязанности, она разражалась шутливыми жалобами. "Мое величие безгранично, — писала она, когда болезнь матери временно возвела ее в статус главной домоправительницы. — Вчера вечером я имела честь накапать маме лауданума, я ношу на поясе ключи от кладовой и гардеробной; и уже дважды откладывала это письмо из-за необходимости отдать распоряжения на кухне". Конечно же, за иронией она прячет свое напряжение: "Вчера обед удался на славу, и курица отлично разварилась, так что мне не придется увольнять Нэнни за нерадивость". Смысл в том, что это мелко, что это не ее роль; что ей не пристало этим заниматься. Она предпочла бы писать.
Хотя Джейн подтрунивает над своими обязанностями домоправительницы, мы понимаем, как высока была ответственность. Так, в поваренной книге Марии Элизы Ранделл, например, мы читаем: "Хозяйка всегда обязана помнить, что благоденствие и уют дома целиком зависят от глаза смотрительницы, и поэтому нет мелочей, недостойных ее внимания". В 1798 году Джейн писала Кассандре: "Маме не терпится сообщить тебе, что я замечательная домоправительница". На самом деле Джейн "замечательна" не совсем в общепринятом смысле: "Я неусыпно пекусь о том, чтобы угодить собственному аппетиту… Я уже заказывала рагу из телятины, а на завтра собираюсь заказать баранье рагу с овощами".
Судя по письмам Джейн, она прекрасно знала, что окружающие будут оценивать и, возможно, критиковать ее хозяйственные способности. "Вчера заезжал мистер Лайфорд [доктор], — писала она. — Он застал нас за обедом и разделил наше элегантное пиршество. Мне не стыдно было пригласить его за стол, потому что мы ели гороховый суп, свиные ребрышки и пудинг". Мэри Рассел Митфорд, выросшая в соседнем Альресфорде, сетовала на испытания, которым подвергаются женщины, если в дом неожиданно нагрянут гости. Ее мать "пыталась спасти положение с помощью укупоренного мяса, омлетов и всяких закусок, приготовленных на скорую руку". Однако очень часто все старания оказывались напрасными: "к ромштексу нет шалота; к отварной курице нет грибов; нет рыбы; нет устриц; нет льда; нет ананасов". Еще трудней приходилось "несчастной хозяйке, живущей в пяти милях от городка с рынком". Когда миссис Беннет в "Гордости и предубеждении" слышит, что приедет обедать мистер Бингли, она приходит в волнение и немедленно вызывает свою экономку. "Боже мой, какой ужас — у нас не будет рыбного блюда! Лидия, душенька моя, дерни, пожалуйста, колокольчик. Надо сию же минуту отдать распоряжение миссис Хилл".
Можно подумать, что суп, мясо и пудинг, которыми Джейн ублажала мистера Лайфорда, — это трапеза из трех перемен, однако на самом деле все это выставлялось сразу, и едоки накладывали себе на тарелку кушанья с общих блюд, почти как на современном фуршете. Наша манера поочередно подавать порционные тарелки с разными блюдами появилась позже, но при жизни Джейн стол сервировали иначе. Это кажется расточительством, но только на первый взгляд, так как остатки еды с общего блюда отдавали слугам или нищим. Иногда в больших георгианских домах подавали две перемены, то есть два набора блюд, поэтому, когда героиня "Уотсонов" Элизабет говорит гостям, что они будут обедать "чем бог послал", это означает, что за первой переменой ничего не последует. В действительности на стол подали жареную индейку, поскольку в благородных семействах было принято не хвалиться количеством блюд, а кормить гостей досыта.
Ведение хозяйства в стивентонском пасторате включало в себя то, что сегодня мы назвали бы "управлением персоналом". О домашней прислуге Остинов писалось много, однако ошибочно полагать, что жизнь в георгианской сельской усадьбе была копией жизни в городских особняках. В городе, равно как и в больших загородных имениях, слуги часто делили кров с господами, но в усадьбах фермерского типа помощников наверняка нанимали из числа деревенских жителей — за поденную или почасовую оплату. Всего за один месяц 1798 года Джейн упоминает в письмах не меньше девяти разных служанок. Прачкой вместо миссис Бушелл стала миссис Стивенс; появилась новая горничная: "Мы до того намучились без горничной, что решительно настроены ее полюбить".
В таких обстоятельствах прислуге приходилось выполнять самую разную работу по дому. "Вы с Эдвардом, думаю, позабавитесь, — сообщала Джейн Кассандре, — узнав, что Нэнни Литлворт укладывает мне волосы". Речь идет о той самой Нэнни Литлворт, чьи родители нянчились с маленькими Остинами. Она назвала свою дочку Элизой Джейн и просила Джейн стать ей крестной матерью. Соседи могли быть и слугами, и объектами благотворительности, а порой тем и другим одновременно. Вот что сообщает сама Джейн: "Я отдала по паре шерстяных носков Мэри Хатчинс, тетушке Кью, Мэри Стивенс и тетушке Стейплз; рубаху Ханне Стейплз и шаль Бетти Докинз".
Умению добиваться от всех них хорошей работы надо было, разумеется, учиться. "Старый камердинер подметил, — читаем мы в "Безупречном слуге", — что самые плохие хозяйки — это молодые жены. Они отдают бестолковые распоряжения, они требуют слишком многого; они плохо понимают, за что нужно похвалить, а за что отчитать". Отсутствие поощрения вредно, ведь "если бедного слугу постоянно шпынять, у него пропадет всякое желание трудиться".
Вот почему Джейн, серьезно относившаяся к своим обязанностям, так беспокоится из-за еще одной из домашних служанок, тоже Нэнни, которая "скучает" в Стивентоне, если никого из Остинов нет дома. Джейн переживает: Нэнни уже "три или четыре дня лежит пластом с колотьем в боку и жаром, и семья вынуждена нанять двух поденщиц, что не слишком удобно". Неудивительно, что, вопреки стойкому мифу о праздности благородных дам, Джейн считала "роскошеством сидеть без дела у огня в уютной комнате".
Джейн Остин часто критиковали за то, что в ее романах почти нет персонажей из "нижних слоев". Дело в том, что ранние читатели Джейн, в отличие от нас, знали о присутствии во многих сценах слуг, даже если те не упомянуты ни словом. Хороший слуга был почти незаметен. Служить — значило носить плащ-невидимку, как в "Доводах рассудка":
"— Заметили вы женщину, которая вам вчера отворяла дверь?
— Нет. Но разве это не миссис Спид была и не горничная? Нет, я ее не заметила".
В этой сцене миссис Смит открывает Энн глаза на скрытую шпионскую сеть из слуг, нянек и горничных, которые доносят ей, о чем судачат в Бате. Подобно миссис Смит, Джейн больше многих знала о невидимых людях, поддерживавших порядок в доме.
Даже если современники и читатели Джейн в реальной жизни не имели привычки вглядываться в лица слуг, они постоянно ощущали их незримое присутствие. В романах Джейн персонажи за трапезой воздерживаются от разговоров, не предназначенных для чужих ушей. В "Уотсонах" Элизабет говорит служанке (еще одной Нэнни), что они с сестрой обслужат себя сами. Ей надо удалить Нэнни из комнаты, чтобы, "не теряя времени", посплетничать о вчерашнем бале. Георгианские дамы не стеснялись показываться служанкам в самом непрезентабельном виде: раздетыми, страдающими. В "Чувстве и чувствительности" Марианна пишет отчаянное письмо рано утром, "стоя на коленях на диванчике у окна, где было светлее", потому что, против обыкновения, поднялась с постели, когда "горничная не успела еще затопить камин".
Георгианские читатели Джейн могли судить о доброте или бездушии ее персонажей по намекам на их отношение к прислуге. Мы понимаем, что полковник Брэндон в "Чувстве и чувствительности" — сердечный человек, поскольку он навещает своего бывшего слугу в "доме тюремного смотрителя", куда перед заключением в долговую тюрьму помещались несостоятельные должники. Этот акт сострадания прекрасно его характеризует. А вот надменная миссис Элтон в "Эмме" бахвалится тем, что у нее слишком много слуг, чтобы держать в голове их имена: это просто "один из наших лакеев, уж не упомню, как его звать", который ходит за письмами.
Порой Джейн даже позволяет себе революционные новшества, когда мы слышим голос прислуги, например неожиданную похвалу мистеру Дарси от домоправительницы миссис Рейнольдс. В "Мэнсфилд-парке" дворецкий Бэдли ставит на место — в высшей степени успешно — ядовитую миссис Норрис. Бэдли докладывает, что сэр Томас Бертрам просит к себе Фанни. Миссис Норрис не верится, что тот желает видеть столь низкое существо; она полагает, что сэру Томасу нужна не Фанни, а она. "Нет, сударыня, не вы, — говорит Бэдли, — а мисс Прайс, верно вам говорю, что мисс Прайс". И на губах его мелькнула улыбка, которая означала: "Нет уж, для такого дела, я думаю, вы никак не подойдете". Улыбка Бэдли — отголосок мыслей слуг, как вымышленных, так и реальных, о своих хозяевах. И она не сулила добра. Челядь наверняка имела свое мнение о Французской революции и наверняка задавалась вопросом, не следует ли и ей восстать против своих господ.
"Лакеи нахальны, — писал фермер в 1793 году. — Наверное, на них влияет Французская война". Несмотря на внимание Джейн к нуждам прислуги, по существу Остины не были на стороне тех, кто на них работал. "Обращайтесь со своим слугами с величайшей гуманностью, — говорилось в одном руководстве, — но если вы начнете с ними откровенничать, то распустите их и уроните себя". В целом Джейн с этим соглашалась. С ее точки зрения, Лидия Беннет ведет себя недостойно, когда бежит "похвастаться замужеством и показать обручальное кольцо двум служанкам и миссис Хилл". Просто Остины отличались от большинства нанимателей уровнем культуры. Они, например, не боялись разыгрывать в своем амбаре фарс "Высший свет под лестницей" — пьесу об усадьбе, где слуги передразнивают своих господ-аристократов. Смысл ее в том, что все мы, независимо от статуса — слуги — и ни один человек не лучше других:
- Создала нас природа для общей юдоли.
- Как глупцов-шаркунов не осмеивать, коли
- В услужении мы, а они все — в неволе?
Течение жизни в пасторате сильно зависело от погоды. Она позволяла или не позволяла Джейн гулять по окрестностям. Заморозки приветствовались, так как они схватывали льдом непролазную грязь и давали Джейн свободу даже зимой: "На прошлой неделе я вовсю наслаждалась крепким бесснежным морозцем и в один из холодных деньков сама дошла до Дина. Не помню, чтобы мне когда-либо прежде случалось это делать". Поразительно, ведь Джейн любила ходить пешком, а до Дина было чуть больше мили. Судя по всему, молодые барышни редко совершали прогулки без сопровождения.
Зато дождь был сущим наказанием. Он "расквашивал" тропки и с утра до ночи держал девиц взаперти "в обществе друг друга с очень скудным набором книг и нарядов". Джейн, застенчивая в двенадцать, и в двадцать четыре не сделалась общительнее. Когда она гостила у своей подруги Марты в Ибторпе, девушки поняли, что не смогут нанести ответный визит шумному семейству навестившего их священника, так как "в этом приходе дорога от Ибторпа до пастората раскисает и становится еще более непроходимой, чем дорога от пастората до Ибторпа". Прелестные юные леди носили легкую обувь. Даже отправляясь в путешествие, Лиззи Беннет надевает туфли, которые не могут "уберечь… ноги от еще не вполне растаявшего снега". Но Джейн всегда обувалась практично и говорила о своих туфлях, что "в любом случае они всегда на низком каблуке". Ее и Кассандру иногда видели на стивентонских проселках в патенах — сабо на деревянной подошве, крепившихся поверх туфель с помощью железного обруча. Их племяннице Анне запомнились силуэты сестер, бредущих в своих патенах "по зимней слякоти". Патены были тяжелыми и громко цокали по твердому полу, так что в церквях вешали объявления примерно того же содержания, что взывало к прихожанам в Бате: "Смотрители убедительно просят не заходить в храм в грубых патенах". Племянница Джейн и Кассандры утверждает, что патенами "в те времена не брезговали даже аристократки", но мы сомневаемся, что в них щеголяла, скажем, Элиза.
Джейн любила ходить пешком. "Миссис Чемберлен очень вынослива, — писала она о приятельнице, — я с трудом за ней поспевала, но чтобы сдаться — ни за что на свете". Ее героини — тоже отчаянные поклонницы пеших прогулок: Лиззи Беннет перепрыгивает через ограду, чтобы попасть к своей больной сестре, Эмма Уотсон дает отповедь глупому аристократу, заявляющему, что леди должны ездить верхом, а не ходить пешком. "Не у всех женщин есть такое желание или средства, — парирует она. — Женская бережливость творит чудеса, милорд, но она не способна превратить маленькое состояние в большое".
Бледная тоненькая Фанни Прайс, которую быстро утомляет и ходьба, и необходимость в жару срезать в саду розы, — самая хрупкая из героинь Джейн. Ее анемия служит нам напоминанием о том, что до изобретения вакцинации, аспирина и современной стоматологической техники полностью здоровые люди были счастливым исключением из общего правила. Существует интересное исследование, доказывающее, что портрет Фанни списан с девушки, страдавшей от распространенного тогда малокровия. Сегодня мы даже не считаем его заболеванием, настолько легко оно лечится: упадок сил и бледность вызывает недостаток в рационе железа. Во времена Джейн его называли "бледной, или девичьей, немочью", причина которой, возможно, не сводилась к чистой физиологии. Не исключено, что свою роль играло и самовнушение: современники Джейн истово верили, что взросление девушки неизменно сопровождается ослаблением организма. Историки медицины подчеркивают, что наши представления о тех или иных болезнях не всегда соответствуют тому, что под ними понимали наши предки, существовавшие в другом временном контексте. Тем не менее исследовательница Хелен Кинг находит некоторые параллели между "бледной немочью" и знакомой нам анорексией. "Если женщина хвастается своей недюжинной силой, — говорится в одном георгианском руководстве для женщин (написанном, разумеется, мужчиной), — своим выдающимся аппетитом и своей чрезвычайной выносливостью, нас от нее воротит". Возможно, Фанни хорошо об этом знала и своей физической хрупкостью отвечала на ожидания окружающих.
Когда братья Джейн и мальчики-ученики покинули пасторат, мистер Остин занялся благоустройством своих владений. Георгианский аристократ пригласил бы "Умелого" Ланселота Брауна[26], чтобы тот разбил ему ландшафтный парк, ликвидировав регулярные барочные цветники поколения его родителей. Но георгианский священник ставил перед собой более скромную цель. Мистер Остин, следуя за модой, решил насадить на примыкающем к дому участке пахотной земли кустарниковую аллею.
Отец Джейн черпал вдохновение в просвещенческом идеале "усовершенствования" (что становилось приятным хобби), но для масштабных преобразований не имел средств. "Усовершенствование" ценилось не только с практической точки зрения; так, в "Мэнсфилд-парке" симпатичный Эдмунд Бертрам намерен придать своему будущему пасторату "вид жилища джентльмена".
Однако Эдмунд понимает, что должен достичь желаемого "без особых затрат", иначе "усовершенствования" заведут его слишком далеко и выльются в неумеренное потакание своим прихотям. Как сказал в стихах любимец Джейн Уильям Купер: "Усовершенстованье, идол века, // Прожорливо и кровожадно"[27]. Ради красоты вида из окон особняка помещик безжалостно сносил хижины бедняков. По его приказу плодородные поля покрывались зеленой гладью прекрасного, но бесполезного газона. Купер призывает добропорядочного викария не "потворствовать своей тяге к усовершенствованиям, окружая крыжовенные кусты китайской изгородью"[28], а тратить деньги на церковь.
Джейн наблюдала все это в миниатюре в собственном саду. "Наши усовершенствования идут очень борзо, — писала она Кассандре в 1800 году. — Косогор вдоль вязовой аллеи выровнен для посадки шиповников и сирени". Извилистая, петляющая меж зарослями кустов тропинка с притулившимися в уютных уголках скамеечками позволяла гуляющему "заплутаться" и ощутить почти романтическое слияние с природой. К сожалению, в ноябре того же года разразилась страшная гроза, повалившая несколько великолепных вязов.
Мистер Остин никогда не пускался на траты в отсутствие денег. В 1784 году он счел себя достаточно зажиточным, чтобы завести выезд. Это был период пика семейного процветания Остинов. Когда на ферме случались незанятые лошади, дамы ездили с визитами в собственном экипаже, подпрыгивая на ухабах. Экипаж прослужил до 1798 года, пока не пал жертвой выросших во время войны налогов. В ноябре Джейн написала: "Мы отказались от выезда". К концу десятилетия пасторат сдал свои позиции.
Была ли Джейн счастлива дома посреди всей этой круговерти? Мать видела, что в ее младшей дочери есть что-то странное. Она не сомневалась, что Кассандра обретет прочную семью, но от Джейн ожидала какого-нибудь кульбита, соответствующего ее необузданному нраву.
Даже имея уютный дом, невыносимо навещать одних и тех же соседей, помогать одним и тем же беднякам и без конца возделывать один и тот же сад. Ответом на скуку часто становились болезни. Мать Джейн по совету врача принимала на ночь "12 капель лауданума". Она наверняка сразу проваливалась в сон, потому что лауданум — это спиртовая десятипроцентная настойка опия, содержащая изрядную дозу морфина, кодеина и других алкалоидов опия. "Состояние ее сносное, — писала Джейн о матери. — Она сама тебе расскажет, что у нее сейчас чудовищный насморк; но я не слишком сочувствую насморкам". Миссис Остин недомогала по-своему, подобно миссис Беннет в "Гордости и предубеждении", которая, будучи чем-нибудь недовольна, "считала, что у нее не в порядке нервы". Миссис Беннет жила только ради того, "чтобы выдать замуж дочерей". Утешением в разочарованиях ей служили "визиты и новости". Устроила бы такая судьба Джейн?
Именно царившая в пасторате скука заставила Джейн превратить свою повседневную жизнь в искусство. Одна из ее ранних поклонниц, Джулия Кавана, разглядела за шутками Джейн тихое отчаяние. Джейн, писала Кавана в 1862 году, "была, кажется, особенно удручена мелким тщеславием и мелким лицемерием" жизни. "За живостью и мягкой ироничностью ее романов, — продолжала она, — гораздо явственнее просматривается горечь разочарования, нежели радость обретенного счастья". Неудивительно, что дамы подсаживались на лауданум.
10
Романы
Из всех химических смесей самая опасная — чернила.
Джеймс Остин (журнал "Бездельник")
Унылая сельская жизнь в Хэмпшире военной поры имела то великое преимущество, что оставляла Джейн время для творчества. В июне 1793 года, в семнадцать лет, она закончила переписывать в три тетради свои ранние работы и взялась за осуществление нового замысла.
Первый набросок книги, которая в конце концов была опубликована под заглавием "Чувство и чувствительность", назывался "Элинор и Марианна". Произведение задумывалось как эпистолярный роман. По свидетельству Кассандры, Джейн его "сначала сочиняла в письмах и так читала семье". К 1795 году сюжет романа, вероятно, уже полностью сложился, раз Джейн читала его вслух Остинам, в лице которых, должно быть, находила благодарных слушателей.
Легко вообразить, что по вечерам Остины требовали познакомить их с очередной главой или очередным "письмом" из "Элинор и Марианны". Для своего первого крупного литературного опыта Джейн выбрала форму эпистолярного романа, очевидно в подражание "Памеле" Ричардсона, но впоследствии она пересмотрела свой подход и переработала текст. К моменту выхода "Чувства и чувствительности" в свет (Джейн уже исполнилось тридцать пять лет) манера рассказывать истории в письмах безнадежно устарела. Автору пришлось менять сюжет, ведь в первоначальной редакции Марианна и Элинор постоянно писали друг другу, что подразумевало разлуку. В "Чувстве и чувствительности" они почти не расстаются. Эта коренная переделка — раннее свидетельство того, что Джейн тщательно работала над своими текстами, правила черновики и оттачивала слог.
В 1790-е годы письма служили Джейн естественным развлечением. Переписка была занятием, входившим в распорядок дня практически всех георгианских дам. Лишенная ярких впечатлений, Джейн в своих эпистолярных посланиях умела представить любое пустяковое событие как нечто грандиозное. Ее письма полны шуток, и нам не надоедает их перечитывать, так как каждый раз открываются новые смыслы.
Письма Джейн к сестре можно вслед за критиком Деборой Каплан назвать "двухголосыми". На первый взгляд они кажутся сдержанными, чуть ли не скучными. Ничто (или почти ничто) не помешало бы Кассандре, где бы она ни гостила, зачитать одно из них собравшемуся за завтраком обществу. Но вместе с тем эти письма содержат тонкую критику высшего света и всевластия мужчин. В них есть то, что Каплан называет "вкрапленными комментариями sotto voce[29], предназначенными исключительно для женских ушей".
Это "двухголосие" присутствует и в "Чувстве и чувствительности". На первый взгляд — это дидактический рассказ: эмоционально неустойчивая Марианна получает урок и учится владеть своими чувствами, а благоразумная Элинор вознаграждается за сдержанность. Но при ближайшем рассмотрении видно, что героини выступают на равных. Хотя с точки зрения общества Марианна виновата, потому что говорит правду.
Из всех романов Джейн "Чувство и чувствительность" пользуется у современных читателей наименьшей популярностью. Вероятно, потому, что он наиболее близок к другим современным ему романам и наименее понятен нам. Частично причина в том, что он написан "против" чего-то, что сегодня не является частью нашей жизни, — тогдашнего культа чувствительности.
"Чувствительность", известная также как "английская болезнь", к середине восемнадцатого века сделалась модным среди богачей недугом. Она была признаком принадлежности к высшему классу, поскольку развивалась лишь у того, кто проводил жизнь в праздности и роскоши, позволявших с особым трепетом относиться к своим "нервам".
Склонность к чувствительности открывала дорогу миллиону других серьезных страданий, таких как меланхолия или разбитое сердце. Эта воображаемая уязвимость чувств, проявлявшаяся органически, сильно раздражала сторонних наблюдателей. Доктор Джонсон называл распространившееся поветрие "модой на сентиментальное нытье". Тому, кто желал поразить окружающих тонкостью изысканных чувств, начинать следовало с чтения романов. Пристрастившись к романам с их возвышенными понятиями о любви и любовных отношениях, читатели переняли эмоционально-романтическую манеру изъясняться их героев и попытались перенести ее в реальный мир. Расцвет культа чувствительности пришелся как раз на юность Джейн. Писательница-моралистка Ханна Мор в своем стихотворении "Чувствительность: Поэтическое послание" (1782) приравнивает чувствительность к добродетели:
- Чувствительность души! Ты ликованье!
- Твоя мораль чутка! Мгновенно правды знанье!
Но чем дальше, тем больше Мор утверждалась во мнении, что чувствительность стоит на пути долга и действия. Мэри Уолстонкрафт тоже полагала, что чувствительность вредит женщинам, делая их рыхлыми, бесформенными существами, не имеющими ни цели, ни внутреннего стержня. Как говорит критик Джон Маллан, перефразируя Сэмюэла Тэйлора Кольриджа, "светская дама готова обливаться слезами над "Страданиями юного Вертера" или терзаниями барышни в "Сэре Чарльзе Грандисоне" Ричардсона (1743–1744), но забывает, что сахар попадает к ней в чай с невольничьих плантаций".
К концу восемнадцатого века публика пресытилась чувствительностью. В 1799 году в журнале появилось пародийное письмо матери с жалобой на дочь, которая с утра до ночи только и делает, что читает романы. "Одну неделю — "Безмерную чувствительность", "Изысканную утонченность", "Бескорыстную любовь", "Сентиментальную красавицу" и тому подобное. Другую неделю — "Жуткие тайны", "Пещеры с привидениями", "Черные башни", "Зловещие чары" и так далее". Героини всех этих книг были представлены абсолютно никчемными созданиями. Современная женщина, с возмущением писала Мэри Робинсон, "не удостаивает быть умной, поскольку боится показаться мужеподобной; она дрожит от легчайшего ветерка, лишается чувств при малейшей опасности и тушуется перед каждым злодеем".
Новаторство Джейн как романистки состояло, в частности, в решимости изображать своих героинь далекими от идеала и ни в коем случае не слабовольными существами. По стандартам эпохи их поведение могло считаться просто дерзким. В них бурлят желания, они ошибаются и учатся. Марианна, образ которой Джейн создала в юности, так жаждет чувствовать, что ее эмоциональная уязвимость становится опасной. Девушка влюбляется в распутного Уиллоби именно потому, что тот демонстрирует все ту же чувствительность: говорит с ней о поэзии и романах, о природе и музыке. Однако увлечение Марианны оборачивается ухудшением самочувствия: у нее болит голова, она "не в силах произнести ни слова, проглотить ни кусочка". Поначалу это просто реакция молодой девушки на душевные переживания. Но когда Уиллоби действительно порывает с ней и она в отчаянии бродит под дождем, дело принимает более серьезный оборот: Марианна по-настоящему и тяжело заболевает. "Чувствительность" чуть не стоила ей жизни.
В нас, сегодняшних, сентиментальная Марианна пробуждает больше сострадания, чем в первых читателях Джейн. Вспышки гнева Марианны — по сути, единственное, чем она способна ответить обществу, которое до крайности ограничивает ее жизненный выбор. После того как Уиллоби бросает Марианну, друзья пытаются сосватать ее за скучного, но надежного полковника Брэндона. По важному наблюдению критика Тони Тэннера, "подавленный Марианной крик в сердце романа" — симптом общественного недуга. Ей необходимо кричать. Как еще она могла заявить о своих потребностях и желаниях? Джейн ненавидела жеманство вялых предшественниц Марианны. "Эти воплощенные совершенства, — писала она, — вызывают у меня тошноту и злобу".
Чувствительная Марианна восторгается всем "живописным", как и Джейн, обожавшая Уильяма Гилпина, одного из тех, кто сформулировал это понятие[30]. Но Джейн показывает, что в страсти к неокультуренным пейзажам есть риск переусердствовать. Ее герой, Эдвард Феррарс, более прозаичен. Холм, представляющийся Марианне "гордым", он называет "крутым". Склон, для нее "почти неприступный", — "неровным и бугристым". Эдварду "не нравятся ветхие, разрушающиеся хижины": "Я не слишком люблю крапиву, репьи и бурьян… компания довольных, веселых поселян мне несравненно больше по сердцу, чем банда самых великолепных итальянских разбойников". В конце концов даже Марианна признает, что восхищение прелестью дикого, романтического пейзажа "превратилось в набор банальных слов. Все делают вид, будто понимают ее, и тщатся подражать вкусу и изяществу" Гилпина. Так в своем первом полновесном романе Джейн раскритиковала "чувствительность" и "живописность" — модные словечки 1790-х годов. "Элинор и Марианна" — плоть от плоти того времени, когда писался роман, и знание исторического фона делает его прочтение особенно увлекательным.
В 1794 году, вероятно в разгар работы над "Элинор и Марианной", в стивентонском пасторате произошло знаменательное событие. Оно показало, что писательство Джейн уже воспринималось как нечто гораздо более серьезное, чем просто "изыск". В декабре, на ее девятнадцатый день рождения, отец купил Джейн "маленькую настольную конторку красного дерева с длинным выдвижным ящиком и письменным прибором из стекла". В конторке было несколько отделений, запирающихся на ключ. Наклонная доска откидывалась, и под ней был устроен тайник. Это означало, что у Джейн появилось личное пространство, пусть небольшое, но принадлежавшее только ей, а не матери, не отцу и не сестре. Это был только первый шаг. Через год Джейн обрела отдельную комнату.
В "Чувстве и чувствительности" одним из величайших благ, которые Марианна ждет от брака с Уиллоби, является красивая комната:
"На втором этаже есть очаровательная гостиная, как раз такой величины, какая особенно удобна для постоянного пользования… Угловая комната, окна выходят на две стороны. За одними лужайка для игры в шары простирается до рощи на крутом склоне, за другими виднеются церковь, деревня…"
Это побуждает ее благоразумную сестру Элинор заметить, что, пока Марианна не помолвлена с Уиллоби и пока хозяин дома жив и не оставил ему наследство, ей не следует столь откровенно восхищаться его владениями. Поступая так, она слишком афиширует свои ожидания.
Джейн, выросшей в доме, полном мальчишек, было наверняка понятно желание обзавестись хорошенькой дамской гостиной. Мечта всех ее героинь — обрести счастье и "свое гнездышко", особенно свою гостиную, ту сцену, на которой по преимуществу протекает общественная жизнь. Например, Фанни Прайс в "Мэнсфилд-парке" робко жмется в мансарде, замирает на лестнице или в проеме окна, прежде чем набраться смелости и спуститься вниз, в гостиную, чтобы в конце концов даже пуститься там в пляс: "Едва ли хоть раз в жизни была она так близка к блаженству… она пошла по гостиной, выделывая разные па…" В истории Энн Эллиот из "Доводов рассудка" капитан Уэнтуорт впервые появляется в гостиной всего на несколько минут; с Энн он даже не заговаривает. Затем Энн видит его застывшим в молчании у окна. Только в финале романа он обозначает свое присутствие в комнате, когда пишет ей письмо, как будто в нем — вся его жизнь. И Энн, и Фанни постепенно приближаются к осуществлению своей мечты и в итоге становятся обладательницами собственных гостиных. Единственная героиня, не чувствующая необходимости прятаться по углам, — это великолепная Эмма Вудхаус, которая царит в своей гостиной и приглашает своего счастливого поклонника мистера Найтли разделить ее с ней.
В 1795 году в стивентонском существовании девятнадцатилетней Джейн произошло важное изменение к лучшему. Одна из спален над столовой была переделана в "своего рода гостиную" для "повзрослевших молодых леди". Эта комната, получившая название "гардеробной", сообщалась с "комнаткой поменьше", где Джейн с Кассандрой спали. Расширением своей территории они были обязаны отъезду братьев и отцовских учеников.
Ознакомиться с окружавшими Джейн предметами быта мы можем благодаря сохранившимся счетам, которые выставлял ее отцу мистер Джон Ринг, хозяин мебельного склада в ближайшем городке Бейзингстоке: его складские строения из красного кирпича стоят до сих пор. Перечень крупных и мелких вещей, составлявшийся конторщиком мистера Ринга и в течение длинной череды лет отправлявшийся в пасторат, кажется бесконечным — от "луженой жаровни" до "лаковой стойки для гренок" и "метелки красной кожи для ковров". Из той же амбарной книги мы узнаем об обстановке комнаты, в которой Джейн написала, по крайней мере начерно, три своих первых романа.
Счета мистера Ринга проливают свет на бытовую среду, в которой сестрам предстояло обитать до конца дней: простой, недорогой интерьер, украшенный маленькими, но высоко ценимыми изящными вещицами. Плативший за все мистер Остин экономил на чем только мог. Например, приобретая "большой уилтонский ковер" для одной из нижних комнат, он в придачу к нему купил "3 ковровых обрезка" для менее парадных помещений. У мистера Ринга имелись товары на самый взыскательный вкус, вроде роскошной мебели для аристократов, которых он охотно обслуживал в кредит. В то же время, когда Джеймс Остин стал в 1792 году обустраивать для молодой жены динский пасторат, мистер Ринг с радостью предоставил ему в пользование видавший виды диван.
"Я помню неброский ковер с шоколадным фоном, — впоследствии делилась воспоминаниями о новой комнате сестер их родственница, — большой крашеный шкаф с книжными полками наверху, стоявший у стены, смежной со спальней, и напротив камин; фортепиано тети Джейн". Шкаф мистер Остин заказал у мистера Ринга вместе с оконными шторами в голубую полоску (перешитыми из выстиранных старых), коричневой краской, голубыми обоями и светлым сосновым карнизом.
Но самые важные в комнате вещи ("наиглавнейшие", по воспоминаниям племянницы Джейн) стояли "на столике между окон" под зеркалом. Это были "2 тонбриджские шкатулки для рукоделия овальной формы, оснащенные костяными бочонками, в которых хранились катушки с шелком, измерительные ленты и т. д.". Шкатулки для рукоделия говорят о том, что комната наверняка использовалась для шитья и украшения шляпок, о чем не раз упоминала в своих письмах Джейн.
В Винчестерском музее сегодня можно увидеть предмет, судя по всему хранившийся в шкатулке Джейн: изящный цилиндрический костяной футляр с буквами "JA" на крышке. Она держала в нем шелковые нитки. Рядом выставлен крошечный синий кошелек из бисера, который Джейн, по преданию, смастерила сама. Такие маленькие подарки ручной работы играли роль недорогих милых сувениров, предназначенных близким людям. Например, Джейн сшила и при расставании подарила своей подруге Мэри Ллойд маленький полотняный мешочек для иголок с запиской:
- Коль скоро нас разлука ждет,
- Послужит он вдвойне,
- Как на мешочек взглянешь ты,
- Так вспомнишь обо мне.
Разлука подруг продлилась недолго — вскоре Мэри стала невесткой Джейн. Они продолжали тесно общаться до конца жизни Джейн.
Шкатулки для рукоделия, позволявшие дамам делать и дарить подарки, представлялись им полными сокровенного смысла. "Мне они казались восхитительными, — признается племянница сестер Остин Анна, — и именно такими они наверняка и были". Они также воплощали собой идеал приватности, как, впрочем, и комната для занятий рукоделием. Мужчин сюда не допускали; здесь женщины могли спокойно предаваться болтовне, не опасаясь быть подслушанными. "Очарование этой комнаты с ее скудной обстановкой и дешевыми обоями, — позже заметят историки, — скорее всего, заключалось… в возможности блеснуть друг перед другом остроумием, которое в семье высоко ценилось".
В соседней спальне стояли две кровати, купленные в предшествующем, 1794 году, отцом Кассандры и Джейн, опять-таки у мистера Ринга. До этого они, скорее всего, спали в одной постели, что в Георгианскую эпоху было обычным делом (особенно у слуг). Джейн, например, с удовольствием делила со своей подругой Мартой раскладную кровать, "вольготно расположившись на которой мы проболтали до двух и проспали всю оставшуюся ночь". Но больше всего Джейн любила ночевать с Кассандрой или в одиночестве. Однажды, находясь в гостях, Джейн в письме родным признавалась, что ей "приятно писать из собственной комнаты, к тому же такой удобной".
Мистер Ринг вел учет покупок в громадных, переплетенных в кожу гроссбухах с отдельным указателем, завернутым в кусок сизых узорчатых георгианских обоев. Вот откуда нам известно, что в 1794 году мистер Остин заказал для своих дочерей "2 кроватных каркаса на колесиках" с витыми стойками для навеса и "набалдашниками красного дерева". Каждая кровать обошлась ему в 1 фунт 4 шиллинга 0 пенсов — совсем недорого, хотя надо было еще докупить сорок два ярда хлопка в сине-белую клетку, шестьдесят девять ярдов сине-белой тесьмы и тик для наперников. С расходами на фурнитуру и шитье стоимость кроватей выросла до 21 фунта 1 шиллинга.
Историк Эдвард Копланд подчеркивает, что мистер Остин уложился в скромную сумму, соответствующую его положению. Если верить той же амбарной книге, более состоятельный покупатель, сэр Генри Полет Сент-Джон Майлдмей, приобрел похожую кровать, но "с наилучшим гусиным пером" и дорогими, посаженными на подкладку занавесями из белого канифаса за 25 фунтов 16 шиллингов и 10 пенсов. То есть кровать баронета стоила более 25 фунтов, в то время как кровати дочерей священника чуть больше 10 фунтов каждая. Примечательно, что мисс Мейнуорринг, школьная учительница, заплатила за свою кровать всего 1 фунт 5 шиллингов, и ей ни за что не пришлось доплачивать — ни за оборки, ни за полог, ни за любые другие аксессуары. Очевидно, что учительница могла себе позволить только подержанную мебель. Сам мистер Остин в целях экономии сдавал мистеру Рингу старую мебель в качестве частичной платы за новую. Например, за старую кровать ему скостили 1 фунт 18 шиллингов.
Подробным описанием гардеробной, этой святая святых сестер, мы обязаны их племяннице Анне, которая подолгу жила в Стивентоне и которую пора ввести в наше повествование. В мае 1795 года мать Анны, первая жена Джеймса Остина Энн, заболела в Дине. Джеймс вспоминал, как услышал странный стук во входную дверь, будто в дом просилась Смерть. Анна умерла, оставив Джеймса вдовцом с крохотной дочкой на руках. Маленькая Анна причиняла отцу такие невыносимые страдания, "постоянно спрашивая и беспокоясь о маме", что он отослал девочку в Стивентон, препоручив заботам тетушек Кассандры и Джейн.
Женившись вторым браком на Мэри Ллойд, подруге Джейн, Джеймс в каком-то смысле восстановил справедливость: когда-то Мэри с сестрой Мартой пришлось покинуть динский пасторат, где Джеймс поселился с первой женой. Вернувшись в свой старый дом полноправной хозяйкой, деятельная — порой чересчур деятельная — Мэри настояла на том, чтобы ее маленькое приданое пошло на уплату мужниных долгов. Она относилась к той категории женщин, которые искренне восторгаются, получив в подарок каток для глажки белья, — он доставлял ей не меньше радости, чем Джейн — розовые туфельки. Но с падчерицей Мэри при всех своих организаторских талантах поладить не сумела, и Анна продолжала подолгу жить в Стивентоне.
Анна была на семнадцать лет моложе Джейн, что не мешает ей оставаться важной свидетельницей повседневной жизни своей тетушки. В отличие от других членов семьи Анна в своих воспоминаниях не старалась ничего выдумывать или приукрашивать действительность. "Оглядываясь на те годы, — признавалась она позже, — я мало что вижу четко и ясно: все кажется теперь таким смутным!"
Итак, Анна была правдивой, но слишком юной, чтобы поведать нам, как создавался первый известный роман Джейн, написанный вскоре после того, как сестры перебрались в гардеробную. Но по счастью — и вопреки попыткам остальных Остинов сберечь семейную тайну, — сохранились источники, которые могут пролить на нее свет.
11
"Мой ирландский друг"
Она начала завивать волосы и подумывать о балах.
Нортенгерское аббатство
Мы можем только догадываться о том, что в 1795–1796 годах у Джейн был роман. Не в последнюю очередь в этом виноваты ее близкие, не желавшие, чтобы романтическая история их знаменитой родственницы стала достоянием гласности. "Полагаю, у меня нет нужды просить вас не ворошить эту старую историю", — пишет один из них.
Кроме того, нам трудно понять, что 200 лет назад люди многие вещи воспринимали совсем не так, как мы сегодня. У биографов Джейн обычно предстает современной женщиной, которая реагирует на события точно так же, как мы. Однако, пытаясь исследовать историю человеческих чувств — то, чем историки начали заниматься относительно недавно, — мы должны проявлять осторожность. Взять хотя бы любовь. Для Джейн влюбиться в мужчину было настоящим приключением — рискованным и требующим смелости. Несмотря на новаторские идеи Сэмюэла Ричардсона и других романистов, в окружении Джейн будущий брак оценивали прежде всего с прагматичной, в первую очередь финансовой точки зрения. О том, чтобы "прислушиваться к своему сердцу", как внушают нам сегодня, не могло идти и речи.
Тем не менее она влюбилась. О взглядах Джейн на ключевую роль любви в супружестве мы узнаем из ее позднейших наставлений юным племянницам. В 1814 году она писала своей племяннице Фанни, двадцати одного года, предостерегая ее от брака с первым попавшимся шалопаем. "Ты пока встречала слишком мало молодых людей, и следующие шесть-семь лет твоей жизни будут полны искушений", — писала она и делала вывод, что Фанни следует набраться терпения.
По ее мнению, именно в возрасте 21–28 лет "формируются сильнейшие привязанности". Ей самой как раз исполнился 21 год, когда в ее жизни появился человек, отношения с которым до сих пор интригуют ее читателей.
Насколько они были близки — Джейн и ее мимолетный возлюбленный? Многие биографы, горя желанием защитить ее от обвинений в холодности, утверждают, что она влюбилась в него без памяти и осталась с разбитым сердцем. Они приводят множество доказательств в пользу этой версии, но, к несчастью, не слишком убедительных. Дело в том, что Джейн, как всегда, шутила.
Рассказывая в этой главе историю Джейн и Тома, мы заодно попробуем понять, насколько глубоко нам дано проникнуть в душу Джейн.
В 1795 году Том Фаул был еще жив, и Кассандра собиралась за него замуж. Та же судьба должна была ожидать и Джейн — это разумелось само собой. Первым шагом к замужеству были балы. Впоследствии вымышленные меритонские дамы заявят на странице ее романа: "Кто интересуется танцами, тому ничего не стоит влюбиться". Джейн любила танцевать. На балах 1790-х хэмпширские дворяне, глядя на Джейн Остин, видели не серьезную писательницу, а "прелестнейшую дурочку, жеманную бабочку, приманивающую мужа".
В искусстве "приманки мужей" у "бабочки" была прекрасная наставница в лице кузины Элизы. "Пришли мне, — требовала Элиза, — полный и подробный отчет обо всех твоих ухажерах". О каждом поклоннике она желала знать, "высокий он или коротышка, белокурый или шатен, карие у него глаза или голубые?" Прочти эти строки сочинитель проповедей Джеймса Фордайса[31], с ним случился бы апоплексический удар. "Я знавал женщин чрезвычайно достойных, которые остались безмужними и прозябают в одиночестве по единственной причине, — сердито выговаривал он. — Они расточают свою обольстительность на всех знакомых мужчин без разбора". Джейн отнеслась к его сочинению без всякого пиетета, хоть и упомянула его в "Гордости и предубеждении" — правда, лишь для того, чтобы заставить Лидию Беннет отчаянно зевать над наставлениями богослова.
"Было двадцать танцев, — писала Джейн об одном бале, — и я танцевала все". По завершении бала каждый подвергался строгому анализу с точки зрения матримониальных перспектив: "Присутствовал 31 человек, из них — всего 11 дам, и только 5 незамужних". Хороший расклад. Джейн ухитрилась перетанцевать даже Элизу, которая в 1792 году жаловалась в письме из стивентонского пастората, что пропустила два бала, так как лежала в постели с "приступом лихорадки".
Этими двумя балами были "частный по соседству" со Стивентоном и "клубный в Бейзингстоке". Тон хэмпширскому танцевальному сезону задавали общественные балы в Бейзингстокской ратуше, которые проходили ежемесячно по четвергам. Семьи местных джентри преодолевали многие мили ради того, чтобы потанцевать, и иногда оставались у знакомых на ночь.
Бейзингстокские балы устраивала миссис Мартин, хозяйка гостиницы "Мейденхед". В газете "Рединг Меркьюри" печатались объявления примерно такого содержания: "Очередная ассамблея состоится в ратуше в четверг, января 22-го" (январский номер 1793 года). Балы "начинались ровно в девять часов" и были открыты как для подписчиков, так и для тех, кто желал заплатить более высокий разовый взнос. Это означало, что публика собиралась довольно разношерстная. Не зря одному амбициозному молодому человеку настоятельно советовали "не терять голову, танцуя с бейзингстокскими красавицами".
Праздничное возбуждение начиналось с одевания — "первых мгновений упоения балом". Как Джейн говорит в "Уотсонах", подъему куража очень способствовала женская солидарность. Незнакомые девушки, сведенные вместе дружбой семей или путешествием в одном экипаже, "прихорашивались бок о бок" и "неизбежно теснее знакомились". В книге рецептов семейства Остин есть инструкции по приготовлению туалетных средств, таких как лавандовая вода, коралловый зубной порошок и мыло для рук. Румяна считались вульгарными, поэтому их рекомендовали избегать, но Джейн была счастливой обладательницей естественного румянца. Участники бала, естественно, разряжались, как только могли: одна дама после бейзингстокского бала в 1773 году хватилась "БРИЛЛИАНТОВОЙ БРОШИ в форме розы, по-видимому оброненной в зале или на лестнице", и предлагала в награду вернувшему гинею.
Закончив приготовления, все обедали, а затем усаживались в экипаж и ехали к месту собрания — либо в ратушу, либо в частный дом, либо, как в "Уотсонах" и "Эмме", в гостиницу. В "Уотсонах" мы видим прибывающую на бал публику, опьяненную "суетой, гамом и сквозняками просторного коридора… первым чирканьем одного смычка", долетающим до них с верхней части "широкой лестницы".
В тех же "Уотсонах" Джейн раскрывает некоторые хитрости, к которым прибегали провинциальные посетители ассамблей, чтобы провести вечер с наибольшей пользой. Зрелая дама, одетая в "одно из двух атласных платьев, прослуживших весь зимний сезон", появлялась рано, "чтобы занять хорошее местечко у камина", а развязный молодой человек переминался в проходе, чтобы войти в залу вместе с единственным ожидавшимся аристократом, как будто они явились вместе.
Чтобы устроить бал, не требовалось очень много места; годилась просторная домашняя гостиная или общий зал в гостинице; любой обед легко переходил в импровизированные танцы, если кто-то из присутствующих умел играть на фортепиано. Длина комнаты была важнее ширины, яркий пример чему — бальная зала гостиницы "Дельфин", где Джейн танцевала в свой восемнадцатый день рождения. В четыре раза больше в длину, чем в ширину, зала прекрасно подходила для кантри-данса, в котором участники выстраивались в два длинных ряда друг напротив друга. Кантри-данс — вовсе не деревенский танец, как можно предположить, исходя из его названия: слово происходит от искаженного контрданс, или французский менуэт. Танцующие еще не обхватывали руками партнера, как в вальсе (который появится при Регентстве). Мужчина и женщина вышагивали навстречу друг другу, соприкасались ладонями и снова расходились. Все это выглядело как элегантная и величаво-сдержанная стилизация соблазнения.
Джейн "обожала танцевать, и делала это великолепно". Нет никаких свидетельств того, что она брала уроки у настоящего учителя танцев; скорее ее учили подруги — Мэри и Марта Ллойд, которых раз в неделю на целый день возили в танцевальную школу в Ньюбери. "Один урок проходил утром, второй — вечером, а после чая экипаж забирал их домой". Это была необходимая подготовка к той волнующей минуте, когда Мэри и Марта получат право "открывать ньюберийские ассамблеи менуэтом".
После танцев все садились за стол: бал был не бал без "присутствия джентльменов и изысканного ужина". Ужин часто начинался со знаменитого "белого супа" (мистер Бингли в "Гордости и предубеждении" считает его непременным атрибутом званого вечера). "Белый суп" ведет свое происхождение от французского блюда семнадцатого века "potage la Reine"[32] — земляных орехов, сваренных в бульоне. Проникнув в английскую кухню, в 1739 году он появился в поваренной книге Уильяма Веррола под названием "королевский суп". В конце века его главными ингредиентами по-прежнему оставались орехи и крепкий бульон, при желании — с добавлением сливок, яичного желтка, белого хлеба и анчоусов.
Джейн танцевала и в частных особняках, таких как Мэнидаун-парк или Дин-хаус, где балы устраивались в дни полнолуния, чтобы гости разъезжались не в темноте. "Был очаровательный вечер, — писала миссис Лефрой после одного раута в доме Остинов, — и, когда мы ехали через рощу, соловьи заливались во всю мочь". В тот вечер она была дома в одиннадцать, но из ее писем известно, что ей часто случалось задерживаться в гостях до двух, трех, а то и до шести часов утра.
В тот странный, тревожный период, когда Кассандра ждала свадьбы с Томом, Джейн на балу в Дин-хаусе познакомилась и танцевала с Томом. Затем они встретились на балу в Мэнидаун-парке и в эшском пасторате, и, судя по всему, она влюбилась в Томаса Ланглуа Лефроя.
Кем же был этот юноша, личность которого уже не первый век интригует исследователей творчества Джейн Остин? Ему, как и Джейн, едва исполнился двадцать один год (он был младше ее на три недели). Сохранился его портрет: крупный нос, выступающий вперед подбородок, доброе светлое лицо с темными глазами и бровями. Студент-правовед из Лимерика, он закончил Тринити-колледж в Дублине и приехал в Лондон продолжать учебу. Из-за Ирландского моря он привез с собой превосходную репутацию. "Ни один молодой человек не выходил из стен нашего колледжа с более высокой аттестацией, — писал его наставник в Тринити, — он для меня как сын или брат".
Все эти многочисленные достоинства были насущно необходимы Тому, понимавшему, что пробиваться в жизни ему будет непросто. Он был одним из одиннадцати отпрысков супружеской пары, вступившей в брак по легкомыслию. Его отец, Энтони Лефрой, потомок гугенотов, командовал в Ирландии драгунским полком. Там он влюбился в Энн, дочь ирландского сквайра, и тайно с ней обвенчался. Супруги мечтали о сыне, но первыми у них родились пять дочерей. Возможно, именно наличие у Тома пяти старших сестер натолкнуло Джейн на образ семейства Беннет в "Гордости и предубеждении".
Том, старший сын, стал любимцем своего богатого двоюродного деда Бенджамина Ланглуа, платившего за его обучение в Тринити-колледже. Дядюшка Бенджамин хоть и отличался "удручающе чопорными манерами и посредственными способностями", но был единственным из родни, у кого водились деньги. К его советам следовало прислушиваться. Тому Лефрою приходилось тащить на себе огромный груз семейных обязательств: угождать дядюшке Бенджамину, делать карьеру и помогать десятерым братьям и сестрам, — и в этом состоял его недостаток как потенциального мужа.
На Тома давили со всех сторон. Он учился в Мидл-Темпл, когда из-за крайнего переутомления у него начались проблемы со зрением. Дядюшка Бенджамин велел ему поумерить пыл и "некоторое время поменьше читать при свечах". Было решено на Рождество отправить Тома на отдых в Хэмшир, в пасторат его дяди, мистера Лефроя, служившего в Эше священником.
Том гостил у мистера и миссис ефрой в эшском пасторате, расположенном "всего в миле" от Стивентона, по прямой через луг, и вместе с ними посещал балы в Дине и в Мэнидаун-парке. Во время последнего Джейн, избавившись от назойливых ухаживаний Джона Лай-форда, обратила внимание на нового привлекательного кавалера, который внес некоторое оживление в привычный до скуки мирок Хэмпшира.
Одна из причин, по которой исследователи жизни и творчества Джейн Остин придают такое значение личности Тома Лефроя, заключается в том, что самые ранние из дошедших до нас писем Джейн связаны с его появлением в Хэмпшире. Кассандра тогда гостила у своих будущих свойственников Фаулов и жаждала быть в курсе всех стивентонских сплетен. В первых же строках первого из сохранившихся писем — от 9 января 1796 года — Джейн поздравляет сестру с двадцатитрехлетием и желает ей прожить еще двадцать три года. Странное пожелание, не так ли? Нет, не странное, если учесть, что обе сестры понимали: как только Кассандра выйдет замуж, над ней нависнет опасность умереть в родах. Дальше, уже во второй фразе, упоминается Том Лефрой — джентльмен, занимавший тогда мысли Джейн.
Итак, Джейн пишет Кассандре: "Вчера у нас был чрезвычайно удачный бал… Я прямо-таки боюсь рассказывать тебе, что мы с моим ирландским другом [то есть с мистером Лефроем] вытворяли". Действительно, на балу молодые люди порой вели себя довольно необузданно; в другом письме Джейн признается: "Вчера я перепила вина… Не знаю, как иначе объяснить, почему сегодня у меня дрожит рука".
В этих письмах Джейн предстает перед нами уверенной хищницей, похожей на героинь ее ранних рассказов. После трех балов, заявляет она, они с мистером Лефроем "сошлись накоротке". На самом деле окружающие видели, что она за ним охотится. Джейн навестила его в доме мадам Лефрой и сообщает, что он "сбежал", — ему показалось, что над ним смеются. И правда, все героини Джейн, привлекающие к себе внимание сексуальных мужчин, — Марианна Дэшвуд, Лидия Беннет, Мария Бертрам и особенно "золотоискательница" миссис Клэй из "Доводов рассудка" — прекрасно знали, чего добиваются. Они категорически не соглашались с мнением Сэмюэла Ричардсона, считавшего, что преследование юноши девушкой — "ересь, которой должно противиться из благоразумия и простой осторожности". Джейн, разумеется, считала это чушью. В "Нортенгерском аббатстве" ее Кэтрин Морланд и не думает скрывать, что влюблена в молодого человека, не отвечающего ей взаимностью.
Эта хищная самоуверенность — еще одна особенность характера Джейн, которую тщились скрыть ее благочестивые родственники. "Я могу засвидетельствовать, — писал впоследствии ее племянник, — что в самых прелестных из ее героинь вряд ли отыщется черта, которая не была бы прямым отражением ее собственного мягкого нрава и любящего сердца". Мягкий нрав, любящее сердце? С последним трудно не согласиться, свидетельством чему ее письма, но вот что касается первого… Не верится, что Джеймс Эдвард Остин-Ли одобрил бы поведение юной леди, в 1796 году позволявшей себе на балу "танцевать в самой скандальной манере и садиться рядом" с Томом Лефроем.
После трех балов у Джейн и Тома оставалась последняя возможность вместе показаться в обществе. "Я смогу блеснуть… еще один только раз, — пишет она Кассандре, — потому что после пятницы, когда мы должны танцевать в Эше, он от нас уезжает". В более серьезном тоне она сообщает сестре, что Том "очень галантный, красивый, приятный молодой человек".
Нервозную атмосферу накануне этого последнего бала еще больше накалил визит самого героя в стивентонский пасторат. "После того как я это написала, — сообщала Джейн в подробном отчете сестре, — нас посетил Том Лефрой… В нем был единственный изъян — чересчур светлый утренний сюртук". Чем же так неуместен, удивится читатель, светлый утренний сюртук? Каждой девушке знаком типаж бойфренда, требующего "доработки": прекрасные задатки, но совершенно не умеет одеваться. Модным цветом сюртуков был не белый, а синий, как у героя "Страданий юного Вертера" (1774); Лидия в "Гордости и предубеждении" мечтает увидеть мистера Уикхема в синем мундире. Джейн хочется верить, что мистер Лефрой, большой поклонник "Тома Джонса"[33], надел белый сюртук в подражание герою романа, тоже носившему светлое. Ей не понравился сюртук Тома Лефроя, зато понравилось, что они читали и могли обсуждать одни и те же книги. День бала в Эше приближается. "Я жду его с великим нетерпением, — исповедуется Джейн сестре, — так как почти уверена, что этим вечером мой друг сделает мне предложение". О! Настоящий роман! Неужели дело идет к развязке?
Однако продолжение письма Джейн опускает нас с небес на землю, лишний раз подтверждая, что она, как всегда, не воспринимает происходящее всерьез. "Я ему откажу, — обещает она, — если он не поклянется, что выбросит свой белый сюртук". Что это, просто болтовня? Или нечто большее? "Вот и настал этот день, — вздыхает она. — Сегодня я в последний раз буду флиртовать с Томом. Когда ты получишь мое письмо, все будет кончено. От этой грустной мысли у меня слезы ручьем бегут на бумагу".
В тот день они танцевали в Эше, но никакого предложения Джейн не получила. Ее слова о "бегущих ручьем слезах" впоследствии толковали как свидетельство разбитого сердца, но фокус в том, что Джейн — по своему обыкновению — шутила. Она одновременно могла выступать в нескольких разных ролях. С одной стороны, кокетничала с Чарльзом Фаулом, братом Тома, жениха Кассандры. С другой — всю жизнь играла перед Кассандрой неотразимую соблазнительницу, преследуемую толпой воздыхателей. Вот только один пример. Она пишет, что, находясь в гостях у хэмпширской соседки, "в течение десяти минут была заперта в гостиной наедине с мистером Холдером. Меня подмывало настоять на том, чтобы послали за экономкой, но ничто не могло заставить меня отступить на два шага от двери, ручку которой я неотрывно сжимала".
Только абсолютно уверенная в себе женщина может так шутить. Придет время, и Джейн в том же ерническом духе будет рассуждать о своем намерении отдать руку и сердце местному священнику мистеру Папиллону за его прекрасные проповеди или поэту Джорджу Крэббу[34] за его прекрасные стихи. И когда в один прекрасный день ее помыслами завладеет военный, капитан Пейзли из Корпуса королевских инженеров ("первый солдат, по которому я вздыхаю"), то это произойдет не потому, что она с ним танцевала, а потому, что ей понравилась его книга "Военная политика и институты Британской империи" (1810).
В числе нотных тетрадей, переписанных рукой Джейн и хранящихся в доме-музее Джейн Остин, есть одна, с песней "Ирландцу нет равных в любви". Можно подумать, что Джейн переписывала ноты песни, с тоской вспоминая Тома. Но при ближайшем рассмотрении мы понимаем, что перед нами — чистой воды фарс. Автор песни сравнивает любовные достоинства турок, французов, испанцев и итальянцев с аналогичными талантами ирландцев — в пользу последних. Мелодия забирается все выше и выше, становясь доступной для исполнения только тенором-буффо, для которого и была написана. Иначе говоря, это шутка.
Так что слова Джейн о бегущих ручьем слезах не следует понимать буквально. Она изображала одну из героинь сентиментальных романов, которых искренне ненавидела. "Я не верю, — писала Джейн, — что разочарования такого рода способны убивать". И действительно, вскоре она скажет о Томе Лефрое, что "не ставит его ни в грош".
Теперь, если мы хотим получить подтверждение того, что этот романический эпизод — не просто шалость, пора обратиться к самому Тому. И здесь нас ждет неожиданное открытие. Джейн и правда бегала за ним, приводя его в смущение, но флирт, шутки и суматоха ему, безусловно, нравились. По мнению его потомков, он отличался "исключительной стеснительностью". Но впоследствии Том Лефрой признавался, что влюбился в Джейн "мальчишеской любовью". Пусть "мальчишеской", но все же "любовью".
Тогда почему же в ту ночь в Эше он не сделал Джейн предложения, которого она ждала (всерьез или не всерьез)? Почему назавтра он уехал?
Судя по семейной переписке, отъезд Тома Лефроя не был случайным. Его подстроили, чтобы разорвать вспыхнувшую привязанность. "Как это ни прискорбно, — свидетельствует источник, — но миссис Лефрой отослала джентльмена домой, чтобы не случилось беды". На Томе лежала ответственность за братьев и сестер, и он не мог позволить себе жениться на бесприданнице. Согласно тому же источнику, дело не дошло до предложения руки и сердца: "Обручения не было и быть не могло".
Но в "Доводах рассудка", самом романтическом из романов Джейн, молодые влюбленные, расставшиеся по "мудрому" совету старшей подруги героини, неожиданно получают шанс воссоединиться и уже его не упускают. Очень соблазнительно верить, что история Тома и Джейн тоже имела продолжение.
Весной 1796 года в пасторате наверняка царило уныние. Танцевальный сезон окончился, и оба Тома остались в прошлом — Том Лефрой вернулся в Лондон, Том Фаул умер. Прошло еще несколько месяцев, и Остины решили, что пора воспрянуть духом и немного развеяться. Братья повезли Джейн в Лондон. "Здесь я снова окунулась в атмосферу распущенности и порока, — писала она Кассандре 23 августа, — и уже начинаю чувствовать, как нравственно разлагаюсь". Вместе с Фрэнком и Эдвардом Джейн наслаждалась городскими удовольствиями — ни намека на разбитое сердце. "Сегодняшний вечер мы проведем у Астлея, — сообщает она, имея в виду Амфитеатр Астлея[35] с его цирковым шоу, — чему я рада… Я должна прерваться, потому что мы выходим".
Историк Джон Спенс выстроил сверхэлегантный карточный домик, предположив, что Джейн отправилась в Лондон в надежде — еще не угасшей — вернуть себе Тома Лефроя. Ее слова о "распущенности и пороке" он трактует как признание в шашнях с Томом. Поразительное предположение. Двоюродный дед Тома Бенджамин Ланглуа жил на Корк-стрит — и этот адрес указан в письме Джейн. На Корк-стрит не было отелей, и Остины больше никого в том районе не знали. Спенс делает вывод, что они наверняка останавливались у дядюшки Бенджамина — в конце концов, Лефрои были им практически родственниками, — и что там, на Корк-стрит, Джейн опять встретилась с Томом.
К разочарованию тех, кому безумно хочется, чтобы Джейн, оказавшись под одной крышей с Томом Лефроем, провела-таки ночь страсти, уточним, что в Лондон она приезжала в августе. Судебные Инны[36] в это время не работали, и Том, скорее всего, уехал домой в Ирландию.
Но даже если согласиться, что Джейн отличалась "ветреностью", о Томе сказать этого было нельзя, доказательством чему — отзыв его наставника. "У вас не должно возникать ни малейших сомнений в безупречности его [Тома] поведения в Лондоне, как бы его ни искушали праздность и порочность этого города, — писал наставник. — Он как броней защищен своими религиозными принципами".
Судя по всему, Том Лефрой был оплотом добродетели и усердным студентом, и нам представляется маловероятным, что он лишил Джейн девственности. Дядюшка Бенджамин тоже считал его "добрым, умным и здравомыслящим". Кроме того, из переписки Тома с родными мы узнаем, что еще до приезда в Англию у него уже была сердечная привязанность. Речь идет о сестре его друга по Тринити-колледжу в Дублине мисс Мэри Пол, с которой он и обручился в 1797 году.
Вернувшись по окончании учебы в Дублин, способный и трудолюбивый молодой адвокат сумел громко заявить о себе. Всего через два года Том Лефрой написал книгу, опубликовав ее раньше, чем Джейн выпустила свой первый роман. Его "Практика взыскания задолженности по исполнительному листу" не стала бестселлером, но, по оценкам современников, это был "солидный" и "содержательный" труд.
Письма Тома к Мэри, ставшей его женой, тоже выдержаны в назидательном духе. Интересно, как она воспринимала его совет посвящать каждую свободную минуту чтению Библии и "поискам прибежища грехов". Интересно, как она относилась к мужу, твердившему ей, что земные привязанности "не должны служить ни опорой, ни надеждой, ни основанием жизни". Бедная Мэри — как ей не повезло! Ни одной женщине не понравится, если самый близкий человек заявит ей в лоб, что она ему не опора и не надежда. Зато повезло Джейн, спасшейся от этого высокопарного зануды пуританина. А еще больше повезло нам, потому что, стань она миссис Лефрой, производила бы на свет не книги, а детей.
Между тем время шло, и пора шуток для Джейн миновала. Том занимался карьерой, она топталась на месте. Спросить у мадам Лефрой о Томе ей, по ее собственному выражению, мешала гордость. В ноябре 1798 года у нее наконец появилась некоторая ясность. "В прошлую среду приезжала миссис Лефрой… О своем племяннике она не сказала ни слова. Гордость не позволила мне задавать ей вопросы, зато отец поинтересовался, как у него дела, и я узнала, что он принят в коллегию адвокатов и намерен заняться адвокатской практикой". Отцу Джейн хватило чуткости спросить гостью о том, что на самом деле волновало его дочь. Его не могло обмануть ее показное безразличие, за которым таилась боль, и он понимал, что Джейн боится быть заподозренной в том, что она все еще влюблена в Тома. Как бы то ни было, история с Томом Лефроем завершилась, оставив за собой шлейф неопределенности и сожалений. Но это еще не все. В том же письме от ноября 1798 года Джейн упоминает о другом молодом человеке — втором и, возможно, более серьезном претенденте на ее руку.
Это был преподобный Сэмюэл Блэколл из Кэмбриджа, "величественный великан", нагонявший ужас на некоторых маленьких девочек. Но перед его общительностью и дружелюбием маленькие девочки изменили свое мнение: "его добродушие прогнало наш естественный страх".
В 1798 году он писал миссис Лефрой, что с "особым удовольствием" познакомится с семьей Остин "в надежде удовлетворить свой непосредственный интерес". Речь явно шла о матримониальных намерениях. Он выражается совершенно как мистер Коллинз, который напрашивается на визит, настроенный жениться на одной из дочерей. Однако преподобному Сэмюэлу Блэколлу не хватило восхитительной напористости мистера Коллинза. Возможно, дело было в деньгах, возможно, в чем-то еще, но он пришел к выводу, что не готов обзавестись семьей: "В настоящий момент я никак не могу позволить себе ничего подобного".
Убедившись, что предложения от Блэколла не будет, Джейн, похоже, совсем не расстроилась. "Разумное решение, — говорит она. — Вопреки тому, что я о нем думала, он руководствуется не столько чувствами, сколько здравомыслием, и это вполне меня устраивает. Все само собой сойдет на нет, и это прекрасно". К тому времени Джейн уже набралась цинизма, которым проникнуты ее зрелые взгляды на мужчин и замужество. "Таким образом, — заключает она, — наше равнодушие наверняка вскорости станет взаимным". Абсолютно невозможно понять, что за этим стоит: гордость или остинское ехидство. Мадам Лефрой, разумеется, никак не прокомментировала поведение преподобного Блэколла; по словам Джейн, она уже достаточно наигралась в купидона в истории с Томом Лефроем: "Вероятно, она считает, что и так наболтала лишнего". Как ни странно, но о преподобном Блэколле мы еще услышим.
А что же Том Лефрой? Он преуспел в жизни — дослужился до поста верховного судьи Ирландии и пережил Джейн более чем на пятьдесят лет. По мере того как росла слава Джейн, к нему все чаще обращались с вопросами об их юношеском знакомстве. Даже в глубокой старости он иногда рассказывал о ней. Многие слышали его туманные рассуждения о том, что она была "создана для обожания" и что все, кто когда-либо ее знал, "не могли ее забыть". Но это публичная версия. К счастью, есть письма племянницы Джейн, которые открывают нам немного больше: оказывается, Том перед смертью вспоминал Джейн и "до последнего вздоха отзывался о ней как о предмете своего юношеского восхищения".
Итак, "ирландский друг" Джейн отнюдь не был дерзким и страстным возлюбленным. Не был он и идеальным спутником жизни, отнятым у нее жестокой судьбой. Том Лефрой был довольно безликим студентом-юристом, по воле семьи заключившим брак по расчету. В поле нашего зрения он попал случайно, задетый краешком славы, озаряющей имя Джейн Остин.
Но он был немножко влюблен; она тоже была в него немножко влюблена. Благодаря ему мы впервые увидели в Джейн живого человека и обнаружили, что даже в минуты слабости она не забывает о своей гордости.
12
"Первые впечатления"
В моем распоряжении находится рукописный роман в трех томах.
Джордж Остин — издателю Томасу Каделлу
Жизнь между балами и свадьбами текла своим чередом, и в новой гардеробной на верхнем этаже дома стивентонского священника строчка за строчкой рождался роман. Озаглавленный автором "Первые впечатления", он увидит свет под названием "Гордость и предубеждение".
В самой знаменитой книге Джейн нас восхищают не только чрезвычайно достоверные переживания выставляемых на "рынок" невест. На ее страницы проник и реальный эпизод с "захватом" гардеробной, в результате которого две сестры расширили женскую территорию пастората за счет исконно мужских владений. Нечто подобное происходит и в "Гордости и предубеждении", когда после свадьбы с мистером Коллинзом Шарлотта Лукас постепенно берет в свои руки управление домом и потихоньку добивается того, что один историк назвал "ненавязчиво агрессивным переделом пространства в хансфордском пасторате". Для дамских занятий Шарлотта специально выбирает тесную и наименее уютную комнату, чтобы у мужа пореже возникало искушение в нее заглядывать. Согласимся: весьма хитроумный способ выгородить себе территорию.
По свидетельству Кассандры, Джейн начала работу над "Первыми впечатлениями" в октябре 1796 года и закончила в августе 1797-го. Книга писалась очень быстро, если учесть, что в ней после авторских сокращений осталось 120 тысяч слов. Откуда Кассандре были известны точные даты? Клэр Томалин высказала разумное предположение: по всей вероятности, они были записаны в ныне утраченном дневнике Джейн. Следовательно, это был упорный ежедневный труд, труд человека, преследующего цель написать роман. Но прежде чем книга увидела свет, автору "Гордости и предубеждения" (как впоследствии и "Чувства и чувствительности") потребовались годы доработок, "изменений и сокращений".
Брат Джейн Генри называл романы Джейн, с их множеством набросков, сочинениями "медленного исполнения". Но "Гордость и предубеждение" создавался в первую очередь для "камерного исполнения" — как развлечение для семейного кружка. Роман — как, впрочем, и все произведения Джейн с их длинными театральными диалогами — прекрасно воспринимается на слух, а что еще было делать тихими деревенскими вечерами, как не читать вслух? Остины старались экономить свечи. Яркое освещение комнаты в темное время суток вызывало почти физическое ощущение того, что вы жжете деньги (отсюда выражение "игра не стоит свеч"). Остины, вероятно, предпочитали восковым свечам сальные или жировые. "Восковые свечи в классной комнате! Остальное пусть дорисует вам воображение!" — говорит героиня Джейн миссис Элтон о невероятно богатом доме. Так что, если не было гостей, домочадцы собиралась в одной комнате, скорее всего, зажигали пару свечей, кто-то читал, а остальные слушали. Маленькая Анна, племянница Джейн, присутствовала при этих семейных чтениях в динском пасторате: "Я находилась здесь же, в комнате, но никто не подозревал, что я внимательно слушаю". Правда, потом Анна слишком увлеченно комментировала услышанное, и "осторожности ради было решено больше ничего в моем присутствии вслух не читать. Мне рассказали об этом годы спустя, когда роман вышел из печати. Все думали, что имена персонажей воскресят в моей памяти то раннее впечатление".
В пасторате обожали романы Фрэнсис Берни, в том числе "Цецилию", подарившую "Гордости и предубеждению" главную сюжетную линию и название. Клэр Хармэн отмечает, что даже знаменитое начало "Гордости и предубеждения"[37] — это парафраз фразы Берни: "Всем устроителям брачных союзов известно, что шансы молодой леди, не имеющей приданого, убывают с каждым ее появлением в обществе". В "Гордости и предубеждении" мы окунаемся в мир чувств юной девушки, имеющей кучу сестер и не имеющей надежды на приличное приданое. Поразительно, но Джейн создавала первый вариант романа в возрасте своей героини (чем, кстати, можно объяснить доверчивость Лиззи Беннет), то есть в двадцать один год.
В ту пору, когда Джейн сочиняла "Первые впечатления", Хэмпшир кишел офицерами, похожими на тех, с которыми танцуют и кокетничают девицы Беннет. Начиная с 1794 года Джейн наверняка встречалась в Бейзингстоке с южными девонширцами, а также с сослуживцами своего брата Генри по оксфордширской милиции, временно стоявшей в Хэмпшире. Офицеры в романе Джейн сеют хаос, и тем же занимались их прототипы, оставляя за собой хвост невыплаченных долгов и последствий пьяных дебошей. В апреле 1795 года в городке Ньюхейвене на южном побережье вспыхнули беспорядки: милиция, в которой служил Генри Остин, взбунтовалась и в течение двух дней предавалась бесчинствам и мародерствовала. Двух зачинщиков потом расстреляли свои же товарищи, поставив коленями на гробы. Генри Остин присутствовал при этой ужасной казни.
Действие "Гордости и предубеждения" разворачивается на фоне войны, но, возможно, образ Лиззи Беннет — острой на язык, гордой и страдающей в любви — был подсказан Джейн иными невеселыми обстоятельствами, связанными с тем, что происходило внутри ее дома. После того как родичи Тома Лефроя "спасли" его от опрометчивого брака, в ее письма проникает острая нотка разочарования. "Я не хочу, чтобы люди были такими уж приятными, — писала она, — потому что это избавляет меня от необходимости их любить". Впрочем, вымышленные Элизабет и Джейн — в отличие от реальных Джейн и Кассандры — обрели свое счастье.
Что делала Джейн, закончив работу над "Первыми впечатлениями" ("Гордостью и предубеждением")? По словам Генри, "стойкое недоверие к собственным оценкам побуждало ее скрывать свои произведения от публики, пока время и многократные перечитывания не внушили ей мысль, что ее удовлетворение вызвано вовсе не восторгом от самого процесса творчества". Более того, он категорически отрицал, что Джейн двигали какие-либо меркантильные соображения: "Ни надежда на славу, ни расчет на выгоду не примешивались к ее мотивам".
Здесь Генри ошибался, по крайней мере частично. "Я пишу только для славы, — признавалась Джейн, — без всяких видов на материальное вознаграждение". Однако позже, когда она поняла, как трудно существовать без денег, ее отношение к "материальному вознаграждению" изменилось.
Практические действия по публикации сочинения Джейн предпринял не кто иной, как мистер Остин. Он прочитал достаточное количество романов, чтобы уже осенью 1797 года решить, что "Первые впечатления" достойны быть изданными. Он взял на себя роль литературного агента дочери; с ее согласия или без него — нам неизвестно.
1 ноября 1797 года он написал о "Первых впечатлениях" издателю Томасу Каделлу. Он интересовался, на какую сумму аванса может рассчитывать автор и во что обойдется публикация. Мистер Остин проявил щедрость, предложив, если книга будет плохо продаваться, возместить издателю убытки. С тем же рвением, с каким он обращался к адмиралам, пристраивая своих сыновей-моряков, мистер Остин бросился помогать своей младшей дочери.
Однако с работой литературного агента мистер Остин справился неважно. Он представил роман как трехтомный труд "объемом примерно с "Эвелину" мисс Берни". Ссылка на "Эвелину" была ошибкой: этой книгой зачитывались двадцать лет назад. Он также ни словом не упомянул о том, кто автор сочинения и чем оно так интересно. "Первые впечатления" были Каделлом отвергнуты, и письмо мистера Остина вернулось к нему с пометой: "Отказать".
Нам остается лишь надеяться, что он не посвятил Джейн в подробности своей инициативы. Для начинающего романиста отказ стал бы слишком жестоким ударом.
13
Годмершэм-парк
Я буду есть мороженое и пить французское вино, презирая вульгарную экономию.
Джейн о предстоящем визите в Годмершэм-парк
Такие имения, как Пемберли мистера Дарси, Розинг-парк леди Кэтрин и даже соседний Незерфилд-парк, были куда роскошнее, чем то, в котором росла Лиззи Беннет. Посещая их, она чувствовала себя чужой и необычайно остро ощущала свой статус (или его отсутствие). Она получила возможность лучше узнать себя; мы — наблюдать за разворачивающейся драмой.
Существует явная перекличка между датами создания первого варианта "Гордости и предубеждения" и визита Джейн летом 1796 года в богатый дом, живший на гораздо более широкую, чем в пасторате, ногу. Ее брат Эдвард после женитьбы поселился в Роулинге, в Кенте. Его ранг поднялся до джентри-землевладельца; ни о каком "псевдо" речь уже не шла. По имеющимся свидетельствам, Эдвард принял сестру с исключительной добротой и гостеприимством. Но едва вернувшись домой в Стивентон, Джейн засела за работу, и из-под ее пера родились образы надменных мистера Дарси и леди Кэтрин. Знакомство с новым миром Эдварда сопровождалось переоценкой ценностей; Мэрилин Батлер утверждает, что в "Гордости и предубеждении" нашло отражение "инстинктивное неприятие кентского высокомерия".
В августе 1798 года мистер и миссис Остин, Джейн и Кассандра снова отправились в гости к Эдварду, на сей раз в еще более просторный и богатый дом, чем Роулинг. Годмершэм, находившийся (и сейчас находящийся) примерно в восьми милях к юго-западу от Кентербери, — это величественный палладианский особняк. Всю последнюю милю пути по длинной подъездной аллее, проложенной через пейзажный парк, по которому бродили олени, среди деревьев мелькали его очертания. На выезде из рощи, "посреди восхитительной лужайки, перед вами появлялась усадьба".
Легко представить себе, как Джейн и ее семья после долгого путешествия из Хэмпшира подкатывают в экипаже к парадному входу, — "запыленные, возбужденные", готовые к развлечениям и вольготному житью. Эта сцена приводит на память весь костюмный гламур фильмов про Джейн Остин. По ним многие могут заключить, что Джейн только и делала, что танцевала на балах и пила чай в домах вроде Годмершэма. В действительности это был не ее мир. Джейн месяцами гостила в богатейших имениях, но ни в одном из них не жила по-настоящему. Она оставалась гостьей, зрительницей, судьей.
Визиты Джейн в большие дома научили ее сжато характеризовать архитектурные стили. Создается впечатление, что, попроси мы ее, она запросто начертила бы поэтажный план Мэнсфилд-парка или Пемберли. Но Джейн никогда не затрудняет себя подробным рассказом о точном расположении помещений. Она дает нам только действительно необходимое — несколько наиболее выразительных штрихов. Например, Нортенгерское аббатство — в прошлом настоящее аббатство, значительно перестроенное хозяином, — сохранило готические окна, но было оснащено современной отопительной системой. Напротив, Донуэллское аббатство оставлено в неприкосновенности в доказательство надежности и неприхотливости его владельца, мистера Найтли. Созертон — кирпичный дом в елизаветинском стиле, "тяжеловесный, но внушительный". Несмотря на все его благородство, владелец дома, глупый и помешанный на моде, убежден, что он похож "на самую что ни на есть мрачную тюрьму". Пемберли, "величественное каменное здание", датируется началом семнадцатого века, Апперкросс — его концом, временем правления Вильгельма и Марии. А вот усадьба Мэнсфилд-парк — образчик палладианского стиля восемнадцатого века, как и Годмершэм-парк.
Визит в Годмершэм-парк летом 1798 года был приурочен к переезду туда Эдварда. После смерти его приемного отца, мистера Найта, миссис Найт решила перебраться в Кентербери и в знак "любви и привязанности", как значилось в акте правовой передачи, отписать поместье Эдварду. Он, в свою очередь, обязывался обеспечивать ее годовым доходом в 2000 фунтов.
Это был щедрый дар, хотя, возможно, не столь щедрый, как кажется на первый взгляд, потому что на плечи Эдварда легло бремя управления имениями. Более того, если бы дела пошли плохо, ему пришлось бы доплачивать миссис Найт необходимую сумму из собственных средств. Она возложила на него обязанности главного землевладельца и распорядителя хозяйством. Но миссис Найт не ошиблась в выборе. Эдвард успешно справлялся с делами, а главное — это приносило ему удовольствие. Он был "больше "управляющим", чем это в обычае у владельцев крупного состояния, — считала племянница, — и занимался своими имениями с величайшей увлеченностью".
Годмершэм был возведен в 1732 году без участия архитектора. Южный фасад сложен из красного кирпича, довольно топорно отделанного камнем. Но северный фасад выглядит гораздо более претенциозно. В 1780 году мистер Найт пристроил два флигеля, в одном из которых расположилась библиотека, в другом — службы. Здесь потрудилась история. Каждое поколение оставило свою отметку. Унаследовать такое имение значило получить нечто гораздо большее, нежели сцементированные кирпичи, — вместе с ними Эдварду достался набор ценностей тори, в первую очередь феодальная идея, что к привилегиям прикладывается ответственность за тех, кто от тебя зависит.
За домом была лужайка с цветником; перед ним — плавная излучина речки Стур. Рядом высился холм с церковью на вершине. Такие места обычно включаются в туристические путеводители. В путеводителе, изданном в 1793 году, усадьба описывается как "современное сооружение, состоящее из центральной части и двух боковых крыльев, одно из которых, восточное, вмещает великолепнейшую библиотеку".
В этом доме жена Эдварда регулярно рожала мужу детей. Элизабет Остин, урожденная Бриджес, которую учили в школе изящно выпархивать из экипажа, была "очень красивой женщиной, хорошо образованной, хотя, по-моему, не слишком больших талантов. Вкусы у нее были приземленные". Этот слегка презрительный отзыв исходит от одной из хэмпширских свойственниц Элизабет — больше интересующихся интеллектуальными занятиями, чем светской жизнью. Многочисленная родня Элизабет помогала поддерживать в Годмершэм-парке обстановку постоянного оживления. У нее был брат, Эдвард, который влюбился в Джейн, сделал ей предложение и получил отказ. "Надеюсь, ты сможешь принять приглашение леди Бриджес, — писала Джейн Кассандре, — хотя я принять предложение ее сына Эдварда не смогла". Он пытался ухаживать за Кассандрой, но, и здесь потерпев неудачу, в конце концов обратил свой взор на другую девушку.
В отличие от Джейн и Кассандры обитатели Годмершэма не испытывали ни малейших сомнений относительно своего высокого положения в обществе. От них за милю веяло самоуверенностью. Старшая дочь Эдварда Фанни так описывала свое детство: "Я росла в окружении многочисленных братьев и сестер, рожденных нежиться в тепле и ласке, которыми нас окружали любящие и состоятельные родители". Но не все представители младшего поколения семейства Остин воспринимали Годмершэм с таким же энтузиазмом. Дети Джеймса Остина, человека далеко не богатого, навещали Годмершэм редко и чувствовали себя там не в своей тарелке. Каролина, дочь Джеймса и его второй жены Мэри, вспоминала о своем пребывании у дядюшки в выражениях, которыми вполне могла бы воспользоваться героиня "Мэнсфилд-парка" Фанни Прайс: "Не думаю, что я была очень уж счастлива в этом чужом доме. Помню, в коридоре была выставлена модель корабля… Помню длинную аллею высоких деревьев и сновавших в траве кроликов, которых разводили мои кузены. Мне говорили, что это липовая аллея". По мнению родственников, Каролина была не такая "своевольная и капризная", как ее годмершэмские кузены. Вообще у многих, кто испытал на себе веселое гостеприимство Эдварда и его семьи, оставался на душе слегка неприятный осадок.
Но Джейн получала огромное удовольствие от момента встречи с родственниками. Племянницы Фанни и Лиззи "выбежали к нам в вестибюль с искренней радостью", — вспоминала она о другом визите, когда приезжала в Годмершэм уже без Кассандры. В этом вестибюле с черно-белым плиточным полом до сих пор сохранилась легкая светлая лепнина. Слева и справа располагались двери в гостиную и столовую, а прямо напротив входа — лестница. В тот раз Джейн повезло — ее поселили в роскошной желтой комнате: "Мне непривычно иметь в собственном распоряжении такое огромное помещение". В тот же вечер она распаковала свой дорожный сундук. Обычно наутро следующего дня, после завтрака, она вручала хозяевам подарок. Однажды Джейн преподнесла им коврик ручной работы, "принятый с великой благодарностью". Именно такого подношения, стоившего не многих гиней, а многих часов труда, ждали богатые родственники от незамужних сестер Остин.
День " la Годмершэм", как называла его Джейн, начинался медленно. "Пробило десять; пора спускаться к завтраку", — писала она. Затем, если удавалось, Джейн возвращалась в свою роскошную большую комнату. "Мне очень нравится мое жилище, — рассказывала она Кассандре, — и я всегда провожу здесь два-три часа после завтрака". Иногда Джейн приглашала к себе любимых племянниц. "Когда к нам в Годмершэм приезжала тетя Джейн, — вспоминала одна из тех, кто не был удостоен такого приглашения, — она привозила с собой рукопись романа, над которым тогда работала, и запиралась с моими старшими сестрами в своей спальне, чтобы читать им вслух". Эта племянница, Марианна, чувствовала себя обделенной. "Мы, младшие, слышали доносившиеся из-за двери взрывы хохота, и нам казалось ужасно обидным, что нас не допускают к общему веселью".
Семейство любило собираться в библиотеке. Летом, если на улице было тепло, туда подавали завтрак; если наступало похолодание, разжигали камин. Днем, когда все расходились по своим делам, Джейн оставалась в библиотеке, наслаждаясь "теплом и блаженным одиночеством". Для нее было настоящим счастьем — сидеть там в тишине, склонившись над книгой. "Я не успела проголодаться, — писала она, — но мистер Джонкок [дворецкий] принес мне поднос, так что придется поесть… Сейчас в моем полном владении пять столов, двадцать восемь стульев и два зажженных камина". Стол для бильярда находился в другом помещении, что очень устраивало Джейн: "Он притягивает к себе всех присутствующих в доме джентльменов, особенно после обеда". Это означало, что в библиотеке царила "восхитительная тишина".
Собрание книг было здесь гораздо богаче, чем в доме мистера Остина. Сохранился рукописный документ, на котором золотыми буквами вытиснено: "КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ ГОДМЕРШЭМ-ПАРКА". Судя по нему, у Джейн был огромный выбор — от "Писем перуанской принцессы" Франсуазы д’Иссембург д’Аппонкур де Граффиньи до обожаемых ею романов Ричардсона. Некоторые книги, пользовавшиеся особой любовью домочадцев, фигурировали в каталоге с пометой: "Перенесено в гостиную". Разумеется, к их числу относились все шесть романов Джейн. Но вкусы кентской части семьи не всегда совпадали с вкусами хэмпширских Остинов. Так, леди Бриджес, теща Эдварда, считала книжки мисс Эджуорт "донельзя глупыми".
Но за пределами библиотеки жизнь в Годмершэме, по мнению Джейн, была невыносимо беспокойной. От образцового гостя ждали исполнения множества обязанностей, в том числе участия в бесконечных разговорах. "В этом доме слишком много мелкой суеты, — сетовала она, — постоянно кто-то приезжает, а кто-то уезжает". Она писала это в то самое утро, когда в Годмершэм пожаловал очередной неожиданный гость.
Джейн добровольно вызвалась помогать Элизабет в занятиях с ее многочисленным выводком и немало времени уделяла обучению младших девочек чтению. Братья и невестки все больше использовали ее как бесплатную няньку; это казалось очевидным — что еще делать незамужней тетушке? Она бегала взапуски с племянниками Джорджем и Генри и играла в воланы с их младшим братом Уильямом: "Мы часто выдерживали три тура, а раз или два — шесть". Кроме того, она мастерски играла в бирюльки, что требовало незаурядной ловкости. Сохранилось два набора изящных, словно бы кукольных костяных бирюлек, принадлежавших Джейн. Она очень дорожила этими наборами, называя их "ценным подарком от семьи Найт семье Остин".
Роль тетушки не всегда радовала Джейн. Она предвидела, что хорошенький мальчуган неизбежно превратится в "неуправляемого неуклюжего верзилу". В "Чувстве и чувствительности" она вывела балованных отпрысков леди Мидлтон, которые издеваются над молодыми барышнями, вынужденными молча терпеть, "как развязываются их шарфы, как растрепываются их локоны, как обыскиваются их рабочие шкатулки и похищаются их ножички и ножницы". Чем не малолетние преступники в поисках оружия? Сторонница строгого воспитания, Джейн писала об одном внучатом племяннике: "Ужасно не дисциплинирован. Надеюсь, он получит парочку увесистых шлепков". По ее мнению, вся эта новая свобода в духе Руссо превращала детей в чудовищ.
От годмершэмских детей не укрылось, что Джейн втайне считает их испорченными. "Обычно из двух сестер, — писала ее племянница Анна, — дети предпочитали тетю Джейн, но к младшему поколению Годмершэма это не относилось". Она нравилась племянникам "как подруга по играм и рассказчица историй, но они никогда ее не любили. Я думаю, ее не любила их мать". Анна полагала, что причина этой нелюбви крылась в том, что Джейн внушала бойким обитателям Годмершэма, ценившим спортивные достижения выше ума, чувство неполноценности. "Любой мелкий талант вызывал у них восторг, но признать большой они были не в состоянии".
Из этого правила было одно исключение. Джейн по-настоящему сблизилась со своей старшей племянницей Фанни. "Я желаю моей дорогой Фанни счастливого дня рождения, — писала она в Годмершэм. — Пусть каждое повторение этого дня приносит ей столько же удовольствия, сколько сейчас она получает от кукольных кроваток". Джейн говорила, что Фанни "точно ей по сердцу". Сделавшись практически второй матерью своим десяти младшим братьям и сестрам, Фанни быстро повзрослела и еще теснее сдружилась с тетушкой. "Ты несравненна, неотразима, — писала ей как-то Джейн, — ты радость моей жизни". Они вместе устраивали всякие проказы, например разыгрывали из себя служанок гостя-мужчины, исправляя "ошибку в приготовлениях [настоящей] прислуги". "Видела бы ты нас с Фанни, — писала Джейн, — бегающих взад-вперед с его панталонами и трепещущих от страха, как бы он не застал нас, прежде чем мы все закончим".
Если Джейн предпочитала наслаждаться "в тишине и уюте" библиотекой, то джентльмены Годмершэма и их гости проводили время на охоте или ездили осматривать ферму, например проверить, как идет отлов рыбы в пруду. Семейное процветание зиждилось на сельском хозяйстве, да и Эдвард был сыном фермеров. Родители всегда интересовались его делами: "Мама хочет знать, построил ли Эдвард курятник, как собирался"; "Отец рад, что у Эдварда такие хорошие свиньи". Сам мистер Остин был таким же увлеченным свиноводом, как его современник преподобный Вудфорд[38], имевший однажды неосторожность дать своим свиньям немного пива, после чего они "так сильно опьянели, что не могли встать и лежали как мертвые". Однако чужим хрюшкам рассчитывать на благосклонность Эдварда не приходилось. Он жаловался в местной газете, что "стада свиней, которых выгоняют кормиться желудями, наносят его лесам непоправимый урон". Если подобное повторится, предупреждал Эдвард, хозяева свиней "будут привлечены к суду за нарушение границ частного владения".
Располагая огромным домом, Эдвард мог оказывать гостеприимство своим братьям, сестрам и их детям, и делал это охотно. Но у каждого члена семьи Остин был свой распорядок визитов. Фрэнк и Чарльз приезжали, когда позволяла морская служба; так, в 1806 году Фрэнк провел в Годмершэме свой медовый месяц. Генри заглядывал ненадолго — на праздники, например на Богоявление, иногда — на осеннюю охоту. Элиза, которая недолюбливала лошадей, была здесь более редкой гостьей. Джеймс навещал Годмершэм всего дважды. А вот Джейн и Кассандра гостили у брата подолгу, хотя Кассандра приезжала чаще. Возможно, Джейн и Джеймс, часто устраивавшие взаимную пикировку, но во многом похожие, были слишком горды, чтобы терпеть положение бедных родственников. "Кент — исключительное место для счастья, — с иронией писала Джейн, — там все богаты".
Но нет худа без добра, и она, конечно же, наслаждалась роскошью богатого дома. Обедали в Годмершэме поздно — в шесть часов, а не в половине четвертого, как в пасторате. "Я буду есть мороженое, пить французское вино, — делилась она планами очередного визита, — и презиать вульгарную экономию". Кроме того, Джейн регулярно получала финансовую помощь от старой миссис Найт: "Ее щедрый дар заметно облегчит мне жизнь". Однако, лакомясь мороженым и "оранжевым вином", Джейн никогда не забывала о радостях родного дома, которых ей так не хватало в Годмершэме: "дружбе, откровенном разговоре, сходстве вкусов и мнений".
Спустя годы Фанни, любимая племянница, предала свою тетю Джейн, предприняв попытку переписать — с отвратительным снобизмом — прошлое. Она утверждала, что без усилий миссис Найт Джейн никогда не стала бы леди, которую не стыдно принимать в приличном обществе. "Тетя Джейн, — рассуждала Фанни, — была достаточно умна, чтобы избавиться от налета "простоты" (если можно так выразиться) и научиться некоторой изысканности". "Если бы не папина женитьба, которая привела их в Кент, — продолжала Фанни, — Джейн и Кассандра, при всем их уме и приятном характере, никогда не поднялись бы до хорошего общества и не усвоили его обычаев".
Так могла бы написать одна из сестер мистера Бингли. Нельзя не заметить, что Годмершэм-парк очень похож на величественный, но неприветливый палладианский особняк Мэнсфилд-парка, поражающий богатством, но не теплотой человеческих отношений.
В Годмершэм-парке жили не только Эдвард, Элизабет и их дети. Здесь также обитали "гувернантка и 19 слуг", и с некоторыми из них Джейн подружилась.
"Безупречный слуга" рекомендовал джентльмену с достатком Эдварда держать восемь слуг женского пола и восемь мужского: кухарку, камеристку, двух горничных, няню, няню-горничную, судомойку и прачку; дворецкого, камердинера, кучера, двух конюхов, ливрейного лакея и двух садовников. Кроме того, Эдварду требовалась гувернантка для его многочисленных отпрысков и еще двое слуг. Всем этим людям он предоставлял стол и кров и платил жалованье. Мужчинам также полагалась "кружка, а женщинам — стакан пива в день, не считая того, что подавали к столу".
Вся эта армия слуг приводила Джейн в замешательство, потому что она не могла оделять их чаевыми, которых они от нее ждали. "Не знаю, как быть, — признавалась она Кассандре. — Дать Ричис [горничной] при отъезде пол-гинеи или хватит пяти шиллингов?" Однажды, чувствуя себя "нищей", она смущенно вручила няне-горничной Сюзанне Сэкри десять шиллингов. Сэкри, также известная как Кекси, ухаживала за детьми столько лет, что стала почти членом семьи. Впрочем, слуги знали о безденежье Джейн и прощали ей скудные чаевые. И мистер Холл, приходящий парикмахер, причесывал Элизабет за 5 шиллингов, а с Джейн и Кассандры брал только половину этой суммы. "Он уважает либо нашу молодость, либо нашу бедность", — писала Джейн.
Джейн считала, что мистеру Холлу повезло с работой в Годмершэме. Он не только укладывал дамам волосы, но имел также удовольствие общаться с домоправительницей миссис Сэлкилд и с камеристкой миссис Сейс, племянницей няни-горничной миссис Сэкри. Миссис Сэлкилд занимала в доме почетное положение, о чем говорит уважительное "миссис", с которым к ней обращались. Она несла финансовую ответственность за покупку провизии и оплату счетов. Семья Джейн из-за недостатка средств не могла позволить себе нанять домоправительницу, и образы ее вымышленных экономок — миссис Уитикер в Созертоне, миссис Хилл в Лонгборне, миссис Ходжес в Доуэллском аббатстве и миссис Рейнольдс в Пемберли — скорее всего, были ей подсказаны реально существовавшими миссис Сэлкилд и сменившей ее миссис Драйвер. В Годмершэме также служили конюх Ричард Кеннет и прачка миссис Кеннет.
Джейн к каждому из них относилась внимательно. Как и ее Лиззи Беннет, она считала, что мнения "умной прислуги" о характере того или иного человека очень ценны и к ним имеет смысл прислушиваться. Она годами, даже после того как годмершэмские дети выросли, переписывалась с Сюзанной Сэкри. Сюзанна так и не вышла замуж и жила в Годмершэме, продолжая "пестовать и развлекать детей своих питомцев, пока не умерла в 1851 году почти в девяносто лет". Она закончила жизнь в статусе семейной драгоценности, как и старая няня Сара из "Доводов рассудка", — единственный человек в владениях Масгроувов, кто волновался о судьбе бедной Луизы. Сюзанна прекрасно заботилась о детях, но не следует думать, что годмершэмский дом был строго разделен на "хозяйскую" половину и половину "слуг" или что родная мать пренебрегала своими обязанностями. Исследовательница Джоан Бейли подчеркивает, что георгианцы верили в "дом как единую семью", а значит, все, кто делил между собой кров, — и хозяева, и слуги — в равной степени опекали младших.
В этой структуре большого "дома-семьи" у Джейн, как у тетушки, было свое место. Именно в Годмершэме, на той ступени социальной лестницы, которая почти совпадала с ее собственной, Джейн нашла настоящего друга. Гувернантка Энн Шарп работала в доме с 1804 по 1806 год. Раньше мальчиков из благородных семейств воспитывали гувернеры, но после 1770-х появились и гувернантки. "Безупречный слуга" советует нанимать гувернантку "с такими манерами, чтобы никогда не приходилось извиняться за ее присутствие на семейных сборищах". Но, деля жизнь семьи, гувернантка не становилась членом семьи. "Вечерами я сижу одна в классной комнате, — жаловалась георгианская гувернантка Нелли Уитон. — В доме мне не с кем общаться на равных, а за пределами дома я никого не знаю". Мэри Уолстонкрафттак высказывалась о положении гувернантки: "Она стоит выше слуг, но они принимают ее за наушницу. Ей нигде нет ровни, она лишена чьего-либо доверия".
Джейн быстро нашла общий язык с мисс Шарп. Добродушная, "хорошенькая, но не ослепительная красавица", она не отличалась строгостью. Фанни вспоминает день, когда уроки были отменены и вся семья "играла в школу… Тетя Кассандра изображала миссис Тичум, тетя Джейн — гувернантку"[39]. "Мы получили массу удовольствия, — сообщает Фанни, — и миску взбитых сливок под вечер". Но мисс Шарп не блистала здоровьем, и ей пришлось оставить место гувернантки. Вскоре она открыла школу для девочек в Ливерпуле. Когда мисс Шарп покинула Годмершэм, ее ученица Фанни, к тому времени уже называвшая мисс Шарп "Энни", писала, что они "расставались с грустью". Однако прошло совсем немного времени, и молодое поколение племянников и племянниц Джейн уже с барским высокомерием отзывалось о мисс Шарп как "о вечно взвинченной, но довольно занятной особе".
Джейн Фэрфакс в "Эмме" с укором говорит о "торговле гувернантками", уподобляя ее работорговле. В романе она олицетворяет добродетель, достоинство и страдание. Воспитанная теткой и бабкой, она одним своим присутствием облагораживает гостиные тех, кто выше ее по социальному статусу. Джейн Фэрфакс не зря любила бродить "по лугам на порядочном расстоянии от Хайбери" — она чувствовала себя чужой в принимавшем ее обществе. Возможно, Джейн и мисс Шарп тоже ощущали в Годмершэме свою чужеродность.
Джейн было всего двадцать с небольшим, а вокруг лежал огромный, манящий к себе мир. Существовало множество других мест, где ей хотелось побывать.
14
Вдали от дома
Этим вечером вы вступите в свет, где вам суждено узнать немало замечательного.
Ювенилия[40]
Если цель молодой леди заключалась в том, чтобы выйти замуж и нарожать детей, то самым воодушевляющим моментом ее жизни было вступление в общество взрослых. Тогда это называлось "первым выходом в свет" — в мир мужчин. Юная и свежая, дебютантка, которую только начали "вывозить", обладала наивысшей ценностью на брачном рынке, однако со временем эта ценность уменьшалась. Поэтому родители должны были тщательно руководить "выходом в свет" девушки, то есть ее "выездами".
Мистер и миссис Остин, разумеется, волновались, понимая, что Джейн следует бывать в обществе и знакомиться с подходящими молодыми людьми. Вот почему в ранней юности и вплоть до двадцати с небольшим лет ее часто отсылали из родного дома — не только в Годмершэм, но и в Саутгемптон, и в Глостершир, а также, конечно, в город, с которым сегодня мы чаще всего связываем ее имя: в Бат. Все это было частью процесса вступления в свет.
Эти визиты отнюдь не являлись делом личного выбора Джейн: ей говорили, куда отправиться и как долго там оставаться. Так для нее начался период, когда ее, словно почтовую посылку, передавали от одного родственника к другому. В сущности, он продолжался до конца ее жизни. Но впервые покинув пределы родного Хэмпшира, девушка наверняка была полна восторженных ожиданий.
Путешествие в экипаже (именно так Джейн совершала свои поездки в 1790-е годы) подразумевало движение со скоростью около семи миль в час, с остановками на постоялых дворах. Преодоление семи миль за час считалось хорошей скоростью. Можно было двигаться быстрее, отказавшись от собственного экипажа и наняв почтовую карету (легкий дилижанс, обычно выкрашенный в канареечно-желтый цвет, который использовали для доставки почты): это позволяло на каждой станции, то есть каждые 10–15 миль, нанимать свежую пару лошадей.
Владение собственным экипажем (некоторое время мистер Остин мог этим похвастаться) было тогда сродни современному обладанию автомобилем. Наем почтовой кареты можно сравнить с вызовом такси, а путешествие в многоместном дилижансе — с поездкой на автобусе. Семейство Джейн запрещало ей ездить в таком дилижансе из соображений приличия и безопасности. Но она лелеяла безумные мечты о побеге, воображая, как они с подругой подбегут к наемной карете, распахнут обе дверцы и улягутся на пол, "чтобы наши головы выглядывали из одной двери, а ноги — из противоположной". Она дразнила семью, угрожая, что поедет в Лондон одна — "погулять меж госпиталей, заглянуть в Темпл или приблизиться к конным стражам Сент-Джеймсского дворца". Но ей — по крайней мере, в юности — всякий раз приходилось дожидаться, пока кто-то из родственников мужского пола соблаговолит сопроводить ее в такой поездке. "Несмотря на то что у меня имеется собственный саквояж, я вынуждена покоряться обстоятельствам", — вздыхала она.
Незадолго до дебютного турне Джейн всю Англию пересекли новые дороги, существенно сократившие время поездок. Называлась такая дорога "turnpike"[41]. Изначально turnpike представлял собой заставу — барьер из ряда пик (pikes) или копий, воткнутых в дорожное полотно древком вниз, но во времена Джейн этот термин обозначал шоссе с пунктами сбора пошлины, шедшей на улучшение и ремонт дороги. В период Наполеоновских войн сеть дорог в Хэмпшире расширялась стремительнее, чем в любой другой области страны: требовалось как можно быстрее доставлять войска на южное побережье, уязвимое для неприятельских атак, и так же быстро отводить их вглубь страны. Подобные шоссе искушали путешественников мчаться слишком быстро, и власти ввели целую систему финансовых наказаний: возниц, застигнутых за тем, что они "неистово погоняют лошадей", обязали выплачивать 10 фунтов штрафа. Разогнавшиеся экипажи могли перевернуться: такое происшествие служит завязкой действия в неоконченном романе Джейн "Сэндитон". Еще опаснее экипажей были высокие, легкие кабриолеты-двуколки, управляемые молодыми людьми. Кэтрин Морланд в "Нортенгерском аббатстве" соглашается сесть в такую коляску потому, что она слишком юна и неопытна, а потому не желает признавать, что ей страшно.
Путешествия — даже по родному Хэмпширу — таили и другие угрозы. В 1793 году миссис Мэри Брэмстон, соседка Остинов, возвращаясь после чаепития у мадам Лефрой домой, стала жертвой разбойника. Негодяй объявил, что "вышибет мне мозги, если я не отдам ему деньги, — вспоминала миссис Брэмстон, — так что теперь я шарахаюсь даже от собственной тени". Злодей (который внешне, вероятно, отчасти походил на Адама Анта[42]) щеголял "в длинной крестьянской блузе, с платком или креповой повязкой, прикрывающей лицо, и с пистолетами" — и охотился за деньгами и часами своих жертв, а также за "серьгами с их ушей".
Долгие путешествия (скажем, из Годмершэма в Стивентон) совершали с ночевкой на постоялом дворе. Однажды по пути домой из Кента Остины заночевали в дартфордском "Быке и Джордже", в "апартаментах, до которых приходилось добираться по двум парам лестничных пролетов". Нет никаких сомнений, что, прежде чем согласиться на ночлег в этих комнатах, они проверили состояние постелей. "Ничто так не страшит путешественников, как сырая постель", — писал Уильям Бьюкен в своей "Домашней медицине" (1794). Мадам Лефрой рекомендовала помещать между гостиничными простынями стеклянный бокал и следить, не появятся ли на нем следы влаги: "Если стекло остается совершенно чистым, значит, постель суха".
На постоялых дворах часто царило особого рода оживление: то и дело кто-то приезжал, а кто-то уезжал. Джейн писала из "Быка и Джорджа": "Мы пробыли здесь всего четверть часа, когда вдруг обнаружилось, что мой ящик с письменными принадлежностями и чемодан с платьем по ошибке уложили в дилижанс, который отбыл вскоре после нашего приезда, и теперь эти вещи направляются в Грейвсенд, а далее — в Вест-Индию". О, ужас! Там содержалось все ее "земное имущество" — то есть, по всей вероятности, не только немногочисленные и недорогие ювелирные украшения, но и ее рукописи. В свое время она писала о "сокровищах, таящихся в ящике моего письменного стола". Заботиться о черновиках своих романов, стараться уберечь их от сырости, пожара, небрежения — это была, прямо скажем, задача непростая. Между прочим, одно из злодеяний генерала Тилни в "Нортенгерском аббатстве" состоит в том, что он, желая освободить побольше места в переполненном экипаже, намеревается выкинуть новый письменный прибор Кэтрин Морланд, который "ей лишь с трудом удалось спасти… от того, чтобы его не вышвырнули на панель".






