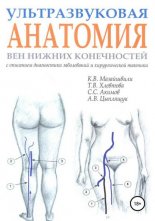Безмолвие Харт Джон
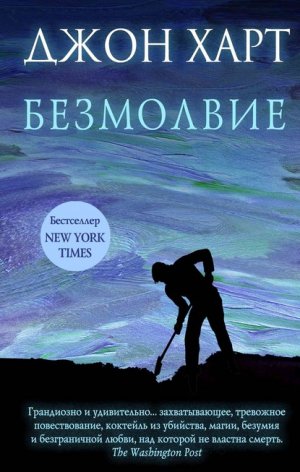
— Бойд — лжец.
— Почему ты постоянно повторяешь это?
— Его дед рос не в Иллинойсе. Рэндольф Бойд родился здесь и прожил в округе Рейвен до самой смерти. Он погиб в двадцать один год, на Второй мировой войне. Семейная история изложена в досье.
Джек кивком указал на папку, но Лесли не стала проверять.
— Ты имеешь в виду мальчишку, который застрелил лося в тридцать первом? Да кому какое дело? Мы все лжем. Господи, Кросс…
Она была права. Джек сам говорил неправду при необходимости, но на чувства это никак не влияло.
— Бойд сказал, что приехал сюда, потому что здесь дешевая земля и сюда легко прилететь из Нью-Йорка. Про то, что его дед жил в округе Рейвен и его отец родился здесь, он ничего не сказал. Почему умолчал?
— Может, посчитал, что это неважно. Может, ему наплевать.
Лесли хотела верить, и Джек не винил ее. Деньги большие и легкие. Как бы ни был интересен ей Джонни, этот интерес стремился к нулю в сравнении с огромной выгодой. Проблема заключалась в том, что ей нужен был Джек.
Он готовился к тому, что вначале она опробует мягкий вариант, пустит в ход мягкие слова, уговоры и логику, положит руку ему на запястье, поморгает своими красивыми честными глазами. Но в конце концов ей придется показать зубы. Когда из этого ничего не выйдет, прибегнет к помощи партнеров, постарается надавить через них. Что они применят, кнут или пряник? Джек не знал. Но злость, тревога и ползучее ощущение чего-то совершенно сюрреалистического определенно присутствовало. Не незатейливая ложь Бойда, не риск угроз или опасность остаться без работы и даже не вполне реальная возможность подвести лучшего и единственного друга вязали узлы недоверия в груди Джека. Бойд солгал не однажды, а дважды, и вторая ложь была столь велика, что Джек даже не представлял, что с ней делать.
— Полегче, — сказала Лесли.
Джек не услышал.
— Черт бы тебя побрал, Кросс…
Джек добавил газу. Он хотел поскорее выйти из машины, ему нужно было подумать — не о работе, не о Джонни, не о злости, закипающей в глазах сидящей рядом с ним красивой женщины. Джек тоже солгал. Пусть у него и была больная рука, он вырос сыном копа и сыном Юга. С оружием Джек познакомился, едва начав ходить, и об охотниках, охоте и обитателях дикой природы знал все, что можно было знать. И вот здесь-то была самая большая проблема. Потому что какие бы обстоятельства ни привели к выстрелу в оленя в 1931 году, произошло это не так, как описал Уильям Бойд. Пуля в сердце — да, этому Джек верил. Но все остальное, сказанное Бойдом, правдой не было. Огромная голова, шея толщиной с шею гризли и широкие сияющие рога — ничего подобного Джек не видел. И уже одно лишь это бросало тень лжи на всю историю Бойда. Потому что ни в Иллинойсе, ни в Висконсине, ни в каком-либо другом месте на сотворенной Господом земле ни одного столь величественного животного никто никогда не убивал.
Такого оленя просто не существовало.
Глава 6
Выйдя на крыльцо, Уильям Бойд проводил взглядом уезжающую машину. Она пересекла ручей, забралась на вершину второго холма и исчезла из вида. Но и тогда он не сразу вернулся в дом, а постоял еще несколько долгих минут, усилием воли сдерживая себя.
Попадись на глаза Марта, Бойд ударил бы ее.
Вот как он был зол.
Мысленно прокручивая разговор с гостями, Уильям убеждал себя в том, что сумел скрыть беспокойство и гнев. Если б эти двое заметили его эмоции, то, несомненно, задумались бы о вызвавших их причинах, а это породило бы вопросы. Вопросы Бойд не любил, а когда отвечать все же приходилось, предпочитал делать это в Нью-Йорке или Вашингтоне, а не на окраине какого-то зачуханного городишки. Успокоив себя нехитрым объяснением, он проанализировал и вывел заключение о людях, с которыми придется иметь дело. Джек Кросс вполне соответствовал ожиданиям: умен, предан другу и безнадежно искренен. Лесли тоже ничем не удивила. Она — игрок. На мгновение он даже представил ее: облегающая юбка, блондинистые волосы…
— Марта!
Она была где-то близко. Бойд уловил запах ее парфюма.
— Да.
Повернувшись, он увидел ее у открытой двери.
— Идем со мной. — Бойд прошел мимо домработницы, и она последовала за ним. У двери в кабинет он остановился. — Что я говорил тебе насчет этой комнаты?
— Сюда никто не должен входить без вашего разрешения.
— И?..
— Так получилось, мистер Бойд. Я пошла искать вас и не подумала…
— Мне нужно ставить замки в собственном доме?
— Нет, сэр. Конечно нет.
— Посетителей нужно инструктировать. Я достаточно ясно выразился? В следующий раз укажи, где можно подождать, и убедись, что они все поняли.
— Да, сэр.
— Где мистер Киркпатрик?
— Был в спортзале. Наверное, вернулся в свою комнату.
— Узнай, принял ли он душ и оделся. Если да, попроси прийти в мой кабинет.
— Вы имеете в виду?..
— Да, в этот кабинет. Ступай.
Марта ушла, а Бойд, отойдя к комоду, налил себе из графина. Расположившись за письменным столом и потягивая скотч тридцатилетней выдержки, он мысленно перебрал известные ему факты биографии Джеймса Киркпатрика, угольного миллиардера, упорным трудом поднявшегося наверх из забоев Западной Вирджинии. Ему нравилось драться, охотиться и делать деньги, и этим он вызывал у Бойда искреннюю симпатию. Но сюда его привели другие причины. Киркпатрик искал подходящее место, куда можно было пристроить двести миллионов долларов, и Уильям Бойд хотел заполучить их. Но для этого нужно было поработать и произвести впечатление. Они вместе охотились на буйволов в Африке и на тигров в Индии. Вместе выпивали, делились секретами и гонялись за свеженькими, только что из колледжа, девушками.
И вот теперь встретились здесь.
Покрутив в руке стакан, Бойд произвел несложный подсчет: 2 процента комиссионных за управление финансами плюс 20 процентов от всех видов прибыли.
— Риск определенно того стоит, — произнес он вслух.
— Ты это обо мне?
— Господи, Джеймс… — Бойд с натянутой улыбкой поднялся из-за стола. — Такой здоровяк, а подбираешься — не услышать. Как тебе это удается?
— Ты не ответил на мой вопрос.
Киркпатрик пересек комнату в несколько шагов. Пятьдесят пять лет, высокий — шесть футов и три дюйма, — тяжеловесный, широкоплечий, со шрамами на толстенных запястьях. На голове и щеках — седая щетина, отчего глаза казались ярче, чем были на самом деле. Бойд подождал, пока он сядет, после чего отошел к комоду, плеснул в стакан виски и протянул гостю.
— Говорил об охоте.
— Беспокоишься?
— Вообще-то нет.
— Еще раз, как его зовут?
— Джонни Мерримон. Мы с ним управимся.
— С твоим прошлым клиентом вышло по-другому. Этот Джонни Мерримон разгромил ваш лагерь и едва тебя не подстрелил.
— Риск того стоит. Твое здоровье.
Они чокнулись, и Бойд сел. Их можно было назвать друзьями, но Киркпатрик понимал правила игры.
— Как рынок?
— Я не слежу за рынками, когда охочусь. У меня для этого есть люди.
Киркпатрик хмыкнул — он и сам придерживался такого же мнения. Нанимай надежных помощников. Распределяй полномочия. Он помолчал с минуту и, даже не взглянув на голову громадного оленя, сказал:
— Так это он?
— Он.
— Шесть месяцев, Уильям. Вот сколько ты заставил меня ждать.
Бойд пожал плечами.
— Я показываю его немногим избранным.
— Можно?
— Для этого мы здесь.
Киркпатрик поставил на стол стакан, и они вместе — один чуть впереди, другой чуть позади — подошли к чучелу на стене. Гость шел ровно, но Бойд ощущал его недоверие. Он уже приводил в эту комнату двух потенциальных клиентов. И все реагировали одинаково.
— Можно потрогать?
— Только осторожно. Он очень старый.
Гость протянул здоровенную руку, прикоснулся пальцами к грубой шерсти на шее животного.
— Я всегда думал, что ты лжешь, преувеличиваешь. Господи… — Киркпатрик слегка охрип. — Ничего подобного не видел. Даже не слышал. — Он повернулся к хозяину. — Твой дед застрелил его здесь?
— Это особенное место.
— Здесь и другие такие же есть?
— Я уж думал, ты не спросишь.
Бойд провел гостя во вторую комнату в задней части кабинета. Книжный шкаф, два кресла, кожаная софа. На двух стенах помещались фотографии и карты. На третьей висела огромная шкура медведя.
— Бог ты мой, — пробормотал изумленный Киркпатрик.
— Я подстрелил этого медведя в тот самый день, когда мальчишка Мерримон расстрелял мой лагерь.
— Невероятно. Это… Это… Какая громадина!
Остальной частью истории Бойд делиться не стал: в тот день они действительно убили двух медведей, и шкура второго горделиво украшала стену его последнего клиента.
— Впечатляет, не правда ли?
— Впечатляет? Боже мой… — Киркпатрик развел руки, словно пытаясь обхватить нечто неосязаемое. — Это не укладывается в голове. Такие животные… Как ты это объясняешь?
— У меня нет объяснений.
— А твой дед?
— Вот он. — Бойд снял со стены заключенную в рамку газетную вырезку и показал ее Киркпатрику. Заголовок гласил: ПОТЕРЯВШИЙСЯ МАЛЬЧИК ВЕРНУЛСЯ К МАТЕРИ. Фотография под заголовком демонстрировала худенького паренька с подбитым глазом, перебинтованными руками и темными пятнами на щеках. За спиной у него на жалкую некрашеную лачугу падал снег. Рядом с ребенком стояла его мать, серьезная, неулыбчивая.
Киркпатрик указал на лицо мальчика.
— Это обморожение?
— Да. Говорят, та зима была самой холодной за сто лет.
— А олень?
— Мой дед блуждал по болоту три дня. Когда его нашли, мертвый олень лежал у его ног, а ружье примерзло к дереву.
Киркпатрик повернул фотографию, наклонился ближе.
— Что с ним случилось?
Бойд пожал плечами.
— Отправился поохотиться с двумя друзьями. Друзья вернулись домой через сутки. Мой дед не пришел. Сто человек искали его два дня.
— Расскажи мне его историю.
Бойд улыбнулся.
— История — для клиентов.
— И все-таки?
Бойд снова пожал плечами, но не извинился.
— Дед не рассказывал о том, что случилось с ним на болоте. После того как его нашли, он вообще почти не разговаривал и, даже женившись, по большей части молчал. — Бойд достал из книжного шкафа журнал в кожаном переплете, старый, потрепанный, замызганный. Сел в кресло; Киркпатрик занял другое. — Это его дневник.
— Написанный уже после болота?
— Да.
— Позволь взглянуть?
— Сначала мне нужно твое решение.
— Двести миллионов — это очень большие деньги.
— Инвестиции, охота, дневник. Жизнь — вот что важно, мой друг. Жизнь и люди, с которыми мы ее делим.
Несколько долгих секунд Киркпатрик изучающе всматривался в лицо Бойда, потом перевел взгляд на газетную вырезку. Рамка красного дерева, шлифованное стекло. Что-то такое было в мальчике, в строгой четкости старой фотографии…
— У него белые волосы.
— Знаю.
— Почему?
— Что-то случилось с ним на болоте. Таким его нашли, седым.
Киркпатрик побарабанил пальцами, взглянул на дневник на подлокотнике кресла.
— Многие знают эту историю?
— Не считая меня, ты — третий.
— А те двое?
— Мои клиенты. Они тебе понравились бы.
Киркпатрик поднялся, прошел вдоль двух стен с фотографиями. Старые, выцветшие, они демонстрировали седоволосого мальчика в разном возрасте. Тинэйджером. Юношей. Молодым человеком. На одной он налегал на плуг за мулом, на другой стоял рядом с невзрачной девушкой в цветастом платье. Девушка улыбалась, юноша — нет. На всех снимках он выглядел худощавым и несчастным, и остался таким до конца. Самая последняя фотография показывала его в военной форме. Нацарапанная в углу дата сообщала, что снимок сделан в марте 1942 года.
— Дед умер на «Омаха-Бич»[10]; так и остался на песке. Это лежало у него в кармане. — Бойд положил ладонь на дневник. — В ночь перед высадкой он сделал запись о болоте. Как будто знал.
— Знал что? Что погибнет?
— Думаю, он хотел, чтобы о той истории узнали другие. По крайней мере, его жена.
— Признание травмированного молчуна в ночь перед битвой… Не самый убедительный документ.
— Эти страницы говорят сами за себя.
Бойд положил дневник на столик, и Киркпатрик, до того расхаживавший по комнате, остановился.
— Двести миллионов долларов?
— Хорошее начало.
Киркпатрик сел. Они смотрели друг на друга. Большие люди. Большие деньги. Результат, однако, сомнения не вызывал — только не в этой комнате с запачканным кровью, закрытым дневником покойника на столе между ними.
— Но и история должна быть чертовски хороша.
Глава 7
Как и многие мальчишки того трудного времени, Рэндольф Бойд слишком хорошо знал, что такое холод и голод. Старики винили экономику, Большую войну[11] или то, что они по привычке называли Крахом 29-го, но все это было пустым звуком для Рэндольфа и двух его лучших друзей или других мальчишек округа, чьи дома опустели больше, чем другие. Конечно, война оставила без отца не только Рэндольфа, но ему пришлось труднее, чем, например, Чарли с той же улицы, чей отец успел заслужить медаль перед смертью, или Герберту, родитель которого поймал пулю, сражаясь с французами на Сомме. Отец Рэндольфа вернулся с войны живым, но в конце концов война все же убила его. Германская пуля снесла ему пол-лица в октябре 1918-го, за три недели до того, как все кончилось, и другие отцы возвратились домой целыми, а не с раной такой глубокой, что никакая любовь не могла залечить ее.
Именно так и случилось с отцом Рэндольфа. Не помогла ни милая жена, ни родители, гордившиеся сыном, но и переживавшие за него в душе. И даже ясная улыбка сына, слишком юного и невинного, чтобы увидеть и осознать ужас отцовского лица, не могла рассеять тень, затаившуюся в его глазах. По словам Герберта, слышавшего это от своей матери, возвращение домой затянулось на три месяца, прежде чем ружье появилось из-под кровати, которую муж и жена отчаянно пытались использовать по назначению. Но какая женщина сможет целовать такое лицо? Эти слова прошептала темной ночью мать того же Герберта, когда думала, что дети давно спят. Рэндольфу было тогда девять, но даже и теперь, через пять лет, мысль о том, что последний, роковой, шаг сделала его мать, терпеливая женщина, рубившая дрова и таскавшая лед, пока щеки ее не впали, как пробитый торпедой борт военного корабля. Глядя на нее теперь, Рэндольф думал: «А ведь ей всего тридцать один». В сером свете у холодной плиты мать выглядела полумертвой, и ее тонкие, как палки, руки дрожали, когда она, чиркнув спичкой, пыталась поджечь растопку.
— Дай-ка мне.
Рэндольф взял спички, чиркнул и поднес спичку к скомканной бумаге. Старые часы на полке показывали 4:55 утра. По оконному стеклу стучал снег.
— Приготовлю завтрак, пока не ушел.
Мать выпрямилась и принялась искать что-то в пустых шкафчиках. Она сказала завтрак, но имела в виду муку, свиной жир и последние обрезки бекона.
— Они вот-вот придут, — сказал Рэндольф.
— Но пока-то не пришли.
Мать словно не заметила проступившего на лице сына нетерпения, и он снова прильнул к окну — и только потом сел за маленький стол, сервированный двузубыми вилками и поцарапанными металлическими тарелками. Отцовский стул давно убрали, так что их осталось два. Возле второго стоял тот самый «Спрингфилд», с которым отец пришел с войны и которым двенадцать лет назад воспользовался в последний раз, чтобы снести себе остатки черепа. Стрелять Рэндольф умел лучше многих. Он выигрывал соревнования на окружной ярмарке, а два года назад принес домой индюшку на тридцать фунтов, перестреляв самого мэра. С винтовкой Рэндольф обращался с семи лет. Теперь он еще раз проверил, все ли в порядке. Лязгнул металл, в воздух поднялся запах машинного масла. Щелкнув последний раз затвором, он зарядил пять оставшихся патронов и, взглянув на мать, прислонил оружие к стене. Год назад она сказала сыну найти для винтовки другое место, но холод и голод не оставили сил, чтобы настоять на своем.
«Слабеет», — подумал Рэндольф.
Слабели они оба.
— На вот тебе. — Мать шлепнула на тарелку ложку кукурузной каши. — Ешь, пока горячая.
— А ты не будешь?
— Неголодная.
Усталая, натужная улыбка словно расщепила ее лицо. Рэндольф посмотрел матери в глаза. Там была жизнь, и там была любовь. А на его тарелке лежала последняя в доме еда.
— Поешь немножко, — сказал он. — Чтобы я не беспокоился.
— Ладно, малыш. Может быть, чуточку.
Мать села рядом с ним, и они поели с одной тарелки. Каша была местами черная, но это же самое лучшее — подгоревший жир. Оставив на тарелке последний черный комочек, Рэндольф толкнул ее через стол.
— Я сыт, — сказал он и поднялся раньше, чем она успела возразить.
— Пора?
— А ты не слышишь?
— Что?
— Как скрипит левый сапог Герберта.
— Ты в самом деле это слышишь? А я нет. И… — Она остановилась, увидев, что он улыбается. — Дурачишься.
— Совсем чуть-чуть. — Рэндольф взял ружье и поцеловал ее в щеку. — Встречу ребят на дорожке. Доедай. — Он показал на последний комочек каши на тарелке и увидел, что мать плачет. — Все будет хорошо. Со мной идут Герберт и Чарли. У нас оружие.
— Ты же знаешь, что говорят об этом месте.
Ее глаза блеснули в тусклом свете, и в наступившей за ее словами тишине снег застучал сильнее по стеклу.
— Эти цветные — вполне приличные люди. Не думаю, что они нас обидят.
— Я не о них говорю, и ты это знаешь.
— Нам нужна еда.
— Знаю, что нужна. Но разве обязательно охотиться там?
Она выпрямилась, и в ней на мгновение проступила прежняя твердость. Рэндольф хотел ответить, успокоить, но они оба знали правду.
— Больше охотиться негде. Даже кроликов и тех почти не осталось, а ты знаешь, что говорят про кроликов. — Он думал, что шутка заставит ее снова улыбнуться или отчитать его за мальчишескую дерзость. Но ей было не до этого из-за голода и страха. — Дело не только в нас. Надо думать и о других.
Рэндольф имел в виду Чарли и Герберта, старых друзей, чьи семьи тоже голодали. В таком же положении был весь округ — из-за безработицы, бедности и холодной зимы, которая никак не кончалась.
— На болоте легко заблудиться, — сказала мать. — Некоторые возвращаются едва живые, полоумные, а другие до сих пор шарахаются от тени и рассказывают такое, что жуть берет.
— Знаю. Но со мной ничего не случится.
— Обещай, что будешь осторожен.
— Буду.
Она взяла его за руку. В кухне горел огонь, но рука у него все равно была холодная.
— Держись подальше от цветных. И берегись тонкого льда.
— Все промерзло. Никакого тонкого льда уже нет.
Он думал, что логика поможет, но в ее глазах и морщинках снова блеснули слезы.
— Чарли может заблудиться, — напомнила мать. — Он все время путается, а Герберт неловок с ружьем, так что держись позади него или сбоку.
— Знаю. Я о них позабочусь.
— И еще одно. — Мать сунула руку в карман фартука, достала латунную зажигалку и протянула сыну. — Твой отец принес ее с войны, и она была очень дорога ему. — Она поправила на сыне куртку, разгладила, обтянула. — На прошлой неделе я заправила ее в городе, думала отдать тебе. Он был хороший человек, твой отец. Если б не война, если б не то, что она сделала с ним, он никогда не оставил бы нас. Хочу, чтобы ты верил, когда я это говорю. Ты можешь сделать это для меня? Можешь верить мне, когда я говорю, что так оно и есть? Что он был хорошим человеком?
Рэндольф смотрел на металлический цилиндр, недавно отполированный, но старый, в царапинах и вмятинах. Зажигалку он помнил смутно — какие-то воспоминания сохранились, но они были скорее воспоминаниями о давней мечте. В любом случае он мог представить отца, каким тот был ближе к концу; помнил, как отец сидел перед камином с зажигалкой в руке, в вязаном шарфе, скрывавшем изуродованную половину лица. Он крутил зажигалку в длинных пальцах, наблюдая за отсветом пламени на металле. Да, отец, наверное, дорожил этой штуковиной — тут мать была права, — но в какие бы места ни уводили его эти блики, какие бы воспоминания ни пробуждали, ничто не остановило его, когда он встал на колени у реки и вышиб себе мозги вместе с макушкой.
Во дворе Рэндольф поднял воротник, защищаясь от снега, прошел к дорожке и, оглянувшись, посмотрел на дом. Маленький, некрашеный, он был одного цвета со снегом, слякотью, старым амбаром и замерзшим железом. Ветер подхватывал выходящий из трубы дым, и Рэндольф помахал матери, неясной фигурке за замерзшим стеклом. Она помахала в ответ. Глядя на нее сквозь падающий снег, он чувствовал, как снежинки ложатся на плечи и шапку. За два месяца ветер намел сугробы к стене дома и старой, ржавеющей во дворе машине. Рэндольф поднял руку повыше и направился к дороге, зная, что если задержится, мать так и будет стоять у окна, пока не потухнет огонь и из кухни снова уйдет тепло.
Спрятав под шарф подбородок, он неслышно зашагал по снегу. За спиной у него висел рюкзак, а в нем — брезент, одеяла и куски вощеного холста, завернуть мясо и не дать просочиться крови. Винтовка — прикладом вверх, чтобы снег не попал в дуло, — оттягивала левое плечо. У края дороги он оглянулся в последний раз, но дом скрылся за белой пеленой, что было только к лучшему.
Герберт и Чарли уже ждали его, и представшая глазам Рэндольфа картина не вписывалась в рамки здравого смысла.
— И всё? Это всё, что вы взяли?
Он ткнул пальцем в Чарли, щуплого, обидчивого мальчишку с узким лицом и карими глазами. Шустрый и сообразительный, но беззаботный и рассеянный, он совсем утонул в отцовской вощеной куртке.
— Я справлюсь, — сказал Чарли. — Ты же сам знаешь.
— Дай сюда. — Рэндольф забрал у него ружье, осмотрел со всех сторон и с недовольной миной вернул владельцу. — Двадцать второй. Мелкашка.
— Думаешь, я сам не знаю? Ну ты даешь…
— И кого ты собираешься убивать из этой штуки? Белок?
Чарли закинул ружье на плечо.
— Отец спит, а карабин у него возле кровати. Сам знаешь, он от малейшего шума просыпается. Он и так взъярится, что я у него куртку и флягу взял. А если б поймал с его любимым стволом, исполосовал бы ремнем вдоль и поперек, и что бы вы тогда делали?
Чарли был прав. Джакс Картер славился буйным нравом и однажды избил человека до полусмерти лишь за то, что тот нечаянно задел его чашку с кофе. Причем случилось это воскресным утром возле баптистской церкви. Из-за позаимствованной куртки у Чарли могли возникнуть проблемы. Из-за карабина его могли убить.
— И вообще, ты посмотри лучше на этого придурка. — Чарли показал на Герберта, у которого не было вообще ничего, кроме фляги и почти пустого рюкзака.
— Что такое? — спросил Рэндольф. — Где твой дробовик?
Его явное неудовольствие и разочарование не повергли Герберта в трепет. Рэндольф был старше, но в прочих отношениях и в драке они не уступали друг другу. Стычки между ними случались, но по большому счету эти двое были почти братьями. Оба родились в одной и той же больнице, только с разницей в две недели, оба одинаково крепкие и голубоглазые. Рэндольф был, наверное, чуть сильнее, но Герберт смышленее, и все это знали. Учителя. Родители. Спокойный голос и ровный взгляд — так он познавал мир.
— Патронов нет. Что толку тащить ружье без патронов.
Спорить Рэндольф не стал. Патроны к дробовику попадались так же редко, как и деньги, и те, у кого водились лишние, дорожили ими, словно золотыми монетами. Он сам видел, как за один патрон купили шерстяные варежки, кадку масла и пару старых очков. Без патронов невозможно охотиться, а без охоты бедно на столе. У Рэндольфа осталось пять патронов для «Спрингфилда», и он представить не мог, что будет делать, когда они кончатся. По ночам он молился, чтобы поскорей пришла весна, чтобы лето принесло урожай и какую-нибудь работу. Он мог писать, и считать, и делать все то же самое, что и любой взрослый мужчина из местных. Вот только работа в здешних местах встречалась так же редко, как патроны, кролики и шоколадки.
Чарли топнул ногой по снегу.
— Так мы идем или как?
Рэндольф бросил взгляд на дом, надеясь, что мать слишком далеко и не видит, с каким вооружением они выступают. Она бы разволновалась, но давать задний ход было уже поздно. Он пожал плечами.
— Тут еще и голыми на охоту ходят.
— Может, и так, да только Уиллис Дред с сыном не вернулись до сих пор с чертова болота. А те парни, что вернулись, сидят у окон в дурдоме и слюни пускают.
Рэндольф понимал все, о чем говорил Чарли. Люди уходили и пропадали без вести, а некоторые из тех, что возвращались, рассказывали о неграх, глубоких заводях и плывунах. Восемьдесят лет назад в тех лесах вешали рабов, и кое-кто считал, что злые духи до сих пор бродят по пустоши из конца в конец. А как еще объяснить исчезновение Уиллиса Дреда и его сына? Как объяснить, что парни Миллеров блуждали пять дней, а когда вышли из болота, только мычали и роняли слюни? Каждый предлагал свою теорию, но правда заключалась в том, что правду не знал никто. Может быть, на болоте водились олени, а может быть, нет; может быть, Уиллис Дред покончил с собой в отчаянии, прихватив сына, и, может быть, парни Миллеров еще раньше тронулись рассудком и лишь искали повод заявить об этом миру. Рэндольф размышлял об этом долго и упорно и пришел к выводу, что эти объяснения ничем не хуже других. Люди глупы и суеверны. А кроме того, была и правда попроще.
— Моя мать больше месяца не протянет, и у Герберта дома положение не лучше. А что у тебя, Чарли? Как твоя мама? Сыта и довольна? Лопает булочки с ветчиной? — Друзья уставились друг на друга, но игру в гляделки выиграл Рэндольф. Он дернул плечом, поправил ружье. — Ничего другого не остается. Ни у кого из нас.
Когда топаешь по снегу, дорога кажется длиннее. Она цеплялась за ноги, волочилась, приглушая звук. Растянувшиеся в линию заборы едва виднелись вдалеке, как и три последних дома; и те и другие растворялись в тусклой серой мути. Все трое мальчишек жили в северной части округа, на границе обжитого края, там, где заканчивалась дорога и начиналась болотистая пустошь, тянущаяся к далеким холмам. В округе этот район считался беднейшим, и только жившие там находили основания для какой-то гордости. Для городских они были грязной, невежественной беднотой. Цветные, белая шваль — для тех, у кого отцы, машины и теплые дома, они были одинаковы. Рэндольф понимал свое место в раскладе вещей, но, как и другие, оказавшиеся в северной глуши округа Рейвен по собственному выбору или занесенные туда силой обстоятельств, он гордился как самим этим местом, так и теми, с кем его делил. Грубоватые, немногословные, терпеливые, они считали городских — с их электричеством, ледниками и купленным в магазине мясом — народом мягким, изнеженным. Если зависть и присутствовала в характере Рэндольфа, он предпочитал ее не слушать. У него были друзья, была мать. К тому же в городах голодали тоже.
Так повелел великий уравнитель.
И как его ни назови, он обрушил всю страну.
Даже здесь, в этой глуши, жестокая правда являла себя со всей очевидностью. Не спасали даже громадные состояния; мужчины в больших северных городах выбрасывались из окон. Довольно долгое время дело не шло дальше разговоров, но потом нагрянула беда. Раскатившиеся из Нью-Йорка волны погребли под собой все хорошее. Пропали деньги. Закрылись магазины. Лишь у немногих в городах сохранился здоровый румянец, но границы различий стирались, и Рэндольф считал, что так и надо. Пусть попробуют, что значит ложиться в холодную постель, а проснувшись, получать на завтрак подгоревшую кашу… В груди распустилось какое-то теплое чувство, и он понял — да, наверное, зависть. Ему едва исполнилось четырнадцать, но он уже потерял два зуба. Скорбут, так это называлось. Еще одно модное словечко вместо другого, понятного всем, — «голодуха».
На несколько долгих минут эта мысль придавила его тяжелой тенью, но тень рассеялась, когда они приблизились к тому месту, где кончалось шоссе. Дальше проселочная дорога вела к Хаш Арбор, где с 1853 года жили освобожденные рабы и их потомки. Рэндольф бывал там лишь однажды, когда мать ездила менять нитки и иголки на семена и мед. Жившие в Хаш Арбор разговаривали по-особому, так что понять их было трудно. Дома представляли собой некрашеные лачуги, но у них были огороды, церковь, коптильня. Держались они вполне дружелюбно, но тогда и время было другое, лучше нынешнего. Теперь доверие стало редкостью, и в последнее время — в тех редких случаях, когда он видел цветных на дороге или в лесу на границе болота — они держались настороженно и на чужих смотрели исподлобья. Это Рэндольф тоже понимал. Заботиться о своих. Держаться вместе. Он сам чувствовал то же самое в отношении Чарли и Герберта.
— Что будем делать?