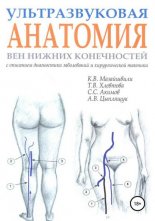Безмолвие Харт Джон
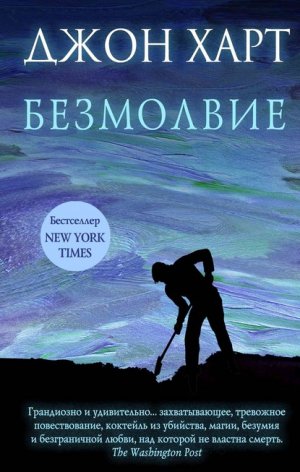
Появилась ли вся эта жизнь по велению некоей темной магии?
Или все это скрывала прежде магия еще более темная?
В конце концов, это было не так уж и важно — в отличие, например, от голода. Голод и заставил его пройти сначала одну милю, потом другую. Он потер глаза, как будто их занавесила паутина. Не помогло — от краев наползала тьма. Рэндольф увидел мать на кухне, отца с изуродованным лицом у костра. Довольно долго он ощущал пламя и не чувствовал холода; но отец смотрел и смотрел на него, и свет в его глазах жестче железа в зимнюю ночь. «Зачем ты живешь? — как будто спрашивали эти глаза. — Почему ты цел и здоров, тогда как я — такая вот развалина?» Рэндольф хотел возразить и даже поспорить, но в рот набился лед, а отец стал уходить по длинному, угрюмому коридору, постепенно уменьшаясь, пока не исчез, превратившись во вспышку белого, серого и тускло-оранжевого света. Рэндольф моргнул, но вспышка осталась. Он моргнул еще раз и обнаружил, что лежит лицом вниз в сугробе, во рту у него снег, а один глаз замерз и не открывается.
Долго?
Солнце висело мутным пятном за деревьями. Рэндольф потерял где-то рукавицу, и когда попытался поднять ружье, кожа с пальцев осталась на мерзлом металле. Он вскрикнул от боли, а порыв ветра с силой бросил в лицо пригоршню снежной дроби. Баюкая пострадавшую руку, Рэндольф дотащился до поляны, где низвергавшийся с каменного отвеса и давно замерзший ручей превратился в водопад из тусклого кристалла. В сумерках этот застывший поток проступал неясным силуэтом, но там, откуда он падал, стояло самое замечательное животное, которое когда-либо видел Рэндольф. Мех его словно светился, широкие рога были великолепны. Зверь стоял в профиль и своим единственным глазом смотрел на мальчишку с выражением — в этом Рэндольф мог бы поклясться — бесстрастного терпения. Даже когда юный охотник поднял ружье пострадавшей левой рукой и попытался найти спусковой крючок окоченевшими пальцами правой, олень продолжал взирать на него с тем самообладанием, которое Рэндольф обрел в мертвой точке выдоха. И когда наступил последний миг — дрожащий мальчик поймал оленя в прорезь прицела, — карие глаза зверя закатились и закрылись, а Рэндольф потянул за спусковой крючок.
Олень упал там, где стоял. Колени подкосились, он завалился набок и рухнул с ледяной стены. Задняя нога дернулась, и зверь затих.
Кое-как охотник дотащился до оленя и остановился, пораженный его размерами. Но времени терять не стал. Приближалась ночь, а он не чувствовал ни рук ни ног. Достав нож, Рэндольф вскрыл животному брюхо, сунул руки во внутренности и держал их там, пока не согрелись пальцы. Все, что было в брюшной полости, соответствовало громадным размерам оленя. Желудок. Кишки. Сердце, едва ли не больше головы мальчишки. Выпотрошив добычу, он отрезал кусок печени и съел его сырым. На лице и одежде остались следы крови, но это было неважно. К тому времени когда Рэндольф, утолив голод, избежал безумия голода, наступила ночь. Он сложил костер, не жалея дров. В лесу кто-то был, и доносившиеся оттуда звуки пугали его. Глаза ловили и отбрасывали свет костра. Иногда все вдруг затихало, и тогда нарастало давление.
— Нет, нет, нет…
Рэндольф схватил ружье, прижался спиной к еще теплой туше.
На поляне он был не один.
Далеко не один.
Глава 8
К тому времени когда Уильям Бойд закончил рассказ, его гость сидел в напряженной позе, выпрямившись и держа руки на коленях; рядом, на подлокотнике, стоял нетронутый стакан с виски. Поскольку он был по натуре человеком беспокойным, Бойд счел эту неподвижность хорошим знаком, концентрацией охотника.
— Этого не может быть, — сказал Киркпатрик.
— Немного красок я добавил, признаю, но в целом рассказал историю так, как она была изложена.
— А как же все остальное? Каков конец?
— Посмотри сам.
Бойд протянул дневник, и Киркпатрик быстро пролистал страницы к концу. Потом развернул кожаную обложку и пробежал пальцами по корешку.
— Несколько страниц удалили.
— Вырвали, — уточнил Бойд. — Незадолго до того, как дневник попал мне в руки.
Киркпатрик осмотрел дневник более внимательно. Почерк был грубый, страницы мятые, в пятнах. На внутренней стороне передней обложки стояло имя Рэндольфа Бойда и рядом с ним такая приписка: «5 июня 1944-го, 29-я пехотная дивизия, у моря».
— Выдумки, — сказал он. — Пьяный бред.
— Его друзья рассказывали что-то похожее. Им, разумеется, никто не поверил.
— Его друзья — дети, напуганные и полуголодные.
— Тем не менее некоторые факты оспаривать невозможно, — возразил Бойд. — Моего деда, поседевшего, действительно нашли на болоте, возле замерзшего ручья, рядом с убитым оленем. Отрицать это, мой друг, бесполезно.
Бойд жестом указал на арочную дверь, и мужчины снова подошли к запылившимся останкам великолепного животного. Глаза заменили стеклом, но все прочее сохранилось в целости с того холодного дня 1931 года: густая шерсть, массивная шея, рога толщиной в руку и размахом шесть футов. Бойд не торопил гостя, поскольку знал, какие чувства тот испытывает: возбуждение и недоверие, но самое главное — возрастающее, переходящее в потребность желание посмотреть самому, удостовериться и, может быть, убить что-то столь же внушительное и великолепное. В конце концов выбора не оставалось.
— Тогда завтра?
— Не совсем. Нужно подписать бумаги, перевести деньги. Тебе, может быть, захочется проконсультироваться с юристами…
— Но потом-то мы поохотимся?
— Да, послезавтра. — Бойд предложил гостю его нетронутый стакан. — С утра пораньше. Поохотимся.
Глава 9
Остаток дня после встречи с Лесли Джонни провел один. Собрал немного валежника, поработал в доме и, даже не проголодавшись, лег спать. Лежа в гамаке на вершине дерева, он смотрел на раскрывающееся, как цветок, небо. Появилась и пропала луна. Высыпали звезды в сияющем великолепии бесконечности. Джонни наблюдал за ними так долго, что в конце концов ощутил вращение земли, а когда закрыл глаза, с ним остался только звук ветра. Ветер проносился над камнями и между деревьями, касался воды и уносил ее запах. Все это был Хаш, его Безмолвие, а что, как и почему — насчет этого Джонни не беспокоился. Он ощущал Пустошь, как ощущают ткани, кости и кровь в венах. Отдайся дрейфу ночи — и уже не понять, где кончаешься ты и где начинается Безмолвие.
Цена, если она и была, назначалась во сне.
Когда Джонни проснулся впервые, сон последовал за ним. Тот сон, что приходил сотню раз. Он сидел верхом на лошади под деревом, а в темноте, за ветками, горел огонь. Другие белые люди ушли. На вытоптанной, утрамбованной поляне не осталось ни травинки — лишь голая земля. Еще там остались рабы, и они плакали под раскачивающимися на толстых веревках мертвецами, избитыми, порезанными, измазанными грязью, окровавленными. Сидя на лошади, Джонни видел всех: женщин, детей и мужчин, стыдящихся своего страха. Он ощущал жар разгоряченных, влажных тел девяноста семи рабов, и когда они смотрели на девушку, их страх поднимался до религиозного трепета. Маленькая, лет семнадцати-восемнадцати, чернокожая, свирепая, она не потянула бы и на сотню фунтов, но когда раскинула руки, рабы — пуст и нерешительно, колеблясь — сгрудились под повешенными. Несколько долгих секунд девушка смотрела на них черными, не знающими прощения глазами, и оранжевые отсветы пламени прыгали по ее телу. А потом раскинула руки, будто хотела удержать этот миг, повернулась наконец к Джонни и осклабилась, словно и он тоже принадлежал ей.
Лицо ее и руки были в крови.
И она держала нож.
Поначалу сон приходил редко, потом чаще: одни и те же люди на веревках, свирепость, страх и маленькие темные ножки. Больше всего Джонни беспокоило то, как отчетливо он видит дерево.
Там умирали рабы.
По-настоящему.
Снова Джонни уснул уже под утро, в последние, самые черные часы ночи, а проснулся, когда в лесу было еще темно, а из-за горизонта едва высунулся край солнца. Он подумал, что надо бы побывать в старом поселке, взглянуть на древнее дерево. Оно стояло на той же земле и, пусть расколотое едва ли не пополам молнией, простирало тот висельный сук над вытоптанным пятачком, где с давних пор не выросло ни травинки. В снах Джонни чаще всего видел его именно таким, а просыпаясь, думал: может быть. Может быть, если прикоснуться к дереву, к голой земле или опуститься на колени возле тех камней, где были похоронены рабы, повешенные тем жестоким, жарким летом 1853 года.
Так много вопросов…
Выбравшись из гамака, Джонни искупался в ручье, переоделся в чистое и позавтракал. В старом поселке он остановился на поляне, потому что именно там дух Хаш Арбор ощущался сильнее всего. Когда-то он из интереса посчитал развалины. Получилось, что лачуг здесь было восемнадцать. За последней поляна сужалась до тропинки, которая вела к кладбищу на второй поляне, скрытой в глубине леса. За окружавшей кладбище каменной стеной поместилось сорок пять каменных надгробий. Джонни открыл калитку и направился к висельному дереву, росшему в дальнем углу. Черный уродливый ствол вытягивал в стороны толстенные, толще большинства других деревьев, сучья. Почти со всех молния содрала кору, некоторые обломала, но главный, висельный, сук по-прежнему нависал над тремя камнями и пятачком, настолько безжизненным, что тот казался подметенным. Сколько раз Джонни стоял здесь? Сколько раз ему это снилось? Он закрыл глаза — и увидел повешенных, костер и окровавленный нож. Ужас толпы коснулся его сердца.
Но кто боится ребенка?
Опустившись перед камнями на колени, Джонни развел руки — и ощутил мертвое пространство. Он чувствовал, как поднимается сок в деревьях, чувствовал жуков и птах, стелющиеся по ветвям стебли и тянущиеся к солнцу цветы. И только под деревом не было ничего. Маленькие, без каких-либо отметин камни были всего лишь камнями. И глина была просто глиной.
Поднявшись и смахнув песчинки с колен, Джонни посмотрел на голые, белые полосы вдоль ствола. Много раз он говорил себе, что это только дерево, старое, огромное, полумертвое, до жути уродливое, но даже в самые светлые, самые ясные дни верилось в это с трудом. Сон был слишком реальным, чтобы быть только сном. Слишком личным, слишком горячечным.
Джонни повернулся, пересек кладбище и вышел на поляну. Миновав амбар и навес, свернул в старую церковь. Забыть тех, кто жил здесь раньше, было просто, и Джонни нередко задавался вопросом, чувствовали ли они то же, что и он, или дар достался ему одному.
— Вам нечего здесь делать.
Джонни в изумлении обернулся.
В дверном проеме стояла женщина, и ее силуэт четко вырисовывался на фоне ясного солнечного дня.
— Земля принадлежит мне, — сказал он, опомнившись.
— Не вполне. И только лишь пока.
Стройная, молодая — примерно его возраста, — в джинсах, футболке и ботинках, женщина сделала шаг вперед, и Джонни сразу же узнал ее. И ощутил внезапно вскинувшееся возмущение.
— Что вы здесь делаете?
— Я всегда сюда прихожу.
— Я бы знал, если б вы всегда приходили.
Женщина пожала плечами, и груз ее молчания обрушился на Джонни нокаутирующим ударом. Он действительно не ощутил ее присутствия, пока она не заговорила: не увидел и не услышал.
— Знаете, кто я?
— Кри. Я видел вас в зале суда.
— Тогда вы знаете, что у меня такие же притязания на эту землю, как и у вас.
— Суд с вами не согласен.
Она снова пожала плечами.
— Мои предки жили здесь двести лет. И поклонялись богу в этой церкви. — Прошла дальше, дотронулась рукой до крестильного камня. — Вам здесь не место. Это не ваше.
— А что, ваше?
— Надеюсь, мы это выясним.
Кри остановилась и посмотрела ему в глаза. Плечи у нее были узкие, волосы и кожа темные.
— Вы следите за мной? — спросил Джонни.
— А кто вы такой? — нарочито высокомерным тоном ответила она. — Вас не должно здесь быть.
— Так вы следите за мной?
Кри снова пожала плечами, и Джонни впервые почувствовал ее и уловил проблеск сомнения.
— Вы ведь выросли в Шарлотт, — продолжал он. — Ваша мать была троюродной сестрой Ливая Фримантла, то есть дальней родственницей в лучшем случае. Этого никакая апелляция не изменит.
— Может быть, и нет, но детство я провела здесь, с бабушкой и всеми остальными. Я знаю историю этого места, историю моей семьи так, как никогда не будете знать вы. Земля должна быть возвращена тем, кто больше ее любит.
— Все шесть тысяч акров?
— Конечно.
Джонни снова почувствовал ее; на этот раз инсайт был чем-то вроде яркой вспышки.
— Вам знакомо такое имя — Уильям Бойд? — Вся ее уверенность разом обвалилась, и правда отразилась на лице. — Это ведь он оплачивает ваши судебные расходы, да? Господи… И какой у вас план? Он финансирует это разбирательство и, если вы выиграете дело, покупает землю, так?
— Я не собираюсь с вами разговаривать.
— Так я прав?
— Только не в отношении меня.
Женщина вышла из церкви, и Джонни последовал за ней.
— Для вас ведь все сводится к деньгам, разве нет?
— Нет. Никогда.
— Моя семья владеет этой землей с тысяча шестьсот девяносто четвертого года. Она получила ее, когда самой этой страны еще не было. Такова история. И только это имеет значение.
Кри резко, словно вспыхнула, повернулась, такая злая, что Джонни невольно отступил на шаг.
— Ваши родные похоронены здесь? — выпалила она.
— Мои — там. — Джонни показал. — В четырех милях отсюда.
— А мои — вот здесь. — Кри ткнула пальцем в кладбище, и он, к полному своему изумлению, увидел в ее глазах слезы. — Моя бабушка, которая вырастила меня. Мои тети и дяди. Моя прабабушка, святая женщина. Вам не отобрать это все у меня.
— Вы можете приходить сюда в любое время, когда только пожелаете. Я просто хочу знать, кто бывает на моей земле, вот и всё. Кто и почему.
Кри сморгнула слезы и сразу как будто помолодела — до двадцати или даже меньше.
— Почему вы ходите к дереву?
— Вы следили за мной?
— Я видела вас там три раза.
— Просто так. Без какой-то особой причины, — соврал Джонни. — Это же история.
— Вы имеете в виду повешенье, — бросила она сквозь зубы. — Это тоже наше общее.
Кри была права. Его предок был здесь в ту ночь. И ее тоже. Они видели костер, видели покачивающиеся на веревках тела…
Видели ли они девочку с окровавленным ножом?
— Мне нужно идти, — сказала она.
— Вы на машине?
— Поймала попутку на перекрестке. Потом шла пешком.
— Почему вы спросили насчет дерева?
— Не надо было мне спрашивать.
Она отвернулась, но Джонни догнал ее возле груды обуглившегося мусора на месте сгоревшего давно дома.
— Пожалуйста. Мне хотелось бы знать.
— Так почему?
— Сам не знаю. Просто для меня это важно.
— Хорошо. — На коже у нее выступили и поблескивали на солнце крохотные капельки пота, глаза словно застыли. — Я вижу вас во сне.
— Что?
— Пламя костра и мертвые тела. — Голос ее зазвучал торжественно, но негромко. — Я вижу вас у дерева и просыпаюсь от страха.
Ноги легко и быстро несли Кри по знакомым с детства тропинкам. В Хаш Арбор она не жила уже двенадцать лет — с тех пор, как ей исполнилось семь, — но страх не был чем-то новым. В самых ранних ее воспоминаниях присутствовали и висельное дерево, и морщинистая кожа на лице прабабушки.
«Хочу, чтоб ты потрогала его… — Старуха взяла ее руку, поднесла к дереву и прижала ладонь к коре. — Это история. Это жизнь. — Она была слепой и беззубой, и морщины на лице напоминали рябь на болотной жиже. — Забудь, чему учила мать. Вот где все началось. Вот мы кто».
Девочка пыталась отнять руку, но старуха была сильна и терпелива и прижимала ладонь к коре, пока не стало больно.
«Боль — ее часть. Дай боли уйти».
Девочка пыталась, но не знала как.
«Веришь в бога своей матери? И ему тоже дай уйти».
Девочка растерялась. Как же так? Ведь все же верят?
«Почему твоя мать отдала тебя мне?»
«Потому что у нее новый муж, — сказала девочка. — И потому что я ей больше не нужна».
«Она всегда думала только о себе, твоя мать. Слишком любила себя, слишком важничала и считала, что место, где она родилась, не для нее. Ты это тоже отпусти. — Старуха поцеловала ее в голову. — А теперь закрой глаза и скажи, что видишь».
«Вижу черноту».
«Чернота — это хорошо. Твоя чернота и моя. Что еще?»
«Ничего», — сказала девочка и подумала, что это всё.
Но нет.
Пальцы сжали ее запястье, и маленький блестящий нож разрезал кожу на ладони. Девочка вскрикнула, но старуха была как камень: мертвые глаза — белые и твердые, рот — суровая, жесткая линия. Она прижала окровавленную ладонь к коре дерева. «Вот мы кто. Говори. — Девочка плакала. Старуха прижала сильнее. — Это история. Это жизнь. Говори. — Девочка произнесла слова, и старуха улыбнулась. — Ну вот. Теперь ты одна из нас».
«Зачем ты так сделала?»
«Затем, что ценой всегда была боль».
Девочка пососала кровь на ладони — и увидела других женщин: своих бабушек, родную и двоюродную, и тени иных, давно умерших.
Кри прожила в Пустоши четыре года и знала ее как свои пять пальцев. У нее были свои долгие дни и потайные местечки — ребенок в лесу найдет миллион способов развлечься. Были там и другие люди, но они держались подальше от старух, а на девочку смотрели как будто со страхом. Из-за крови, темных молитв, ужаса перед былым.
Но Кри жила со старухами.
Их было четверо в однокомнатной хижине на краю вырубки. Ужасного в этой жизни хватало, но, зажатая между старухами на древней кровати, она хорошо спала. А если просыпалась или не могла уснуть, они рассказывали ей истории о невольничьих судах и далеком королевстве на склоне большой горы. Жизнь — плетеный ковер, говорили они, а девочка — крепкая нить. Они говорили, что научат ее плести нити, но только потом, когда она будет готова. А пока Кри изучала ритуалы и образы на земле, странные слова и кровь, знакомилась с ножом, маленьким и блестящим. Блеклые шрамы покрывали старух с головы до ног, и печаль не покидала их, даже когда они улыбались. Девочка понимала теперь, что они умирают и что с ними умирает весь привычный для них образ жизни. Но все равно прочесывали лес до самой гущи. В жару и холод. Здоровые, больные, уставшие. Девочка так и не узнала, что они ищут, но старухи бродили по Пустоши, единственные, кто не боялся это делать. Остальные, которых было немного, присматривали за грядками и ловили рыбу в ближайших речушках. Ни вглубь болота, ни к далеким холмам никто ходить не смел. Когда девочка спрашивала, может ли она чем-то помочь, они объясняли, как все устроено. «Мы делаем то, что делали до нас другие женщины. Твое время, может быть, и наступит, но только когда ты повзрослеешь, наберешься разума и станешь сильной».
Для ребенка то была хорошая жизнь, но и ей пришел конец. Первой умерла прабабушка, потом, через два года, — бабушка, а еще через шесть месяцев — двоюродная бабушка. Когда мать наконец приехала, чтобы забрать ее домой, они увиделись впервые за четыре года. Большой город, большой дом с бассейном, который совсем не пах болотом. Мамин новый муж оказался не так уж плох, но девочка употребляла слова, которых он не понимал, и это его раздражало. Кри слышала, как они спорили по ночам: его голос звучал сердито, мамин — умоляюще. Девочка огрызалась, пока могла, но в конце концов они ее сломали. Водили ее в церковь и к терапевту и ругали, когда она резала кожу, танцевала на рассвете или говорила необычные слова. Только в девять лет Кри увидела точно такие же шрамы на руках и ногах у матери.
— Прости, — сказала мать. — Я не должна была отправлять тебя туда.
— Я хочу вернуться.
— Туда ты больше не пойдешь.
Но девочке снились сны. Снились старухи и Пустошь, и даже теперь она была как краска на холсте…
Кри сбавила шаг, оглянулась и посмотрела на белого, который владел этой землей, но ничего настоящего о ней не знал. Он стоял перед обшитым филенкой зданием и думал, что это церковь, хотя это была совсем не церковь.
По крайней мере, не та церковь, какую он себе представлял.
За два часа Кри добралась пешком до перекрестка, а оттуда на попутке доехала до города. Мать открыла дверь раньше, чем она успела повернуть ключ, и ее хмурое лицо помрачнело еще больше.
— Опять была там, да?
Кри протиснулась мимо нее, бросила на пол сумку.
— Я не сделала ничего плохого.
— Это место для нас — возможность заработать, и ничего больше.
— Как скажешь.
— Ходила к дереву?
— Может быть.
— В церковь?
— Там был тот белый.
— Джонни Мерримон? Он тебя видел?
Кри свернула в коридор, который вел в ее комнату. В маленькой квартире было тихо, слышалось только дыхание матери. Второй муж ушел. И третий, и четвертый.
— Не убегай, когда я с тобой разговариваю.
Но Кри уже закрылась в своей комнате и заперла дверь. Мать хотела продать Пустошь. Кри хотела получить ее секреты.
Старый спор без конца.
Глава 10
Пять лет жизнь Джонни в Пустоши определялась фундаментальным погружением. Рассветное утро было пищей, шаг в реку — купанием. Но девушка прошла в восьми футах от места, где он сидел, и Джонни ничего не почувствовал. Это пугало и злило. Надо признать, в нем взыграло чувство собственника.
Возможно ли, что он и в самом деле потеряет Пустошь?
Вернувшись в хижину, Джонни трижды прочел исковое заявление. Бумаг было много, а текст — такой плотный, как будто написан на иностранном языке.
Джонни бросил документы на кровать и вышел. Нужна была перспектива, и на ум приходило только одно место вне города, куда можно было пойти. Долгая прогулка через холмы закончилась у бара под открытым небом, приютившегося под старым платаном на берегу реки, в трех милях к северу от болота.
Напоминающее скорее гараж, чем настоящее здание, заведение было примерно одного возраста с округом — обшитая досками, некрашеная постройка с видом на реку и холмы. Окнами и дощатым полом могло похвастать одно-единственное помещение; все остальное — железная крыша, земляной пол и почти ничего больше. Джонни оно нравилось потому, что — если не принимать в расчет цвет кожи — здесь никто не проявлял к нему особого внимания. В этой, северной, части округа процветали лишь возмущение, недовольство, бедность да несколько мелких ферм, выживших со времен издольщины. Неподалеку боролись за выживание несколько бизнесов — бакалейная лавка, заправка с одной бензоколонкой, — но болото, подступавшее с юга, и заповедник, раскинувшиеся к северу и западу, эффективно защищали этот уголок округа Рейвен от всего, мало-мальски отдающего прогрессом. Поэтому-то Джонни здесь и нравилось.
Ни кондиционера тебе.
Ни асфальта.
Когда Джонни в первый раз появился из леса, завсегдатаи умолкли и даже забыли про стаканы. С десяток мужчин смотрели на него, как на привидение, что, рассудил Джонни, было вполне объяснимо. За ним не было ничего, кроме пятидесяти квадратных миль болот и лесов. Молодой. Белый. Не обращая внимания на любопытные взгляды, он прошел между столиками и стульями и оказался в той самой единственной комнате, где и положил локти на деревянную стойку.
— Ты, может, заблудился? — сказал стоявший за стойкой высокий крепкий мужчина в линялой рубашке и джинсах, испачканных свиной кровью и жиром.
— Со мной такого не бывает. — Джонни положил на стойку двадцатку. Бармен взглянул на нее.
— Ты откуда?
— Оттуда.
Он показал — и тут наступил момент, когда все могло пойти по-другому. Еще секунду бармен смотрел на чужака, потом оглядел комнату, встретившись взглядом с каждым, кто там был. Прошла минута или чуть больше. Бармен пожал плечами, а когда мужчины вернулись к прерванным занятиям, выудил бутылку из металлического ящика за баром.
— Имя есть?
— Джонни.
— Не торопись, — сказал бармен, и этим, к счастью, все кончилось.
Джонни было тогда семнадцать.
Совершеннолетия он не достиг.
Теперь все было иначе. Джонни стал своим — изгой, один из них, белый парень, бедняк, как и остальные.
— Привет, Леон. — Он кивнул здоровяку-бармену. — Как дела?
— Не жалуюсь.
Джонни облокотился о стойку. Часы показывали двадцать минут пятого. Снаружи были заняты только два столика. Леон поставил на стойку «Ред страйп»[13].
— Налей бурбона, — сказал Джонни. Бармен перевернул стаканчик и плеснул унцию «Джим Бим». — И себе.
— Идет. — Леон налил виски в другой стаканчик и чокнулся со стаканчиком Джонни. — За скрытое от глаз.
Традиционный для старого бара тост не имел никакого отношения к призракам или духам. С миром за рекой заведение Леона связывал один-единственный мостик, благодаря чему через него прокручивались нелегальные делишки. Контрабандная выпивка. Краденые сигареты. Леон помогал почти во всем, за исключением того, что имело отношение к наркоте или мафии. За беспокойство он брал свою долю, и все шло путем, пока не привлекало внимания.
— Вопрос, — сказал Джонни, и Леон осторожно кивнул. За шесть лет он не задал ни одного вопроса. — Болото.
— А что такое?
— Люди, которые там жили. Что можешь рассказать?
— У нас об этом не болтают. — Бармен прислонился к стойке. — Джу-джу[14].
— Серьезно?
Здоровяк кивнул, и Джонни пришлось скрыть удивление за глотком пива. Жизнь не баловала Леона, и склонности к суевериям за ним не замечалось.
— Почему ты в это веришь?
Бармен побарабанил пальцами по стойке и посмотрел за спину Джонни, в сторону реки и леса. Ему определенно было не по себе.
— Знаешь, почему я обслужил тебя в тот день, когда ты пришел сюда в первый раз?
— Нет.
— Интересно было на тебя посмотреть.
— Что ж такого интересного?
— Ты был мне интересен, как и любой, кто приходит с той стороны. — Леон кивнул в сторону Пустоши и, взяв с раковины полотенце, принялся протирать стойку. — По-твоему, сколько мне?
— Пятьдесят?
— Пятьдесят семь. За столько лет человек многому может научиться. Что-то видит сам, что-то узнает от тех, кому доверяет. И отец мой таким же был. Смышленым. Осторожным. Всю жизнь этим заведением управлял. Я и вырос-то здесь.
— Ты к чему ведешь?
— Большинство клиентов пользуются мостом. — Леон наклонил голову, и Джонни взглянул на старый, помеченный ржавчиной узкий мост. — С той стороны не приходил никто. Там нет дорог. Нет домов, нет людей, и делать там нечего. — Он налил себе в стаканчик, выпил. — По болоту никто не ходит. Этому меня мой старик учил. Никто туда не ходит, и никто о нем не болтает.
— Из-за джу-джу?
— Слово это особенное, не для невежд. — Леон плеснул себе еще. — К тому же ты слишком уж белый.
Еще минут десять Джонни сидел в баре, потягивая неспешно пиво и размышляя о Пустоши, девушке в церкви и Уильяме Бойде. Он знал, зачем тому понадобилась земля. Бойд заходил на его территорию с полдюжины раз, и однажды Джонни следил за ним целых три дня. Днем держался подальше, ночью подходил ближе, надеясь постичь некую глубинную, сокрытую истину. Многое из того, благодаря чему Хаш Арбор был особенным местом, даже теперь, по прошествии нескольких лет, оставалось для Джонни загадкой. Может быть, Бойд знал что-то еще, какую-то причину. Но все ночные разговоры сводились к трофеям, размерам и сравнению охоты с бизнесом. Им требовалась кровь, победа и — обязательно — трофеи.
— Леон. — Джонни поднял пустую бутылку, и бармен тут же выудил из ящика другую. — Можно воспользоваться твоим телефоном?
Леон скинул крышку открывалкой размером с собственный кулак.
— У тебя нет своего сотового?
— Да здесь, наверное, и приема нет…