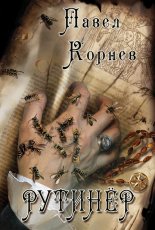Пункт назначения: Счастье Хари Йоханн

Есть что-то в работе, что заставляет людей впадать в депрессию. Но что это могло бы быть? Когда Майкл и его команда вернулись на Уайтхолл для дальнейшего исследования, они хотели узнать, что в действительности меняется в нашей работе по мере подъема по служебной лестнице и как можно объяснить эту перемену.
У них возникла начальная гипотеза на основе всего, что они увидели. Они анализировали, а могло ли быть так: высокопоставленным чинам предоставлено больше самостоятельности в работе, чем нижним, и поэтому они реже впадают в депрессию. Казалось, что это вполне разумное предположение.
– Подумай о собственной жизни, – сказал мне Майкл, когда мы встретились у него в кабинете в центре Лондона. – Просто проанализируй собственные чувства. Когда тебе кажется, что все плохо на работе, да, скорее всего, и в жизни? Тогда, когда ты их не контролируешь.
Существовал один способ проверить. На этот раз они сравнивали не людей с разными должностями, а сотрудников в рамках одной группы гражданской службы, но с разной степенью контроля на своей работе. Они стремились найти ответ на следующий вопрос: выше ли риск развития депрессии или возникновения сердечного приступа у людей с меньшими полномочиями, чем у людей с большими, когда и те и другие входят в одну среднюю группу? Они вернулись, чтобы провести дальнейшие интервью и собрать более детальные данные.
То, что Майкл обнаружил, поразило его еще больше, чем первые результаты. Оно стоит подробного разъяснения.
У людей, работающих в государственной гражданской службе и имеющих большие полномочия[102], риск развития глубокой депрессии или эмоциональной подавленности был намного ниже, чем у людей того же уровня зарплаты, того же статуса в том же самом офисе, но с меньшей степенью контроля над своей работой.
Майкл помнит женщину по имени Марджори. Она работала секретарем в машинописном бюро. В ее обязанности входило печатать документы в течение всего рабочего времени каждый день. Она рассказывала ему, что чувствовала себя «божественно» оттого, что им разрешалось курить и есть конфеты прямо на рабочем месте. Но «абсолютно неинтересно» сидеть и выполнять работу, которую им давали. «Нам не разрешалось разговаривать»[103], – рассказывала она. Поэтому им приходилось сидеть молча. Марджори и ее коллеги перепечатывали документы, о которых знали лишь то, что они на шведском языке. Целый день они печатали текст, не понимая в нем ни слова и находясь в окружении коллег, с которыми нельзя разговаривать. Майкл пишет: «Работу Маржори характеризуют не требования, выдвинутые ей, а то, что у нее совсем не было никакой свободы решать что-либо».
И наоборот. На вершине служебной лестницы у человека есть прекрасная возможность для реализации своих идей. Такое положение вещей поддерживает все существование. Оно говорит о том, как человек смотрит на мир. Но нужно научиться быть пассивным, если человек мелкий чиновник. «Представьте себе типичное утро в большом правительственном департаменте во вторник[104], – писал Майкл годы спустя. – Марджори из машинописного бюро приходит к Найджелу. Он стоит на одиннадцать ступеней выше ее на иерархической лестнице. Она говорит ему: «Най, я тут подумала: мы могли бы сэкономить кучу денег, если б заказывали канцтовары по Интернету. Как ты на это смотришь?» Я пытаюсь представить такой разговор, но мое воображение подводит меня».
Люди вынуждены прятаться внутри себя, чтобы стерпеть такое положение. Майкл нашел доказательства, что это отрицательно сказывается на всей жизни человека[105]. Он обнаружил, что чем выше положение на гражданской службе, тем у сотрудника больше друзей и активнее жизнь после работы. Чем оно ниже, тем меньше и активность. Люди с малыми полномочиями на скучной работе, вернувшись домой, хотят лишь развалиться перед телевизором. Почему так?
– Когда работа делает вас богаче, жизнь становится полнее. Работа просто плавно переливается в то, что вы делаете после нее, – сказал мне Майкл. – Но когда она убивает, вы чувствуете себя разбитым в конце дня, просто разбитым».
Исходя из объяснений Майкла в результате этого исследования и научных открытий, «понимание, что представляет собой стресс на работе, совершило переворот». В основе тяжелого стресса лежит не огромная ответственность[106]. Напротив, необходимость терпеть скучную и монотонную работу. «На ней люди медленно умирают, приходя туда каждый день. Потому что их работа не касается ничего из того, что их волнует», – говорит Майкл. Получается, Джо из магазина красок имел одно из самых стрессовых рабочих мест. «Отсутствие полномочий, – говорил мне Майкл, – является основой плохого здоровья – физического, психического и эмоционального».
Спустя много лет после тех исследований на Уайтхолле в Британской правительственной налоговой инспекции возникла проблема. Они попросили Майкла срочно вернуться в государственную гражданскую службу и помочь им найти решение. Отдел, занимающийся налоговыми декларациями, захлестнула волна самоубийств. Майкл провел много времени в их кабинетах, выясняя, что происходит.
Служащие объясняли ему, что, приходя на работу, они сразу чувствуют, будто на них обрушивается поднос с входящими документами. Казалось, что их «засасывает». «Чем выше стопка документов на подносе, тем сильнее чувство, что ты никогда не вынырнешь из воды», – говорил один из них. Они очень усердно работают весь день, а к концу дня груда на подносе становится еще больше, чем с утра.
– Отпуск приносил разочарование[107], – заметил Майкл, – потому что документы выстраивались в такую башню, что по возвращении из отпуска сотрудников просто заглатывало. Но даже не поток неизбежной работы травмировал их, а недостаток полномочий. Неважно, как безотрывно и упорно они работали, они все больше не успевали.
Их никто никогда не благодарил за труд – люди не испытывают удовольствия, когда им указывают на их налоговые уловки.
Во время исследований на Уайтхолле Майкл заметил еще один фактор, который превращал работу в генератор депрессии. В возникшей ситуации он смог разглядеть его тоже. Если налоговые инспектора усердно работали и делали все возможное, никто не замечал. Если они халтурили, также никто не обращал внимания. «Отчаяние часто наступает, – заметил он, – когда присутствует несоответствие между усилиями и вознаграждением»[108]. То же самое происходило с Джо в магазине красок. Никто никогда не замечал его усилий. В такой ситуации человек получает сигнал о том, что не представляет собой ничего. Никого не интересует, что он делает.
В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫЯСНЕНО, ЧТО ОКОЛО 13 % ГОВОРЯТ, ЧТО «ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ» В СВОЕЙ РАБОТЕ. ТО ЕСТЬ «УВЛЕЧЕНЫ И ПРЕДАНЫ ЕЙ, ВНОСЯТ ПОЗИТИВНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СВОИХ ОРГАНИЗАЦИЙ». В ОТЛИЧИЕ ОТ НИХ 63 % ГОВОРЯТ, ЧТО ОНИ «НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ». ДРУГИМИ СЛОВАМИ, «БЕЗ ИНТЕРЕСА ПРОВОДЯТ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ОТСИЖИВАЮТ ВРЕМЯ, НЕ ВКЛАДЫВАЯ ЭНЕРГИЮ И ЛЮБОВЬ В СВОЮ РАБОТУ». И ЕЩЕ 23 % «СОВЕРШЕННО НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ».
Поэтому Майкл объяснил боссам из налоговой инспекции, что недостаток полномочий и несоответствие между усилиями и положенным за них вознаграждением послужили причинами такой глубокой депрессии, заставляющей сотрудников идти на суицид.
Когда сорок лет назад в больнице на окраине Сиднея Майкл впервые выдвинул предположение, что наш образ жизни может вызывать у нас депрессию, врачи, окружавшие его, просто посмеялись над ним. Сегодня никто серьезно не оспаривает сделанные им ключевые открытия, хотя редко говорят о них. Он стал одним из ведущих ученых народного здравоохранения в мире. И все равно, как мне кажется, мы продолжаем совершать те же ошибки, что и врачи в прошлом. Гречанка, которая пришла на прием к Майклу со словами, что постоянно плачет и не знает, как остановиться, не имела проблем с головой. Проблемы были у нее в жизни. Но в больнице ей дали несколько таблеток, зная, что это только плацебо, и отправили ее восвояси.
Вернувшись в Филадельфию, я начал рассказывать Джо об исследованиях на Уайтхолле, о которых узнал. Сначала он загорелся, но спустя некоторое время сказал мне с долей нетерпения:
– Ты можешь реально во всем этом разбираться, и ты достаточно образован. Но когда доходит до того, что нужно что-то делать, не имея цели впереди, возникает чувство, что тебе ничего не остается, кроме как продолжать. Это ужасно. По крайней мере, у меня возникает вопрос: «А в чем смысл?»
Одна вещь в жизни Джо ставила меня в тупик. Он ненавидел работу в магазине, но в отличие от других не был сильно зависим от нее. У него не было детей или иных обязательств, он был молод, у него были альтернативы.
– Я люблю рыбалку, – сказал он мне как-то. – Моя цель – порыбачить во всех пятидесяти штатах, перед тем как я умру. В двадцати семи я уже побывал, а мне только тридцать два.
Он рассматривал вакансию рыболовного гида во Флориде. За работу платят меньше, чем он имеет сейчас, но ему бы она нравилась. Ему бы захотелось ходить на работу каждый день. Он размышлял вслух, как это выглядело бы, и спросил:
– Ты пожертвуешь финансовой стабильностью ради того, что приносит тебе удовольствие? Но в то же время стоимость прожиточного уровня…
Джо подумывал о том, чтобы бросить работу и уехать во Флориду, не один год. Он сказал:
– Могу говорить только за себя. Когда я ухожу с работы каждый день, меня охватывает чувство безвыходности и кажется, впереди для меня есть только это. Бывают моменты, когда я говорю себе: «Бросай работу, старик… Поезжай во Флориду, стань рыболовным гидом и будь счастлив».
Я спросил его, почему он до сих пор так не поступил. Почему не уезжает? «Верно», – сказал он и выглядел уверенным. А потом показался испуганным. Позже в нашем разговоре я вернулся к теме:
– Ты мог бы это сделать завтра. Что тебя останавливает?
Он сказал, что в каждом из нас есть частица, которая думает: «Если я буду покупать больше всякой ерунды, а потом получу «Мерседес» и куплю дом с четырьмя гаражами, люди со стороны подумают, что у меня хорошо идут дела. Тогда я смогу заставить себя быть счастливым». Он хотел уехать. Но что-то его удерживало. Что конкретно, ни он, ни я до конца не понимали. С тех самых пор я стараюсь понять, почему Джо не уезжает. Что-то удерживает нас в ловушке обстоятельств, которые не сводятся к простой оплате счетов. Я собирался разузнать об этом очень скоро. Когда я прощался с Джо, он повернулся и пошел, а я крикнул ему вслед:
– Уезжай во Флориду!
Я сразу же почувствовал себя дураком, сказав это. Он не оглянулся.
Глава 7
Причина вторая: чувство одиночества
Когда я был ребенком, что-то совсем неожиданное произошло с моими родителями. Мой отец вырос в маленькой деревушке под названием Кандерстег в шведских горах. Он мог по имени назвать каждого ее жителя. А мама воспитывалась в шотландском районе с дешевым жильем. Когда там кто-то повышал голос, все соседи слышали каждое слово. Я был совсем маленьким ребенком, когда они переехали в местечко под названием Эдгвэер. Это последняя станция на Северной линии метро. Беспорядочно застроенный таунхаусами пригород, хотя раньше была зеленая окраина Лондона. Если вы проспите свою станцию в поезде и окажетесь там, то увидите множество домов, несколько баров с фастфудом, парк и очень много порядочных, приятных и сторонящихся друг друга людей, которые куда-то спешат.
Когда мои родители приехали сюда, они старались относиться дружески к людям в округе, так же как это было там, где они росли. Для них это было так же естественно, как и дышать. Но когда они попытались вести себя так, то были сбиты с толку. В Эдгвэере люди не были враждебны. Мы знали своих соседей настолько, чтоб можно было им улыбаться. Но не больше. Любая попытка создать отношения, выходящие за рамки болтовни ни о чем, пресекалась. То, что жизнь здесь имела другие традиции, мои родители познавали медленно. Я не смотрел на это как на нечто необычное – ничего другого я и не знал. Хотя моя мама так и не привыкла к этому.
– Где все? – спросила она меня, совершенно растерянно глядя из окна на пустую улицу, когда я был еще совсем маленьким.
Одиночество покрывает нынешнее общество, как очень густой смог. Намного больше людей сейчас чувствуют себя одинокими по сравнению с прошлым. Я подумал, а может ли это иметь какое-нибудь отношение к явному увеличению числа людей с депрессией и тревогой. Разбираясь с вопросом, я узнал о двух ученых, которые занимались этим несколько десятилетий и совершили ключевые открытия.
В середине 1970-х молодой исследователь в области неврологии Джон Касиоппо слушал своих профессоров. Некоторые были одними из лучших в мире. Однако в их выступлениях было то, чего он просто не мог понять.
Когда они пытались объяснить, почему меняются человеческие эмоции, казалось, они останавливались только на одном. На том, что происходило внутри человеческого мозга. Они не смотрели на происходящее в жизни. Не задавались вопросом о том, какие обстоятельства могли бы вызывать изменения в мозге. Похоже, они воспринимали мозг как остров, отрезанный от остального мира и никогда не вступающий с ним во взаимодействие.
Поэтому Джон задал себе вопрос: «Что произойдет, если изучать мозг не как изолированный остров, а наоборот? Что, если постараться изучить его как остров, соединенный сотней мостов с внешним миром, по которым ввозятся и вывозятся вещи всякий раз, как вы получаете сигналы из внешнего мира?»
Когда он поднял эти вопросы, его руководители оказались озадаченными. «Видите ли, – сказали они ему, – даже если это и так, факторы вне мозга не являются существенными для таких изменений, как депрессия и тревога». Кроме того, по их словам, очень трудно их выявить. «Никто не поймет этого и за сто с лишним лет, – говорили они. – Поэтому мы и не будем на этом останавливаться».
Джон никогда не забывал про свои вопросы. Он размышлял над ними многие годы, пока однажды, в 1990-е, наконец не придумал способ, как начать их подробно изучать. Если попытаться выяснить, как изменяются мозг и чувства человека в результате взаимодействия с окружающим миром, можно начать с анализа того, что происходит в прямо противоположной ситуации – когда человек чувствует себя одиноким и отрезанным от окружающего мира. Он спросил себя: «Этот опыт изменяет мозг? Он изменяет организм?»
Джон начал с простейшего исследования, которое смог придумать. Он и его коллеги собрали 100 незнакомых человек для откровенного эксперимента, никогда ранее не проводимого. Происходило это в Чикагском университете, где он работал тогда.
Участникам эксперимента предлагали уйти из университета на несколько дней и прожить это время нормальной и привычной жизнью, но с несколькими небольшими корректировками. Им нужно было носить сердечно-сосудистый монитор для измерения частоты сердцебиения. Кроме того, им выдавали пейджер и несколько пробирок. И они уходили из лаборатории. В первый день эксперимента, когда пейджер сигналил (как выяснилось потом, по девять раз за день), они должны были прекратить привычные занятия и записать две вещи. Первая – насколько они чувствуют себя одиноким или наоборот. И вторая – частота сердцебиения с монитора.
Во второй день эксперимента участники делали все то же самое, за исключением одного. Когда они слышали сигнал пейджера, то должны были сплюнуть в пробирку, запечатать ее и потом отдать в лабораторию.
Джон пытался вычислить интенсивность стресса в момент одиночества. Когда человек переживает стресс, учащается сердцебиение и в составе слюны заметно повышается содержание гормона кортизол. Итак, такой эксперимент наконец смог замерить, насколько большим бывает стрессовый эффект от одиночества.
Когда Джон и его сослуживцы оценили результаты[109], они были изумлены. Оказалось, что чувство одиночества максимально увеличивает уровень кортизола. Настолько же, насколько его может повысить самое неприятное событие. Как показал эксперимент, полное одиночество[110] вызывает такой же стресс, как и физическое нападение.
Стоит повториться: чувство одиночества вызывало стресс, аналогичный тому, который вы испытываете, когда вас бьет кулаком незнакомец.
Джон начал копать глубже, чтобы выяснить, изучали ли другие ученые влияние одиночества. Он узнал, что профессор Шелдон Кохен[111] проводил исследование. Он взял группу людей и записал, сколько друзей и здоровых социальных связей они имели. Потом с согласия этих людей он пригласил их в лабораторию и заразил вирусом простуды. Профессор хотел узнать, становятся ли изолированные от общения люди подвержены болезням более, чем неизолированные.
Другой ученый, Лиза Беркман[112], наблюдал за одинокими и общительными людьми в течение девяти лет. Она хотела выяснить, какая из этих групп людей больше склонна к смерти. Обнаружилось, что одинокие люди в два-три раза чаще умирали за этот период. Буквально все становится фатальным, когда человек одинок: рак, сердечные заболевания, даже обычные вирусы простуды.
Собирая по крупицам доказательства, Джон медленно приближался к открытию. Казалось, само по себе одиночество является смертельно опасным. Когда Джон и другие ученые сложили цифры, то обнаружили, что отчуждение от людей вокруг влияет на здоровье так же, как и ожирение[113], считавшееся на тот момент самой большой проблемой со здоровьем западного мира.
Теперь Джон знал, что одиночество производит поразительный физический эффект. В дальнейшем исследовании ему хотелось разобраться, может ли оно вызывать явную эпидемию депрессии и тревоги.
Сначала казалось, что будет трудно разобраться в этом вопросе. Можно опрашивать людей. Вы одиноки? У вас есть депрессия? Вы переживаете тревогу? Они ответят на эти вопросы, и наверняка окажется, что одинокие люди переживают депрессию и тревогу. Но это не многое нам дает, потому что депрессивные и тревожные люди часто боятся мира и социального общения и склонны их избегать. Может оказаться и так, что человек сначала впал в депрессию, а потом стал одиноким. Однако Джон подозревал, что возможно и обратное: человек сначала становится одиноким, и это может заставить его впасть в депрессию.
Он начал искать ответ, используя два совершено разных способа исследования.
Для начала он выбрал 135 человек, переживающих глубокое чувство одиночества. Он привел их в свои лаборатории в Чикагском университете и попросил остаться там на сутки. С ними провели такие интенсивные тесты на выявление разных характеристик личности, что Джон шутил: их можно было бы отправлять с миссией на Марс. Тесты выявили то, что и ожидалось. Одинокие люди переживают тревогу, имеют низкую самооценку, пессимистичны и боятся, что не нравятся другим людям. Теперь Джону надо было найти способ заставить их почувствовать еще большее одиночество. Главное было не навредить им и не сделать чего-то такого, что может вызвать у них панику или, например, чувство, что их осуждают. Как это можно сделать?
Он поделил свою следующую экспериментальную группу на две части: группу А и группу Б. Затем пригласил психиатра Дэвида Спигеля загипнотизировать по очереди каждую группу[114]. Участники группы А вспоминали под гипнозом периоды жизни, когда чувствовали себя по-настоящему одинокими. Группа Б, наоборот, переживала время, когда они были очень привязаны к другому человеку или нескольким людям. Когда участники были введены в состояние сильного одиночества или чрезмерной привязанности к кому-то, их снова протестировали.
Джон выяснил, что если депрессия вызывала чувство одиночества, то усиление его ничего не меняло. Если причиной депрессии было одиночество, то его усиление увеличивало и депрессию.
Открытие, сделанное в результате эксперимента Джона, позднее стало переломным моментом в данном вопросе. Люди, которых приводили в состояние одиночества, заметно впадали в еще большую депрессию. У людей, которым внушали чувство привязанности, заметно ослаблялась депрессия.
– Потрясло то, что одиночество – не просто результат депрессии, – сказал Джон. – В действительности оно само вызывает депрессию.
По его словам, это как момент совпадения отпечатков пальцев в сериале «Место преступления».
– Одиночество, – объясняет он, – определенно играло ведущую роль[115].
Однако вопрос не был решен до конца. Джон знал, что лабораторные условия могут быть искусственными во всех отношениях. Поэтому он начал изучение вопроса совсем в ином направлении.
Сразу за Чикаго в районе графства Кук располагается множество бетонных зданий и во всех направлениях бегут дороги, залитые гудроном. В этом месте Джон начал наблюдать за 229 немолодыми американцами в возрасте от пятидесяти до семидесяти лет. Их отбирали по разным социальным признакам: половина мужчин, половина женщин, треть латиноамериканцев, треть афроамериканцев и треть белых. На момент начала исследования они не были в состоянии депрессии и не страдали от какого-то необычного чувства одиночества. Раз в год они появлялись в лаборатории и проходили целый ряд тестов. Джон изучал их здоровье – и физическое, и психическое. Потом его команда задавала множество вопросов. Насколько одиноко или изолированно они себя ощущают? Со сколькими людьми они контактируют ежедневно? Сколько у них близких людей? С кем они делятся радостью в жизни?
Вот что он стремился узнать. Через какое время у некоторых людей, участвующих в исследовании, разовьется депрессия (что неизбежно для некоторых из них)? Что наступило сначала: одиночество или все же депрессия?
Оказалось, в первые пять лет получения и изучения данных в большинстве случаев одиночество предшествовало появлению депрессии[116]. Люди становились одинокими, после чего возникало чувство глубокой грусти и депрессия. Результат был действительно значимым. Давайте нарисуем линию и отметим на ней шкалу. На одном ее конце одиночество составляет 0 %. На другом – 100 %. Если человек находился в точке 50 %, а потом переместился на 65 %, то шансы развития симптомов депрессии увеличиваются в восемь раз.
Факты, которые Джон обнаружил благодаря этим двум исследованиям, а также и многим другим, привели к ключевому заключению. Джон сделал вывод, что одиночество вызывает огромное количество случаев депрессии и тревоги в нашем обществе.
Совершив это открытие, Джон начал задавать вопрос почему. Почему одиночество так часто вызывает депрессию и тревогу?
Он стал подозревать, что тому могла быть весомая причина. Сначала люди обитали на просторах африканских саванн. Жили маленькими племенами охотников и сборщиков съедобной растительности. Численность племен была немногим больше 100 человек. Мы существуем только благодаря одной причине: те люди научились взаимодействовать. Они делились пищей. Они ухаживали за больными. «Они могли завалить очень большое животное, – говорил Джон, – но только потому, что они работали вместе». Они имели смысл только в группе. «Каждое известное нам земледельческое общество имело одну и ту же базовую структуру, – писал он одному из своих коллег. – В исключительно неблагоприятных условиях они с трудом выживали. Но тем, что выживали вообще, они обязаны плотной паутине социальных контактов и огромному числу взаимных обязанностей, которые они несли. В этих природных условиях связь и социальное взаимодействие не должны были искусственно насаждаться… Природа и есть взаимодействие»[117].
А теперь представьте: в этих саваннах человек оказался отрезанным от группы на долгое время. Это означало, что ему грозит ужасная опасность. Он легкая добыча для хищников. Если он заболеет, нет никого, кто бы мог его выходить. И племя без него также более уязвимо. В такой ситуации человек чувствует себя ужасно, и это закономерно[118]. Это срочный сигнал[119] от организма и мозга вернуться в группу любым доступным способом.
Отсюда следует, что любой человеческий инстинкт заточен не для жизни самому по себе, а для жизни в общине. Люди должны принадлежать роду[120], как пчелы улью.
По словам Джона, чувство страха и бдительность, вызванные долгим одиночеством, зарождали здравомыслие. Они толкали людей вернуться в группу. Отсюда следовало одно. Пребывание в общине – стимул правильного обхождения с людьми, иначе будешь изгнан.
– Стремление к защите взаимосвязей в племени, – объясняет он, – просто приводит к лучшему выживанию.
Или, как он говорил мне позже, одиночество – состояние отвращения, которое мотивирует нас к возобновлению общения.
Это помогает нам понять, почему одиночество так часто сопровождается чувством тревоги. «Эволюция приспособила нас[121] не только комфортно чувствовать себя в обществе, но и чувствовать себя в безопасности, – пишет Джон. – Жизненно важный вывод в том, что эволюция способствовала тому, что мы чувствуем себя не только плохо, когда изолированы от людей, но и небезопасно».
Получалась красивая теория. Джон начал думать о том, как ее проверить. Оказывается, до сих пор есть люди, которые живут так же, как это было на ранних ступенях эволюции. Например, в Южной Дакоте есть очень обособленная, сильно религиозная коммуна хаттерайтов[122] (Hutterites), немного напоминающая наиболее фундаментальное крыло амишей. Они живут охотой, собирательством и натуральным хозяйством. Работают, питаются, молятся и отдыхают вместе. Каждому приходится с кем-нибудь общаться все время. (Как вы узнаете позже, в своем путешествии я посещал подобную группу.)
Джон объединился с антропологами, которые изучали хаттерайтов не один год, чтобы выяснить, насколько те одиноки. Есть один очень точный способ. Любой человек, считающий себя одиноким, во время сна переживает нечто под названием «микропробуждение». Это короткие моменты, которые он не вспомнит после пробуждения. Но во время них человек как бы немного отрывается от состояния сна. Все животные, ведущие стадный образ жизни, делают то же самое, когда находятся в изоляции. Это объясняется тем, что, засыпая, одинокий человек не чувствует себя в безопасности. Древние люди в буквальном смысле не были в безопасности, если спали вне племени. Подсознательно человек ощущает, что никто не прикрывает ему спину, поэтому мозг не дает крепко уснуть. Замер таких «микропробуждений» – прекрасный способ оценки чувства одиночества. Итак, команда Джона подключила датчики к хаттерайтам, чтобы выяснить, сколько «микропробуждений» у них случается каждый раз во сне.
Оказалось, что «микропробуждения» практически отсутствуют у хаттерайтов[123]. Джон объяснял мне:
– Мы обнаружили, что в общине самый низкий в мире уровень чувства одиночества. Меня реально это поразило.
Исследование показало, что одиночество не является неизбежной человеческой бедой, как, например, смерть. Оно продукт нашего образа жизни.
Когда моя мама переехала в Эдгвэер и поняла, что здесь нет общины, а есть лишь вежливые кивки головой и запертые двери, она решила – что-то не так с Эдгвэером. Оказывается, наш пригород был совершенно обычным.
Несколько десятилетий гарвардский профессор Роберт Патнам[124] документирует одну из наиболее важных черт нашего времени. Существует множество способов, когда люди могут собраться в группы для общего дела: спортивные команды, хор, волонтерская группа, просто регулярный совместный обед. Он десятилетиями подсчитывал, как часто мы это делаем, и обнаружил, что все находятся в свободном падении. Он привел пример, ставший известным. Боулинг – один из самых популярных видов досуга в США. Раньше люди объединялись в лиги для его проведения. Они становились командой, которая соревновалась с другой командой. Люди общались и узнавали друг друга лучше в процессе игры. Сегодня люди по-прежнему играют в боулинг, но только сами с собой. Они на собственной дорожке играют сами по себе. Коллективная структура рухнула.
Подумайте о чем-либо еще, что мы делаем, собравшись вместе. Например, поддержка школы, куда ходит ваш ребенок. «За короткие десять лет между 1985-м и 1994-м[125], – писал профессор Патнам, – активное вовлечение в общественные организации сократилось на 45 %». Просто за десять лет (годы моего подросткового возраста, когда я как раз впал в депрессию) во всем западном мире мы переставали собираться в группы и оказывались запертыми в собственных домах.
Мы выходили из общин и замыкались в себе, объяснял Роберт во время нашего разговора. Эти тенденции происходят с 1930-х, но скорость их резко увеличилась в наше время.
Это означает одно. Осознание людьми, что они живут в обществе или даже то, что у них есть друзья, на которых можно положиться, стремительно падает. Например, в течение нескольких лет ученые-социологи проводили опрос среди всех слоев населения США. Они задавали один простой вопрос: сколько у вас есть знакомых, которым вы можете доверять? Они хотели узнать, к скольким людям человек может обратиться в критический момент или поделиться своей радостью. Когда они начали исследование несколько десятков лет назад, среднее количество близких друзей для американца составляло три человека. К 2004 году самым типичным ответом было «ни одного»[126].
На этом стоит остановиться. В настоящий момент больше американцев, у которых нет близких друзей, чем тех, у кого они есть.
Данные исследования Роберта Патнама показали, что и в семье происходит то же самое. Мы реже собираемся вместе за столом, реже вместе смотрим телевизор, реже отправляемся в отпуск вместе. «В действительности все формы семейной близости[127], – Патнам показывает множество графиков и исследований, – стали менее привычными за последнюю четверть двадцатого века». Существуют аналогичные показатели для Великобритании и остальной части западных стран.
Мы сотрудничаем друг с другом меньше, чем любое поколение человечества до нас. Задолго до экономического краха 2008 года произошел социальный крах, в котором мы оказались брошенными и переживающими одиночество большую часть времени. Структура, где обращали внимание друг на друга – в семье или по соседству, – развалилась. Мы распустили свои общины. Мы запустили эксперимент: могут ли люди жить по одному.
Однажды, собирая материал для этой книги, я оказался в Лексингтоне, Кентукки. В последний вечер пребывания в городе у меня закончились наличные и я снял дешевый номер в мотеле рядом с аэропортом. Это была настоящая бетонная дыра, рядом с которой постоянно взлетали самолеты. Выходя из своего крохотного номера, я заметил, что дверь в соседнюю комнату постоянно открыта, включен телевизор, а на кровати сидит мужчина средних лет в странной и неудобной позе и слегка покачивается.
Проходя мимо в пятый раз, я остановился и спросил, что у него случилось. Он рассказал мне голосом, который было очень трудно понять, что подрался несколько дней назад со своим пасынком (он не говорил почему). Тот избил его и сломал челюсть. Недавно он был в больнице, его будут оперировать через двое суток, а пока выписали рецепт обезболивающих препаратов и отправили из больницы. Проблема в том, что у него нет денег на лекарство, поэтому он сидит здесь и плачет в одиночестве.
Я хотел спросить: «Разве у вас нет друзей? Разве нет никого, кто мог бы вам помочь?» Но было понятно, что у него никого нет. Поэтому он сидел там с разбитой челюстью и тихо плакал.
Когда я был маленьким, то никогда осознанно не скучал по тому, что являлось социальными связями. Однако, общаясь с учеными, изучающими чувство одиночества, я вспомнил нечто незначительное. Все свое детство, вплоть до подросткового возраста, я мечтал, и вот о чем. Друзья моих родителей были разбросаны по всей стране, и мы виделись с ними несколько раз в году. Я мечтал, чтобы они приехали жить на нашу улицу. Тогда я бы мог приходить и сидеть с ними, когда дома у нас были трудные времена. А такое случалось часто. Я грезил об этом наяву каждый день. Но на нашей улице жили такие же изолированные и одинокие люди.
Однажды я услышал, как комедийная актриса Сара Силверман рассказывала в радиоинтервью о том, как ее впервые охватила депрессия. Это случилось в ранние подростковые годы. Когда ее мать и отчим спросили, что с ней, она не могла найти слов для объяснения. Но потом она сказала, что скучает по дому, точно так же, как тогда, когда была в летнем лагере. Она рассказывала это в замешательстве Терри Гросс[128], ведущей программы «Fresh Air» на Национальном общественном радио США. Она скучала по дому. Но она была дома.
Думаю, я понимаю, что с ней происходило. Когда сейчас мы говорим о доме, подразумеваем просто четыре стены и (если повезет) ближайшее семейное окружение. Но это не то, что означало слово «дом» для людей, предшествующих нам. Для них это была община – плотное скопление людей вокруг, племя. Все это давно ушло. Наше чувство дома настолько сошло на нет, что оно не соответствует нашей потребности в чувстве принадлежности. Поэтому мы и скучаем по дому, даже когда мы там.
Когда Джон доказывал, какое воздействие одиночество оказывает на людей, другие ученые исследовали то же самое на животных. Например, профессор Марта Макклинток[129] разделила лабораторных крыс. Одни развивались изолированно в клетке, другие – в группе. У изолированных крыс развитие рака груди наблюдалось в восемьдесят четыре раза чаще, чем у крыс, проживающих в группе.
За многие годы экспериментов и исследований Джон заметил жестокий поворот в этой истории.
МРТ-сканирование мозга людей, страдающих от одиночества, показывало одно интересное отличие. Они улавливали потенциальные угрозы за 150 миллисекунд, тогда как неодиноким людям требовалось на это в два раза больше времени – 300 миллисекунд. Что же происходило?
Длительное чувство одиночества заставляет людей закрываться от общества и относиться к социальным контактам с большей опаской, заметил Джон. Люди становятся гипербдительными. Они начинают больше обижаться там, где никто и не собирался их обижать, или со страхом относиться к незнакомым людям. Они начинают бояться всего того, в чем больше всего нуждаются. Джон называет это эффектом «снежного кома», когда любой отказ от общения по спирали влечет за собой следующий отказ.
Одинокие люди сканируют опасность, потому что на подсознательном уровне знают, что до них нет никому дела и им никто не поможет в случае травм. Джон узнал, что эффект «снежного кома» может быть обратным. Но чтобы помочь людям с депрессией и сильной тревогой освободиться от него, им нужно больше любви, чем требовалось до этого.
Джон понял: трагедия в том, что люди с депрессией и тревогой, становясь более трудными для окружающих, получают меньше любви. По сути, их осуждают, критикуют и тем самым подталкивают к тому, чтобы они быстрее спрятались от мира. Они оказываются еще более отчужденными.
После долгих лет изучения одиноких людей Джон поймал себя на том, что задается на удивление простым вопросом. Что есть одиночество? Ответить на него оказалось неожиданно сложно. Когда он спрашивал людей «Вы чувствуете себя одинокими?» – совсем не сложно было понять, о чем он говорит. Но было сложно выразиться. Сначала я сильно об этом не задумывался и понимал это как чисто физическое одиночество – быть лишенным контактов с людьми. Я рисовал себе старую женщину, слишком слабую, чтобы выходить из дома, и которую никто не приходит навестить.
Однако Джон обнаружил, что это не так. Исследования показали, что чувство одиночества не то же самое, что быть одному. Как ни странно, но ощущение одиночества не зависело от того, с каким количеством людей вы разговаривали каждый день или каждую неделю. Некоторые люди, принимавшие участие в его исследованиях, чувствовали себя в высшей степени одинокими и общались с множеством людей каждый день.
– Существует относительно слабое сходство между объективными и воспринимаемыми связями, – говорит Джон.
Я был в недоумении, когда Джон впервые сказал мне об этом. Но потом он предложил мне представить себе человека в городе, где он едва ли кого-нибудь знает. Он пойдет на главную площадь вроде Таймс-сквер, Вегас-Стрип или Плас-де-ла-Република. Он не будет там один: место просто переполнено народом. Но он почувствует себя одиноким, и скорее всего, очень одиноким.
Или представьте себе переполненную больничную палату. Вы там не одни. Вокруг вас пациенты. Вы можете нажать кнопку вызова, и через несколько секунд с вами будет медсестра. И все же практически любой чувствует себя одиноко в подобной ситуации. Почему?
Проводя исследование, Джон заметил исчезающую составляющую одиночества и избавления от него. Чтобы покончить с одиночеством, требуются другие люди и кое-что еще. Человеку нужно чувствовать, что он разделяет что-то с другим человеком или группой и это значимо для всех них. Человеку нужно находиться в этом с кем-то, и «этим» может быть все, что угодно. Главное – обе стороны должны считать его значимым и ценным. Когда кто-то находится на Таймс-сквер в первый день в Нью-Йорке, он там не одинок, но чувствует себя одиноко, потому что никому нет дела до него и ему все равно до окружающих. Он не делится своей радостью или тревогой. Он никто для людей вокруг, и они никто ему.
Пациент в больнице тоже не одинок. Однако помощь оказывается только в одном направлении. Медсестра находится для того, чтобы помочь ему, а он не может ей помочь. Даже если попытается, его попросят прекратить это делать. Односторонние отношения не могут излечить от одиночества. Только двусторонние (и более) могут это сделать.
Одиночество не является физическим отсутствием других людей, утверждает Джон. Это чувство возникает, когда человек не может разделить с другим человеком то, что важно для него. Если вокруг много народу (возможно, даже муж или жена, семья или коллеги), но он не разделяет с ними важных для них вещей, он все равно останется одиноким. Для того чтобы покончить с одиночеством, необходимо иметь ощущение «взаимопомощи и защиты» по крайней мере с одним человеком. В идеале с большим количеством людей. Такие выводы сделал Джон.
Я много думал об этом. Спустя несколько месяцев после последнего разговора с Джоном я продолжал обращать внимание на поддерживающие фразы, которые люди говорят друг другу все время. Мы говорим друг другу: «Только ты сам можешь себе помочь».
Все это заставило меня понять: мы не только делаем все больше вещей в одиночку. Начиная с 1930-х мы начали верить, что делать все в одиночку[130] – естественное состояние человека и единственный способ двигаться вперед. Мы начали думать, что сами позаботимся о себе. И все остальные пусть заботятся о себе сами, каждый в отдельности. Никто, кроме тебя самого, не может тебе помочь. Никто не поможет мне, кроме меня. Эти мысли настолько глубоко засели в нашем сознании, что мы даже бросаем их, как обычные фразы, людям, которые сильно подавлены. Как будто это может взбодрить их.
Джон доказал, что это является отрицанием человеческой истории и человеческой природы. Оно приводит нас к неправильному пониманию наших самых основных инстинктов. И такой подход к жизни заставляет нас чувствовать себя ужасно.
Вернемся назад, в 1970-е, когда впервые Джон стал задавать вопросы. Профессора считали, что социальные факторы совсем не относятся к делу (или это слишком сложно изучать), если пытаться выяснить, что происходит с мозгом при переменах настроения и чувств. Годы спустя Джон решительно доказал абсолютно обратное: они могут иметь решающее значение. Он основал школу иного понимания мозга, и она стала известна под названием «социальная неврология»[131]. Мозг меняется в зависимости от того, как мы его используем. Джон говорил мне:
– Понятие, что мозг статичен и постоянен, неверно. Он меняется.
Одиночество вызывает изменения в мозге. Исцеление от одиночества также изменяет его. Поэтому если не учитывать и мозг, и социальные факторы, которые вызывают в нем изменения, то невозможно понять, что происходит с ним на самом деле.
Наш мозг никогда не был островом. Он не является им и сейчас.
Все же есть явное опровержение всем этим доказательствам нашего изолированного состояния. Оно не давало мне покоя. Да, мы теряем один вид связи, но не приобретаем ли мы новый?
Я просто открыл Facebook. Вижу семьдесят своих друзей с разных континентов сейчас онлайн. Я мог бы поговорить с ними прямо сейчас. Собирая материал для книги, я постоянно сталкивался с этим противоречием. Я путешествовал по всему миру, изучая, насколько мы все разрозненны. Но стоило мне включить компьютер, и я видел, что связь между нами не была крепче ни в какой момент истории человечества.
Очень много было написано о нашей ментальной миграции в киберпространство и о том, что мы при этом чувствуем. Когда я начал углубляться в эту тему, я понял, что мы упускаем из виду очень важный момент. Интернет вышел на арену, пообещав нам связь с миром с самого начала, но в это время силы разъединения достигли своего пика.
Я по-настоящему стал понимать, что все это значит, когда посетил первый реабилитационный центр интернет-зависимых в Соединенных Штатах. Однако нам придется вернуться назад, чтобы увидеть, как все это создавалось.
Однажды в середине 1990-х молодой человек двадцати пяти лет вошел в кабинет доктора Хилари Кэш, расположенный недалеко от офисов «Майкрософт» в штате Вашингтон. После разговора ни о чем, положенного по этикету, он начал рассказывать ей о своей проблеме.
Джеймс родом из небольшого городка[132], был всегда звездой в собственной школе. Он прекрасно сдал экзамены, стал капитаном одной из спортивных команд. Почти шутя поступил в Лигу Плюща и горделиво покинул родное общество. А потом он приехал во всемирно известный университет, и его охватил ужас. Впервые в жизни он не был самым умным мальчиком среди остальных. Он смотрел на то, как люди разговаривают, на традиции, в которых он должен был принимать участие, на странные общественные группы, которые создавались, и чувствовал себя абсолютно одиноким. Когда другие общались между собой, он уходил в свою комнату, включал компьютер и начинал игру под названием EverQuest. Это была одна из первых игр, где можно было играть с множеством анонимных игроков в киберпространстве. Таким образом он мог общаться с людьми, но это был мир с понятными точными правилами, где Джеймс снова что-то значил.
Джеймс стал пропускать лекции и консультации с тьютором, играя в EverQuest. Шли месяцы, и игра все больше и больше затягивала его. Он исчезал в электронном мире. Спустя время администрация университета предупредила его, что он не может продолжать в таком же духе. Но он по-прежнему возвращался к игре, словно это была тайная любовница, которой он был одержим.
Когда его исключили из университета, люди в родном городе были шокированы. Джеймс женился на школьной подружке и пообещал ей бросить играть. Он нашел работу с компьютерами и, казалось, медленно возвращался на свои рельсы. Однако когда он чувствовал себя одиноким или сбитым с толку, то испытывал настоящую ломку. Однажды вечером он дождался, когда жена уснула, выскользнул из спальни и включил EverQuest. Очень скоро это стало моделью поведения. Он превратился в тайного маниакального игрока. Как-то раз он дождался, пока жена уйдет на работу, и остался дома, сославшись на плохое самочувствие. Весь день Джеймс играл. Это тоже стало моделью. Со временем, как и в университете, работодатели сказали ему, что вынуждены его уволить. Молодой человек не мог сказать об этом жене, поэтому начал оплачивать счета кредитной картой. Чем сильнее становился его стресс, тем больше он играл.
К тому моменту, как Джеймс вошел в кабинет Хилари, все уже развалилось. Жена поняла, чем он занимается, и он был склонен к самоубийству.
Хилари не была специалистом проблемных отношений с Интернетом, потому что тогда, в 1990-х, их вообще не было. Но она принимала все больше и больше пациентов, как и Джеймс вынужденных проводить жизнь онлайн. Была женщина, зависимая от онлайн-чатов. На ее мониторе всегда было открыто не менее шести окон, и она представляла, что у нее романтические отношения или виртуальный секс сразу со всеми собеседниками. Был еще один молодой человек, который не мог бросить играть в онлайн-версию «Подземелье и Драконы». Такие пациенты все шли и шли[133].
Хилари не знала, что делать, когда это началось.
– Сначала в большинстве случаев я действовала инстинктивно, – рассказывала она мне, когда мы обедали где-то на окраине Вашингтона. По лечению таких проблем не было справочников. Теперь, вспоминая своих первых пациентов, она говорила: – Мне казалось, что я видела тонкую струйку перед большим потоком. И этот поток превращается в цунами.
Я вышел из машины на лесной поляне. Меня окружали клены и кедры, слегка покачивающиеся на ветру. Из дома, напоминающего фермерский, ко мне бежала, тявкая, собачка. Откуда-то издалека доносились звуки других животных, но я не мог точно различить каких и откуда. Я стоял перед реабилитационным центром зависимых от Интернета и компьютерных игр под названием «reSTART Life», одним из основателей которого стала Хилари десять лет назад.
Чисто машинально, не задумываясь, я проверил телефон. Не было сигнала сети, и как-то внезапно я почувствовал отголоски раздражения.
Сначала двое пациентов показали мне центр[134]. Мэтью, худощавому молодому американцу китайского происхождения, было около двадцати пяти. Митчеллу, белому американцу, лет на пять больше. Он походил на красивого лысеющего монаха. «Вот спортивный зал, – объясняли они. – Мы здесь занимаемся со штангами. Это комната для медитаций, где мы учимся созерцать. Это кухня, здесь мы учимся готовить».
Потом мы сидели в лесу, сразу за центром, и разговаривали. Мэтью рассказывал о временах, когда чувствовал себя одиноким:
– Я прятал свои чувства и использовал компьютер как средство побега.
С подросткового возраста он стал одержимым игрой «Лига легенд».
– В нее играют командами по пять человек, – рассказывал он. – Все выступают вместе для достижения общей цели, и у каждого свои задачи. Это очень сложно… Я чувствовал себя счастливым, средоточившись на игре.
До прихода в центр он играл по четырнадцать часов в день. Он всегда был худощавым. Потом похудел еще почти на четырнадцать килограммов, потому что не хотел прерывать игру даже для того, чтобы поесть. Он говорит:
– Я просто просиживал за игрой почти все время.
Рассказ Митчелла немного отличался. Он с детства избегал одиночества, вызываемого трудной домашней обстановкой, и собирал всевозможную информацию обо всем, что могло его заинтересовать. Ребенком он складировал кипы газет у себя под кроватью. В двенадцать лет Митчелл открыл для себя Интернет и начал распечатывать все, что находил полезного, в огромных количествах, «пока не падал в обморок». Он никогда не умел регулировать свои умения поиска информации, например говоря себе: «Все, я узнал достаточно». Когда он получил место разработчика ПО, ему давали задания, от которых он чувствовал себя подавленным. Ему казалось, что он бесконечно ползает по кроличьим норам в Интернете. В любое время у него было открыто по три сотни вкладок.
Казалось, что я очень хорошо понимал Мэтью и Митчелла. Типичный представитель западного мира[135] в XXI веке смотрит на телефон через каждые шесть с половиной минут. Подросток отправляет в среднем около сотни SMS в день. 42 % из нас никогда не отключают телефон. Никогда.
Когда мы ищем объяснение тому, почему все изменилось, нам постоянно говорят, что причина главным образом внутри самих технологий. Мы говорим о том, как каждый e-mail, приходящий на наш адрес, понемногу снижает у нас дофамин. Мы говорим, что в самих смартфонах есть что-то, вызывающее зависимость. Мы виним девайсы. Пока я находился в реабилитационном центре зависимых от Интернета и размышлял над своим опытом его использования, мне стало интересно, есть ли другое и более правдоподобное мнение на этот счет.
Хилари рассказывала, что у всех людей, которых они лечат в центре, есть нечто общее. Они все переживали тревогу или депрессию, пока не погружались в зависимость. По ее словам, для пациента интернет-зависимость – средство «убежать от тревоги за счет того, что это отвлекает. Для 90 % пациентов это так».
До того как появлялась интернет-зависимость, они чувствовали себя потерянными и одинокими в окружающем мире. А потом мир онлайн предлагал этим молодым людям то, чего они так жаждали, но не могли достичь в окружающем мире. Например, цели, которые имеют значение, или статус, или общество. Хилари рассказывает:
– Очень популярны игры с множеством игроков, где один становится частью гильдии, то есть команды. В ней он должен заработать свой статус. Плюс здесь в том, что эти парни говорят: «Я часть команды. Я знаю, как общаться со своими парнями». Суть в фанатичной приверженности к своей группировке. Как только человек с этим сталкивается, то может погрузиться в альтернативную реальность и полностью потерять понимание того, где он находится. Для него становятся наградой трудные задачи, возможность сотрудничества, община, к которой он принадлежит и где у него есть статус. Он можете контролировать здесь больше, чем в реальном мире».
Я много думал об этом. И о том, что вынужденному использованию Интернета предшествовали депрессия и тревога. Хилари поясняла, что вынужденное использование Интернета было порочной попыткой избавиться от боли, которую они уже переживали и которая частично была вызвана чувством одиночества. Что, если это относится не только к людям, находящимся в центре реабилитации, но и к очень многим из нас?
В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ УЧЕНЫЕСОЦИОЛОГИ ПРОВОДИЛИ ОПРОС СРЕДИ ВСЕХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ США. ОНИ ЗАДАВАЛИ ОДИН ПРОСТОЙ ВОПРОС: СКОЛЬКО У ВАС ЕСТЬ ЗНАКОМЫХ, КОТОРЫМ ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ? ОНИ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ, К СКОЛЬКИМ ЛЮДЯМ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В КРИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОЕЙ РАДОСТЬЮ. КОГДА ОНИ НАЧАЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ЛЕТ НАЗАД, СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙ ДЛЯ АМЕРИКАНЦА СОСТАВЛЯЛО ТРИ ЧЕЛОВЕКА. К 2004 ГОДУ САМЫМ ТИПИЧНЫМ ОТВЕТОМ БЫЛО «НИ ОДНОГО».
Интернет зародился в мире, где уже многие люди утратили чувство взаимосвязи. К тому моменту крушение продолжалось не одно десятилетие. Возникновение паутины предлагало им пародию того, что они теряли: друзей на Facebook вместо соседей, видеоигры вместо полезной работы, обновление статуса вместо положения в обществе. Комик Марк Марон[136] однажды написал, что «каждое обновление статуса – лишь простая вариация единственной просьбы: пожалуйста, признайте меня».
Хилари рассказывала мне:
– Если общество, к которому человек относится, не здорово, то каждый его индивидуум тоже будет не здоров. Поэтому я часто об этом думаю в последнее время. А потом, – она посмотрела по сторонам, пропуская волосы сквозь пальцы, – чувство разочарования.
Она пришла к мысли, что мы живем в обществе, где люди «не имеют достаточно взаимосвязей, чтобы быть здоровыми». По этой причине мы не можем отложить свои смартфоны или отключиться от сети. Мы говорим себе, что так много времени проводим в киберпространстве потому, что когда мы там, мы на связи и подключены к головокружительной вечеринке с миллиардом людей.
– Это такой backspace, – сказала Хилари.
Она совсем не против технологий. Она есть на Facebook, и ей нравится. Но это не то, что нам нужно в душе, считает она.
– Связь, которая нам нужна, – она жестом указала на меня и себя, – та, где мы видим лицо друг друга, прикасаемся, обоняем и слышим друг друга… Мы общественные существа. Мы должны быть связаны друг с другом заботой и любовью, а когда между нами экран, их нет.
Разница между интернет-общением и реальным общением немного похожа на разницу между порнографией и сексом. Первая устраняет основной зуд, но никогда не удовлетворяет. Хилари посмотрела на меня, потом взглянула на мой телефон на столе:
– Технологии с экраном в качестве посредника не дают нам то, что действительно требуется людям.
Незадолго до моего отъезда из реабилитационного центра Митчелл, тот, который напоминал монаха, сказал, что хочет мне кое-что показать.
– Просто удивительная вещь происходит вот тут, – говорил он мне, пока мы шли. – На дереве есть яйцо паука. Вы согласитесь, что это оно, если смотрели мультфильм «Паутинка Шарлотты». В конце фильма появляются паучки. Они вытягивают маленькие нити и ускользают по ним. То же самое происходит и здесь! Всякий раз, когда налетает сильный бриз, вы видите, как нити выстреливают с вершины дерева.
Он простаивал здесь часами с другими пациентами центра и обсуждал эту паутину. Он посмотрел на одного из парней и улыбнулся.
В другой ситуации это показалось бы мне сентиментальным до тошноты. Посмотрите, интернет-наркоман переключается от мировой паутины на радости созерцания настоящей и живое обсуждение ее с другими людьми! На лице Митчелла светилась настоящая радость, и это меня остановило. Мы оба долго смотрели на нее. Он, не отрывая глаз, тихо сказал:
– Это так интересно, но я никогда не замечал такого раньше.
Меня это тронуло, и я пообещал себе сделать выводы из этого случая.
Когда я был уже в десяти минутах езды от центра, ощутил, как меня кольнуло чувство одиночества, и заметил, что вернулись мои телефонные рефлексы. Я сразу же просмотрел электронную почту.
Сейчас, когда мои родители приезжают в свои родные места, где связи между людьми были такими прочными в их детстве, они находят, что и их родина превратилась в еще один Эдгвэер. Люди кивают друг другу и закрывают двери. Такое отчуждение распространилось по всему западному миру. Джон Кейсиоппо, который так многого поведал нам об одиночестве, очень любит цитировать биолога Э. О. Уилсона: «Люди должны принадлежать роду». Пчела сходит с ума, потеряв улей. Так же и человек сходит с ума, потеряв связь с обществом.
Джон открыл, что мы, даже не намереваясь, стали первыми людьми, разрушившими свои общины. В результате очутились в одиночку в саванне, которую не понимаем, а потом удивляемся собственной грусти.
Глава 8
Причина третья: уход от значимых ценностей
Почти в тридцать лет я стал очень полным. Частично моя полнота была вызвана побочным эффектом антидепрессантов, а частично – жареными цыплятами. Я до сих пор могу по памяти перечислить все места в Восточном Лондоне, где подавали жареных цыплят. Они стали главным продуктом моего рациона. «Чиккен Коттидж», «Теннесси Фрайд Чиккен» с логотипом мультяшного улыбающегося цыпленка, держащего ведро жареных куриных ножек. Кто бы знал, что каннибализм мог бы стать эффективным маркетинговым инструментом? Мой любимый магазин назывался ярко – «Чиккен, Чиккен, Чиккен». Их горячие крылышки были моей Моной Лизой.
Однажды в канун Рождества я зашел в местный KFC. Один из работников кафе, увидев меня, засиял от радости.
– Йоханн, у нас есть кое-что для тебя! – сказал он.
Другой повернулся и посмотрел на меня, словно чего-то ждал. Откуда-то из-за печи он достал рождественскую открытку. Под их выжидательными улыбками я вынужден был открыть ее. Рядом с надписью «Лучшему нашему клиенту» были пожелания каждого из сотрудников.
Я больше никогда не ел в KFC.
Большинство из нас понимают: что-то неладное творится с нашим рационом. Не все становятся чемпионами по потреблению жира, как я, но все больше и больше людей питаются неправильно. Это подрывает наше здоровье. Изучая депрессию и тревогу, я начал понимать, что подобное происходит и с нашими ценностями. Поэтому многие приобретают эмоциональные болезни.
Первым это обнаружил американский психолог Тим Кассер, поэтому я отправился познакомиться с ним и послушать его историю.
В детстве Тим приехал жить в центр болотистой местности с открытыми пляжами. Его отец был менеджером в страховой компании. В начале 1970-х его отправили в местечко под названием Пинеллас Каунти, что находилось на западном побережье Флориды. Район был мало застроен, и для ребенка на улице было полно места для игр. Однако это место вскоре стало одним из самых быстро развивающихся во всей Америке, и это все разворачивалось перед глазами Тима.
– К тому моменту, как я уехал из Флориды, – рассказывал он, – она превратилась в совсем иное место с точки зрения физического окружения. Больше нельзя было ехать вдоль пляжей и смотреть на воду, потому что везде были жилищные товарищества и высотки. Районы, где раньше были открытые просторы с аллигаторами и гремучими змеями, превратились в кварталы и торговые центры.
Как и других детей, Тима влекло к торговым центрам, возникшим на местах пляжей и болот. Там он часами играл в «Астероиды» и «Пришельцев из космоса». Вскоре он заметил, что его неудержимо тянет к игрушкам, которые он видел в рекламе.
Это напоминает мне Эдгвэер, откуда я сам. Мне было восемь или девять, когда открылся торговый центр «Броудволк Центр». Помню, как я бродил среди витрин и смотрел не отрываясь на вещи, которые хотел купить, пребывая в триллерском трансе. Я жаждал зеленый пластмассовый игрушечный «Кастл Грейскалл», крепость, где обитал герой мультфильма Хи-Мен, а еще «Кеэ-э-Лот», дом анимешных созданий по прозвищу Мишки Кеэ. Однажды в Рождество мама проигнорировала мои намеки и не купила мне «Кеэ-э-Лот», и я был подавлен несколько месяцев. Я ныл и тосковал по тому куску пластика.
Как большинство детей того времени, я проводил по крайней мере по три часа в день перед телевизором. Обычно даже больше. В летние каникулы я отрывался от телевизора, только когда шел погулять по «Броудволк Центру». Не помню, чтобы мне сказали это прямо, но я считал, что счастье заключается в способности купить как можно больше из того, что выставлено там в витринах. Думаю, если бы кто-нибудь спросил меня тогда, что такое счастье, я бы ответил: «Гулять по «Броудволк Центру» и покупать все, что хочется». Я постоянно спрашивал отца, сколько зарабатывает знаменитость, которую видел на экране. Он старался угадать, а потом мы с восторгом обсуждали, на что могли бы потратить все эти деньги. Это превратилось в немного связывающий нас ритуал фантазийных растрат.
Я спросил Тима, слышал ли он когда-нибудь в Пинеллас Каунти, где он рос, что говорят о счастье с иной позиции, чем покупка и обладание вещами.
– Думаю, нет. Во всяком случае, пока рос, – сказал он.
Полагаю, в Эдгвэере были люди, которые руководствовались другими ценностями, только, по-моему, они мне никогда не встречались.
Когда Тим был подростком[137], его тренер по плаванию, уезжая на лето, подарил ему маленькую коллекцию музыкальных записей. В ней были альбомы Джона Леннона и Боба Дилана. Слушая их, он понимал, что певцы стараются выразить то, чего он нигде больше не слышал. Он стал задумываться, а не прячутся ли под их стихами намеки на другой образ жизни. Но ему не с кем было это обсудить.
Только когда Тим поступил в Вандербильтский университет (очень консервативное заведение на юге), до него очень медленно стало доходить, что обо всем этом нужно глубже задумываться. В 1984 году он проголосовал за Рональда Рейгана, но начал очень серьезно задумываться над вопросом подлинности.
– Я спотыкался обо все вокруг меня, – рассказывал он мне. – Думаю, я задавался вопросами буквально обо всем. Я не просто задавал вопросы о ценностях. У меня возникало много вопросов о себе, о природе реальности и ценностях общества.
Ему казалось, что его везде окружали пиньяты[138], а он хаотично на них натыкался.
– Честно говоря, думаю, что проходил эту стадию своего развития очень долго, – добавил он.
В старшей школе Тим стал много читать о психологии. Приблизительно в это время он начал осознавать нечто странное.
На протяжении нескольких тысяч лет философы[139] говорили, что, если вы переоцениваете роль денег и собственности или представляете свою жизнь с точки зрения других людей, вы не будете счастливы. Это были ценности Пинеллас Каунти и Эдгвэера, и они были ошибочными. Об этом говорилось много лучшими умами из когда-либо живших. Тим подумал: возможно, это так и есть. Но никто и никогда не проводил научных исследований, чтобы узнать, правы ли были все эти философы.
Осознание этого заставило его начать проект, которому он собирался посвятить следующие двадцать пять лет своей жизни.
Все началось с простого опроса в классах старшей школы. Тим предложил его как способ измерения степени реальной важности для человека вещей и денег по сравнению с другими ценностями. Например, совместное с семьей времяпрепровождение или попытка сделать мир лучше. Он назвал опрос «Индексом устремленности»[140]. В нем все было довольно просто. Людей спрашивали, насколько они согласны с такими утверждениями: «важно иметь в собственности дорогие вещи» или «важно изменить мир к лучшему».
Одновременно с этим людям задавали много других вопросов. Один из них – счастливы ли они или страдают (или страдали) от депрессии и тревоги.
Первая предварительная часть исследования Тима заключалась в опросе 316 студентов. Когда он получил результаты[141] и подсчитал их, он был шокирован ими. Материалисты, считавшие, что счастье приходит с накопительством собственности и высокими статусами, имели более высокую степень депрессии и тревоги.
Тим понимал, что это просто первый выстрел в темноте наугад. Следующим шагом его большого исследования стал поиск клинического психолога. Он должен был оценить 140 человек в возрасте восемнадцати лет и определить, переживают ли они депрессию и испытывают ли тревогу. Сложив результаты, они получили то же самое. Чем больше подростки ценили возможность приобретать вещи[142], тем больше они страдали от депрессии и тревоги.
Тогда возник вопрос. Такое происходит только с молодыми людьми? Чтобы выяснить это, Тим опросил сотню жителей Рочестера, находящегося в северной части штата Нью-Йорк. Это были люди разных возрастных групп и экономического положения. Результат был тот же.
Тим очень хотел выяснить, что происходит и почему.
Следующим его шагом было проведение более детального исследования, которое должно было определить, как эти ценности влияют на нас с течением времени. Он отобрал 192 студента. Они должны были вести подробный дневник настроения. В нем дважды в день надо было записывать, как часто они переживали разные эмоции, например счастье или гнев. Кроме того, там надо было фиксировать, как часто они сталкивались с физическими симптомами, например болью в спине. Когда Тим подсчитал результаты, то снова обнаружил более высокий уровень депрессии среди материалистов. Однако здесь вскрылся еще более важный момент. На самом деле оказалось, что материалисты переживают более трудные времена изо дня в день сразу на всех фронтах. Они чувствовали себя менее здоровыми и более рассерженными. Тим начал понимать: что-то есть в сильном желании материальных ценностей[143], что на самом деле влияло на повседневную жизнь участников эксперимента и снижало ее качество. Они испытывали меньше радости и больше отчаяния.
Почему так было? Что могло бы здесь происходить? Существует два вида мотивации к действию для человека. Первый называется истинными мотивациями[144] – это то, что мы делаем просто потому, что оно нам нравится, а не ради получаемой выгоды. Когда ребенок играет, им двигают истинные мотивации: он делает это, потому что ему нравится. Как-то на днях я спросил пятилетнего сына моего друга, почему он играет.
– Потому что мне нравится, – ответил он. А потом он наморщился и добавил: – Ты глупый.
Он убежал, притворившись Бэтменом. Истинные мотивации остаются с нами всю жизнь, а не только в детстве.
В то же время существует набор противоположных ценностей[145], которые называются внешними мотивациями. Это то, что мы делаем не ради удовольствия, а потому что получаем что-то взамен: деньги, восхищение, секс или высокий статус. Джо, о котором вы читали в одной из глав, каждый день ходил на работу в магазин красок по исключительно внешним причинам. Он ненавидел свою работу, но ему нужно было платить за жилье, покупать наркотики, чтобы пережить день на этой же работе, иметь машину и одежду, которые, по его мнению, вызывали уважение людей к нему. У нас у всех есть подобные мотивы.
Представьте, что вы играете на пианино. Если вы играете для себя, потому что вам это доставляет удовольствие, тогда вами движут истинные ценности. Если вы играете в баре, который ненавидите, только для того, чтобы заработать достаточно денег на жилье и не быть выброшенным на улицу из квартиры, тогда вас толкают на это внешние ценности.
Противоположный набор мотиваций существует в каждом из нас. Никем не могут двигать только одни или только другие.