Филэллин Юзефович Леонид
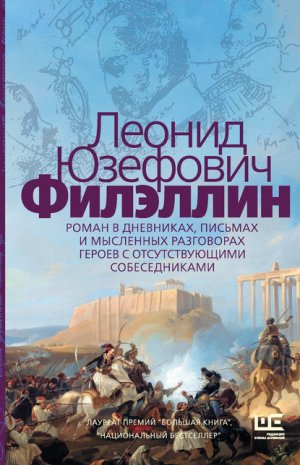
“Молчи! – шепнул Чекеи. – Отзовешься, они тебя прикончат и возьмутся за нас”.
По его знаку сулиоты заслонили меня собой. Я раздвинул двоих ближайших и шагнул навстречу судьбе. Она явилась мне в образе невысокого широкогрудого человека в фуражке и простом военном сюртуке без эполет. В том же аскетичном костюме, какой может позволить себе обладатель абсолютной, не нуждающейся ни в каких подтверждениях власти, он стоял на причаленной к берегу галере в канун Ураза-байрам, но теперь расстояние между нами было гораздо меньше. Уже достаточно рассвело, чтобы я мог разглядеть его лицо. В нем читались ум и энергия, но то и другое было припорошено чем-то третьим, чему я не умел найти имени и что не позволяло приложить к нему наши привычные представления о связи внешности и характера. Вместе с тем это было заурядное лицо греческого простолюдина, кем он, собственно, и являлся. Сейчас, копаясь в моих тогдашних ощущениях, я думаю, что в нем отталкивала печать грубой воли и привлекала нечастая у сорокалетних мужчин юношеская тонкость черт.
“Я здесь!” – громко сказал я.
Мне ответил ровный, невыразительный голос человека, не озабоченного тем, чтобы интонацией усилить значение сказанного. У наследного принца в этом нет нужды.
Безупречная французская речь полилась из его уст, но под дулами ружей я не сразу сумел в нее вслушаться – мешала мысль, что, как только он замолчит, я умру.
Усилием воли я вернул себе самообладание и понял, что Ибрагим-паша начал с комплиментов моей храбрости и моим моральным принципам. В его похвалах не было ни грана бутафорской восточной пышности, зато содержались точные сведения обо мне. Он явно не вчера узнал о моем существовании. Должно быть, наводил справки, интересуясь мной, как я – им.
Еще раньше сулиоты, Цикурис, Мосцепанов и вынесенные в первую линию филэллины взяли его на прицел, как египтяне – меня. Каждый из нас двоих стал гарантом жизни другого. Страшное напряжение владело мной, но я уже понимал, что немедленная гибель мне не грозит.
Спиной я ощущал смятение солдат, быстро сообразивших, с каким врагом мы столкнулись. Имя их предводителя тревожным шепотом пронеслось по рядам, но в конечном итоге произвело не то действие, которого мы с Чекеи боялись. Не оглядываясь, я чувствовал, как мои люди вновь становятся единым целым. Полк опять верил мне, надеялся на меня и ждал моего слова.
От моих достоинств Ибрагим-паша перешел к моим политическим взглядам. Пара общих фраз – и прозвучала цитата из Руссо. Я не поверил своим ушам, и, хотя почти сразу вспомнил, что Жан-Жак был кумиром юного Ибрагима, ученика военной школы в Париже, цитата из него была как звук лютни в пыточной камере, как розовый куст на скотобойне.
В первобытном состоянии, передал его мысль Ибрагим-паша, люди живут страстями, но с появлением государств научаются подчинять страсти разуму. То непомерное значение, которое греки придают национальному чувству, превращая его в необузданную страсть, доказывает, что они возвращаются в состояние дикости. Должен ли разумный человек их в этом поощрять?
Вопрос был не риторический, Ибрагим-паша ждал ответа, но я не хотел дискутировать с ним на такую тему в такой обстановке. Его аргументы заведомо были весомее, чем мои. У него три пехотных батальона, две с лишним тысячи бойцов, у меня – вшестеро меньше, и даже если мы откроем огонь первыми, это ничего не изменит. После залпа наткнемся на штыки. У нас ружья без штыков, а сабли, в лучшем случае, у каждого третьего, да и где гарантия, что при атаке за мной пойдет весь полк? Что половина не бросится врассыпную по кустам? За эти минуты никакого плана действия у меня не созрело, я лишь малодушно оттягивал неизбежное.
“Продолжайте”, – крикнул я.
Ибрагим-паша что-то скомандовал по-арабски. Послышался дробный стук прикладов о камень – его солдаты взяли ружья к ноге. Это был не столько знак доверия ко мне, как демонстрация его превосходства. Он, конечно, рассчитывал на аналогичную любезность с моей стороны, но я такой команды не отдал. Направленные на меня ружья обратились дулами вверх, а нацеленные на него остались в прежней позиции.
Я приготовился скомандовать “Огонь!”, как только он отменит свой приказ, но этого не произошло. На губах у него мелькнула улыбка снисхождения к моей слабости.
“Посланник Аллаха велел нам не затачивать клинок, когда на него смотрит овца”, – сказал он и жестом показал, что хочет говорить дальше. Мне польстила его уверенность в том, что без моей команды никто из моих людей не посмеет в него выстрелить. Знал бы он, как всё обстоит на самом деле!
“По рождению я грек, – заговорил Ибрагим-паша. – Мой приемный отец – албанец, Кутахья и Кюхин-паша – грузины…”
Он назвал еще нескольких видных османских генералов и губернаторов. Один оказался болгарин, второй – черкес, третий – египетский копт, четвертый – француз.
“Мы, рожденные в иной вере, – почти задушевно звучал его голос, – храним память о детских годах, о прежней жизни, но чем лучше мы помним тот мир, из которого вышли, тем сильнее хотим раствориться в этом. Мы ценим его больше, чем те, кто принадлежит ему по праву крови, а для него наша чужеродность – не порок, а достоинство. Есть ли в Европе хоть один генерал или министр, кто был рожден мусульманином? Мне такие неизвестны. Вы страшитесь признать, что ваш идеал будущего – это Османская империя в настоящем…”
Я стоял по одну сторону разделявшей нас пустоты, он – по другую. За мной была толпа жмущихся друг к другу усатых людей в разномастных халатах, кое-кто со съехавшими набок дурацкими тюрбанами, за ним – застывшие в строгом строю молодые мужчины с бритыми лицами, в единообразной форме западного покроя. Они воплощали собой порядок, мы – хаос.
“Вы думаете, что свободная Греция явит миру пример величия духа? Что филэллины станут зерном, из которого прорастет братство народов? – выказал Ибрагим-паша поразительное знание не только моей жизни, но и моих убеждений, отринутых, правда, мною самим, но не до конца, иногда возвращавшихся, как в солнечную погоду, после стакана хорошего вина, возвращаются к нам надежды молодости. – Мне жаль вас, полковник. Вас ждет разочарование. Если вы сумеете вырвать у нас хотя бы клочок земли, населенный греками, на следующий день ваши филэллины поделятся по нациям и передерутся за право устанавливать на нем свои порядки. А греки, если им достанется Акрополь, нарежут его на участки и будут сдавать их в аренду европейцам. С вас будут брать деньги за возможность увидеть Парфенон…”
Я записываю не то, что он сказал, а то, что я услышал. Говорил он короче, проще, резче, я дополняю его слова своими мыслями, не очень понимая, возникли они в тот момент, когда я его слушал, или рождаются сейчас как продолжение и развитие сказанного им в действительности. Я не дословно передаю его речь, но следую ее духу и логике.
“Разве вы любите греков? Вы любите ваши фантазии о них, ваши мечты о том, какими они когда-то были и снова станут благодаря вашей опеке. Такие, как есть, они вам не подходят, – болезненно оживил он во мне упрек Сюзи. – Вы внушили им и себе, что лучшее в вас – от них, вы на равных примете их в свою семью, когда они докажут, что достойны своего великого прошлого, о котором еще не известно, было оно или вы его выдумали, а если было, то им ли принадлежало или совсем другому народу. В действительности они – почти мы, разница между нами ничтожна, между ими и вами – огромна. Нам они – родня, вам – чужие. Если вы оторвете их от нас, они еще пожалеют о том времени, когда делили судьбу с нами. Хуже того – они вас проклянут. Нам нужны их корабли, лавки, банки, меняльные конторы, а у вас этого всего в избытке. Среди нас они были едва ли не первыми, среди вас будут последними…”
Я опять потерял нить его речи. Эта война с ее ужасами предстала передо мной как бессмысленная бойня, моя собственная жизнь – как череда ошибок и заблуждений. Безразличие ко всему, что составляло ее смысл, охватило меня, но и смерть казалась столь же бесцельной. Леденящий холод и одиночество – вот всё, что я чувствовал.
Это длилось несколько секунд и было похоже на обморок. Потом сознание прояснилось, в голосе Ибрагим-паши я услышал мой собственный, донимавший меня в часы бессонницы, только сам к себе я обращался в первом лице, а он ко мне – во втором.
“Греки, греки, греки! – передразнил он мою сосредоточенность на этой теме. – Много ли вы видели от них добра? Чем скорее вы забудете их, тем лучше. Даже если победа останется за ними, ее плоды будут для вас горьки. Греки не оправдают ваших надежд. Того, что вам нужно, вы здесь не найдете, а то, что у вас есть, потеряете. Уезжайте, полковник. Возвращайтесь во Францию. Король простит вас…”
Без перехода он начал перечислять условия, на которых мне предлагалось сложить оружие.
На втором пункте я решил их принять.
Я слушал его с отвращением. Оно было сильнее, чем страх перед ним. Грек, принявший ислам, азиатский бурбон с обманчиво-утонченным лицом, он носил французский мундир, учился во Франции, умел пользоваться ножом и вилкой, заглядывал в Руссо, – и на этом основании полагал себя человеком, прошедшим все искусы Запада. По утрам, смотрясь в зеркало, он, конечно, видит человека, который гордо возвысился над лицемерной западной моралью и не желает признавать за французами, которые сами лишь недавно отказались от работорговли, право осуждать его за открытие невольничьего рынка в Модоне. Да, там продают захваченных в селениях вокруг Триполиса молодых мужчин и женщин, – но кто доставляет их в Африку и Сирию на своих кораблях? Те же греки. Народ, истребляющий сам себя, не достоин жить на этой земле. Да и греческие крестьяне – тупы, ленивы; переселенные сюда из Египта трудолюбивые феллахи превратят Морею в цветущий сад.
Офицеры рядом с Ибрагим-пашой не были похожи на арабов, но имели на головах не фуражки, а тюрбаны. Само собой, если кто и мог понять его душу и разделить его чувства, так только принявшие ислам европейцы. За это они и получали свое сказочное жалованье. Руководство саперными работами или управление артиллерией – их досуг.
Это теперь я могу иронизировать, а тогда сердце колоколом бухало в ушах, ноги приросли к земле. По совету Мосцепанова последние четверть часа я, как и он сам, норовил встать поближе к Фабье. Место возле командира Мосцепанов считал самым безопасным, потому что в бою сулиоты защитят нас заодно с ним. Его мнимо-рациональный расчет поставил нас под дула египетских ружей. В грозу молнии бьют в самые могучие деревья, под которыми несчастные глупцы ищут спасения от ливня. В первом ряду мы имели мало шансов уцелеть. Мосцепанов с его русским фатализмом покорился судьбе, а я попробовал задом втиснуться вглубь колонны. Напрасный труд. В тесной солдатской массе не нашлось даже малой лазейки. Ни один из вооруженных не захотел поменяться местами со мной, безоружным.
По правую руку от Фабье стоял Чекеи, по левую – двое сулиотов и Цикурис. Слева от Цикуриса и справа от меня – Мосцепанов. Я видел, как тяжело ему удерживать на весу изготовленное к бою ружье. При каждом вздохе в груди у него что-то хрюкало. Видимо, от напряжения и усталости спастически сжались бронхи, воздух с трудом проникал в легкие. В висевшей на плече торбе угадывались остатки еды, которую я собрал с моего лекарского ящика. Сам ящик остался на месте нашей трапезы.
Я хотел одного – жить. Когда Ибрагим-паша скомандовал египтянам взять ружья к ноге, а сам остался под прицелом наших мушкетов, во мне зажегся огонек надежды. Он не пошел бы на такой риск, не будучи уверен, что безвыходность положения заставит нас сдаться. Я страстно этого желал и боялся, как бы Фабье, желая сохранить достоинство, не затянул дело до подхода Кюхин-паши. Мне уже слышался приближающийся цокот подков по камням и топот идущей по нашим следам сипахской пехоты. Если нас зажмут в тиски, переговоров о сдаче никто с нами вести не станет.
Думаю, вся речь Ибрагим-паши длилась минуты две, но тогда она казалась бесконечной. Я взглянул на Фабье, и меня неприятно поразило, с каким лицом слушает он эту африканскую сирену. Ее песня состояла из фальшивых рулад и расхожих глупостей. Они первыми приходят на ум всякому, кто берется судить о Греции, но по трезвом размышлении отбрасываются как хлам, а Фабье внимал им как откровению небес. Так бывает, если кто-то излагает тебе твои же собственные сокровенные мысли. Все мы так высоко себя ставим, что способность читать у нас в сердце кажется невозможной без подсказки свыше.
Повторяю, эти рассуждения – плод моих сегодняшних усилий проникнуть в мысли Фабье. Вчера я просто тупо ждал, пока Ибрагим-паша покончит со своими софизмами и потребует сложить оружие. Была надежда, что Фабье хватит ума не торговаться и принять любые условия. Казалось, дело идет к тому, как вдруг в тишине раздался истерически-звонкий голос Цикуриса.
“Оставь нас! Убирайся в свой Египет!” – крикнул он по-гречески.
Земля ушла у меня из-под ног, но оскорбление, слетевшее с языка одного, не повлекло за собой кару нам всем.
“Посланник Аллаха сказал: если у кого-то из руки выпадет кусок, надлежит поднять его и съесть, а не оставлять шайтану”, – спокойно ответил ему Ибрагим-паша.
Затем наконец он перешел к тому, чего я с нетерпением ждал – к условиям капитуляции.
Предложено было следующее: греки, солдаты и офицеры, на кресте или на иконе поклянутся не поднимать оружие против султана и будут отпущены на все четыре стороны; филэллины дадут слово, что никогда не вернутся в Грецию, после чего их со всем имуществом отправят на корабле в Ливорно; Фабье волен уплыть с ними или пользоваться его, Ибрагим-паши, гостеприимством столько, сколько пожелает.
“Надеюсь, полковник, вам довольно моего честного слова. Давать клятву на Коране я бы не хотел”, – улыбнулся он.
Точнее сказать – оскалился.
Фабье сделал вид, будто обдумывает предложение, но по его лицу я видел, что решение им уже принято, и оно не расходится с моими ожиданиями. Все-таки мы с ним были знакомы не первый год.
“Мне нужно посоветоваться с моими людьми”, – сказал он.
Это было в его интересах. Ему хотелось обезопасить себя на случай, если кому-то в военном министерстве взбредет в голову устроить разбирательство, как именно произошла капитуляция.
“Даю три минуты”, – числом поднятых пальцев определил Ибрагим-паша предельную длительность этого совещания.
Фабье, не унижая себя спешкой, повернулся спиной к египтянам. Его губы беззвучно шевелились, но вряд ли он оправдывался перед самим собой – скорее, подбирал слова, чтобы успеть в отпущенный срок по-гречески изложить солдатам то, о чем Ибрагим-паша говорил ему по-французски. В переводе не нуждались Чекеи, большая часть филэллинов и мы с Мосцепановым.
Я испытал неимоверное облегчение. Не было ни малейших сомнений в том, что выдвинутые Ибрагим-пашой условия будут приняты. Тревожил только вопрос, к кому причислят меня самого, к грекам или филэллинам. Я рассчитывал, что мой костюм и мой французский позволят мне присоединиться к последним.
“Будем жить”, – шепнул я Мосцепанову.
Он кивнул и спустил курок.
Пулей, пущенной с двадцати шагов, Ибрагим-пашу отбросило назад. Его подхватили стоявшие рядом офицеры.
С обеих сторон загремели выстрелы. Эхо, рожденное нависшей над нами скалой, заглушило свист пуль. Мелькнуло растерянное лицо Фабье, потом его заслонили сулиоты. Двое из них упали возле меня. Мосцепанов куда-то исчез, а на мертвого Чекеи я едва не наступил, лишь в последний момент сумев через него перепрыгнуть.
Цикурис погиб на моих глазах. Пуля пробила ему лоб, но кровь не успела еще залить лицо, как меня повлекло нахлынувшей сзади толпой солдат. Гарнизон со стен поддержал нас ружейным огнем.
Египетский строй с неожиданной легкостью распался, освобождая нам путь к воротам. Они были открыты. Через несколько минут мы вступили на Акрополь. Я увидел встающий навстречу Парфенон, и вся моя прежняя жизнь показалась мне преддверием этой минуты.
Акрополь
Наш успех оплачен малой кровью. Погибли, главным образом, те, что были в первых рядах, – Чекеи, четверо филэллинов, трое сулиотов, прикрывавших меня в начале атаки, Цикурис и двое его солдат. Мосцепанов легко ранен пистолетной пулей.
На другой день в старой турецкой казарме, которую нам отвел Хормовитис, я собрал офицеров и наиболее близких мне филэллинов. Накануне каждый видел только то, что происходило в непосредственной близости от него, и, чтобы ни у кого не возникло превратных представлений о случившемся, я разъяснил, как всё обстояло на самом деле.
Прежде всего я напомнил, что египтяне перегородили дорогу в том месте, где она идет на подъем. Мы оказались под ними, поэтому видели их хуже, чем они – нас. Снизу при моем росте я не мог правильно оценить численность противника; из задних рядов видно было еще хуже, но стоявший рядом со мной Чекеи, будучи выше меня на голову, понял, что египетские шеренги при их кажущейся плотности имеют небольшую глубину. Теперь мы знаем: Ибрагим-паша, торопясь отрезать нам путь на Акрополь, из трех своих батальонов успел собрать не более трехсот бойцов. Я думал, у него вшестеро больше людей, чем у нас, тогда как мы имели численный перевес. Оставшиеся две тысячи египтян подошли сразу после того, как за нами закрылись крепостные ворота, а конница Кюхин-паши опоздала еще на полчаса.
Ни столов, ни скамей в помещении не было. Всё, что могло гореть, давно сгорело в очагах и печах. Я говорил стоя. Меньшинство предпочло ту же позицию, прочие сидели на земляном полу или на корточках у стены.
“Итак, – продолжил я, – Чекеи украдкой шепнул мне, что арабов меньше, чем кажется. Я сделал вид, что согласен капитулировать, и обернулся к солдатам якобы для того, чтобы спросить их мнение, а на самом деле – чтобы повести их в бой. Слева от меня стоял Цикурис, за ним – Мосцепанов. Первый был известен мне как плохой стрелок, второй – как очень хороший, поэтому я шепотом велел Цикурису передать Мосцепанову мой приказ: стрелять в Ибрагим-пашу, как только я подам команду к атаке, – но у Мосцепанова не выдержали нервы. Он выстрелил раньше”.
Мои действия были одобрены без критики, но и без энтузиазма. Вчерашняя эйфория миновала, настроение у людей было неважное. Все уже поняли, в каких условиях предстоит зимовать. Мы помянули погибших последним оставшимся вином из дорожных запасов и разошлись.
Когда стемнело, в крепость из Афин пробрался наш лазутчик. Он сообщил Хормовитису, а тот – мне, что Ибрагим-паша не убит, а ранен в плечо. Вчера же он рассорился с Кюхин-пашой, предъявив ему обвинение в том, что из-за него нам удалось прорваться на Акрополь, а сегодня утром увел свои батальоны обратно в Триполис.
Если ему хватило сил на то и на другое, значит, рана не опасна.
Дай-то Бог!
Бумаги один клочок остался. Надо мелко писать, чтобы больше влезло, но я бисер низать не приучен. Пишу коротко. Сидим в осаде в той крепости на горе, что на моей гравюре у тебя дома. Там, где на ней женщина под горой козу гонит, был бой с турками, я турецкого генерала застрелил, его солдаты разбежались, и мы ушли на Акрополь. Генеральский адъютант стрелял в меня из пистолета, пуля бок оцарапала. Пару дней полежал – и уже на ногах, вчера в караул ходил, а больше тут ходить некуда. Кругом грязь, помои, воняет отхожим местом, Парфенон стоит щербатый, страшный, мраморные девы на Эрехтейоне носы повесили, у кого они есть. Вроде попал в свое же видение: вокруг, как там, враги несметной силой, мы среди них – остров в море, и гора каменная так же высока, и стена крепка, но живем не как братья. Греки меж собой сварятся, чуть не до драки доходит, и нам не больно-то рады. Самим есть нечего, а тут еще триста с лишним ртов к ним пожаловали. Сейчас пост Рождественский, мяса совсем не видим, хотя на войне скоромное в пост дозволяется до мяса включительно. У начальников для себя и своих людей есть солонина, но мы ее и не в пост не увидим. На день дают ложку масла, бобы с горстью риса на похлебку и постную лепешку-лагану. С водой совсем беда – ни постирать, ни помыться. Пить – и то не вволю. А хуже всего бессонница. Другие от голода сном спасаются, а ко мне сон нейдет. Лягу, в тряпье завернусь, в темноте, как всегда, пальцы на обеих руках растопырю, шевелю ими, дышу на них тварным теплом, а дух вдохнуть не могу. Город мой, куда я перед сном ухожу, стоит пустой, темный. Всю мою жизнь, только войду в него – скоро засыпаю, а сейчас по полночи маюсь без сна. Мысли не текут – скачут как блохи, голова от них пухнет. А раньше из любого места, хоть из тюрьмы, уходил на ту гору и бывал счастлив. Одно хорошо: Костандис говорит, у греков, как у жидов, есть своя почта – греческие моряки на кораблях возят письма во все порты, а оттуда, посуху, другие греки друг через дружку передают их нужному лицу. За год с лишком я тебе одиннадцать писем написал, это двенадцатое. Костандис мне обещает, что, когда из осады выйдем, все будут доставлены тебе не с казенной почтой, никто их не переимет. А за ними, глядишь, сам приеду. У нас тут слух прошел, что государь Николай Павлович хочет воевать с султаном за греков. Молю Бога, чтобы так и было. Греки тогда расскажут ему обо мне, и он на мне явит свою монаршью милость – простит самовольное отлучение в иностранное государство.
Мосцепанова ранил кто-то из находившихся при Ибрагим-паше французов или австрийцев. Пуля попала ему в левый бок и при небольшой ударной силе застряла между ребрами, по счастью не задев ни сердце, ни легкое. Пинцетом я извлек ее, промыл, прижег и перевязал рану. Мосцепанов пару дней отлеживался в казарме, потом стал ходить, заверив меня, что совершенно здоров.
Поначалу солдаты в память о его подвиге откладывали для него лучшие куски и терпеливо выслушивали всякую ересь, которую он им с важным видом проповедовал. На своем мучительном для моего уха греческом, с добавлением скорбных гримас и патетических жестов, он перед разной публикой исполнял один и тот же номер – рассказывал, как увидел наведенный ему в грудь пистолет, и от страха сердце сжалось так сильно, что пуля прошла рядом с ним, а должна была угодить точнехонько в него, если бы секундой раньше оно не уменьшилось в размерах.
“Храброму воину и страх во благо дается”, – такой фразой он завершал свою историю.
Без этого резюме она осталась бы просто анекдотом, а так превращалась в философскую притчу на примере из жизни рассказчика.
Другой темой его выступлений был греческий огонь: он будто бы разгадал секрет этого легендарного оружия и намерен раскрыть его грекам. Солдаты, простые деревенские парни, особенно поражались тому, что такой огонь нельзя залить водой.
Однажды я с глазу на глаз спросил у него, почему он сам или через Фабье не обратился с этим проектом в военное министерство.
“Здесь его делать не из чего, – объяснил Мосцепанов. – Нафту – и ту не добудешь, не говоря обо всём прочем. Не то пустили бы из сифонов и пожгли эту египетскую саранчу к чертовой матери”.
В тот день до вечера лил дождь, одежда и обувь отсырели. Высушить их не было возможности. Дрова мы израсходовали, пищу ели холодной. Мосцепанов, без того страдавший из-за отсутствия чая, не мог даже заменить его кипятком с какой-нибудь заваренной в нем подзаборной травой.
Впридачу ко всем этим несчастьям у него закончился табак, который здесь ценится даже не на вес золота, а выше. Купить новый не было денег, выменять – не на что, а даром ему уже никто ничего не давал. Его подвиг забылся, всех одолевали свои заботы.
Скорбно посасывая пустую трубку, Мосцепанов дал мне понять, что жалеет о своей некстати проявленной отваге: известно, дескать, Ибрагим-паша держит слово, и чем сидеть тут под ядрами, в холоде, без табака и чая, лучше бы сдались и уплыли в Ливорно. Оттуда до Флоренции сотня верст всего. Из Ливорно он пошел бы во Флоренцию, ему как раз туда нужно.
На вопрос, какие у него во Флоренции дела, ответ был, что граф Демидов состоит там посланником при герцоге Тосканском; Мосцепанов хотел доложить ему о творящихся в его уральских вотчинах безобразиях. Он начал рассказывать, в чем они состоят, но на воспоминании о какой-то синей каше и о том, что ученики в заводском училище подчищают написанное куском булки, а не гумэластиком, как положено, я перестал его слушать.
Рана у него уже почти зажила, как вдруг, ближе к Рождеству, загноилась, позже начался жар. Я присоединил его к остальным раненым, доверив заботу о нем моим помощницам из числа овдовевших за время осады женщин. Турки освободили их от обязанности заботиться о собственных мужьях, и они стали добрыми феями для чужих.
За неимением на Акрополе другого врача я принял на себя попечение обо всех раненых и больных. Лазарет разместился в бывшей османской канцелярии, разоренной до голых стен и не приспособленной под госпитальные нужды. Для защиты от ветра, в зимние месяцы на такой высоте почти не стихающего, и для безопасности при артиллерийских обстрелах окна заложены обломками колонн и мраморных плит; дневной свет проникает в помещение, если вынуть один из элементов этой кладки, строго определенный, иначе может обрушиться она вся. Глиняная плошка с плавающим в жиру веревочным фитилем считается роскошью. Днем, особенно в солнечную погоду, воздух внутри слегка нагревается, но ночами холодно, как в подземелье. Топливо приходится экономить, печь протапливают раз в сутки, вечером, и сжигают три-четыре деревяшки различного происхождения и объема. Вместе они дают столько тепла, как одно березовое полено. Ни одеял, ни матрасов нет, раненые лежат на земляном полу, подстелив под себя то, что удалось раздобыть их товарищам или женам, и укрываются тряпьем, которое защитники Акрополя продают друг другу по стоимости шелка и бархата. Овчина в денежном выражении вообще не имеет цены.
Рана ослабила организм Мосцепанова. Нагноение вызвано было грязью, но затем, в постоянном холоде, у него развилось воспаление легких. По его дыханию я и прежде слышал, что легкие у него слабые. При отсутствии лекарств и плохом питании надежда была только на хороший уход, и она оправдалась: афинянка Криса, вдова погибшего еще в сентябре, при первом штурме, торговца морскими губками, уделяет Мосцепанову больше внимания, чем другим раненым. Он для нее – герой, о котором в Аттике и Морее слагают песни. Ее отношение к нему не меняется даже от того, что этот храбрец абсолютно не способен терпеть боль. При перевязках она держит его за руку, нашептывает ему что-то ласковое, а он стонет, кричит или ругается дикими словами, каких в России я не слыхал даже от кучеров и солдат. Криса сносит это с ангельской кротостью.
Однажды я подслушал, как он излагает ей свое мнение об Ибрагим-паше. Оно было противоположно тому, что прежде высказывалось мне.
“Они, – говорил Мосцепанов, подразумевая мусульман, – когда на Коране клянутся, в конце клятвы произносят иншалла. Если, значит, угодно будет Аллаху. А не будет угодно, то есть будет им не выгодно, – исполнять клятву не обязательно. А уж честное слово для них – тьфу, плюнуть и растереть. Слава богу, хватило храбрости пальнуть в этого ирода. Помолился и выстрелил, не то бы они с Кюхин-пашой всех нас, как Данилиса с Митросом Леккасом, вам в назидание рассадили бы на кольях вокруг Акрополя. Глядела бы со стены, как я на колу кончаюсь”.
Криса охала, ужасалась, но не переставала кормить его с ложки бульоном из солонины. Она раздобыла соломы ему на подстилку, укутывает собственными юбками, кофтами. Мосцепанов лежит под ними, как больной ребенок под ворохом материнской одежды.
Сегодня я проходил мимо него; он удержал меня за штанину, вынудил сесть и с трудом выговорил сквозь кашель: “Цикуриса убили – а я мое жалованье отдал ему на хранение. Все мои деньги были при нем. Скажите Фабье, пускай возместит мне убыток из полковой казны”.
Это означало, что зря я надеялся на Крису. Такие требования обычны для умирающих. Мозг у них воспален, логические связи нарушаются, они чувствуют близость конца, – но не отдают себе в этом отчет и свое состояние объясняют какими-то фантастическими причинами, по устранении которых всё якобы тут же наладится.
Я притворно обещал исполнить его просьбу и хотел уйти, но Мосцепанов не дал. Слабость рук при цепкости пальцев – тоже характерная черта тех, кто стоит на краю могилы.
“У вас, у греков, – спросил он, – если родимых пятен на теле много, тоже считается – к счастью?”
Я этого не знал, но ответил утвердительно. Понятно было, что ему хочется видеть тут не национальный предрассудок, а общее для всех народов и, значит, верное наблюдение над человеческой природой.
“Бань у вас нет, – продолжил он, – толком не помоешься. В Навплионе два месяца голым себя не видел. Холодно, спал в одежде, а когда вы меня первый раз перевязывали, разделся на свету, смотрю – боже ты мой! Всю грудь обсыпало как гречкой. Родинки мелкие, но одна к одной, а всю жизнь ни одной не было. Что же это получается? Был несчастлив, стану счастлив?”
Эти внезапно явившиеся родинки, которых я на нем не замечал, стояли в одном ряду с пропавшими деньгами – то и другое было рождено его меркнущим сознанием.
“Помереть без мучений – вот оно, мое счастье”, – сказал Мосцепанов так просто, что мне стало не по себе.
Я утешающе положил ладонь ему на плечо, в ответ ожидая чего угодно, но не того, что он сделал. Как моя мать в последние недели перед смертью – когда уже не вставала с постели, а все слова давно были произнесены, и я, чтобы без слов выразить свою любовь, так же клал руку ей на плечо, – Мосцепанов по-детски склонил голову набок и потерся щекой о мою кисть.
Я невольно отдернул руку.
Сильнее сострадания к нему был стыд, что на его безмолвную жалобу я не могу ответить соразмерным по силе чувством.
Вчера в батальон не ходил из-за сильной простуды, лежал дома. К обеду Феденька вернулся из Горного училища и по приказанию матери, отданному таким грозным шепотом, что я услышал через дверь, зашел ко мне справиться о моем здоровье.
Обычно он со мной напряжен, а тут выпил чаю с малиной, размяк с мороза и говорит: “Представьте, есть у вас шнурок. Не то чтобы в кармане лежал, но когда подумаете о нем, он откуда-то к вам свесится. К примеру, вы простыли, а если за него дернуть – р-раз, и неделя прошла, горло не болит, не кашляете. Или на службу идти неохота – дернете, и вот уже вечер, вы с мамой ужинаете, а в батальоне все дела переделаны. Хотели бы иметь такой шнурок?”
Загадать ему такую загадку мог единственный человек.
“Кто тебя об этом спрашивал? – спросил я. – Григорий Максимович?”
Феденька перепугался. Большой мальчик, понимает, что Мосцепанова при мне поминать не надо, мать его за это по головке не погладит; но отмолчаться не удалось. Пришлось ему подтвердить мою догадку.
“Нет, – решил я, – не надо мне твоего шнурка. А то разок-другой дернешь – и войдешь во вкус. Глядишь – вся жизнь пролетела, я уже старик, лежу в гробу. Тут дергай, не дергай, – через смерть не перескочишь”.
Феденька был огорчен моей проницательностью. В кои-то веки хотел меня поучить, ан не вышло.
“Так и есть, – покивал он. – Григорий Максимович говорил: это не шнурок, это черт свой хвост свесил”.
Я посмеялся и забыл, но Мосцепанов оказался легок на помине. Под вечер явился незнакомый парень, назвавшийся сыном Ивана Димитраки из Верхотурья, принес пакет без почтовых печатей и без имени адресата на упаковке и сказал, что отец велел вручить его госпоже Чихачевой.
Знаю я этого Димитраки. Торгует фисташками, грецким орехом, лавровым листом, сушеными фруктами и тому подобным товаром. Какие у него могут быть дела с Натальей?
Я протянул руку за пакетом, но парень мне его не отдал, а будучи спрошен, что в нем, отвечал, что не знает. Мол, отцу прислали с поручением доставить его Наталье Бажиной в Нижнетагильские заводы, но там от ее матери узнали, что она как моя супруга проживает со мной здесь.
Попытки выяснить, от кого получен этот пакет, успеха не имели, Димитраки-младший твердил одно: получили с оказией, и всё тут. Ушел он лишь после того, как я позвал из комнат Наталью, и она собственноручно приняла у него посылку от неизвестного лица, неизвестно как попавшую к его отцу в Верхотурье. Я хотел дать ему за труды полтину, но он не взял.
Наталья со своей обычной нетерпеливостью зубами отхватила угол пакета, чтобы затем разорвать его по краю, но я ей этого не позволил. Пошли в комнаты, я взял ножик для бумаги и аккуратно взрезал край ножиком. Внутри лежали пакет поменьше и адресованное Наталье письмецо от некоего Константина Костандиса. Я прочел его первый.
Сообщалось, что он, Костандис, и Григорий Мосцепанов семь месяцев находились на осаждаемом турками афинском Акрополе. Гарнизон отбил четыре штурма, но в июле, когда кончилось продовольствие, капитулировал на почетных условиях: греки и филэллины вышли из ворот с оружием, с развернутыми знаменами, и под охраной английских солдат дошли до Пирея; оттуда британский фрегат доставил их в Навплион. Там Мосцепанов женился на гречанке, которая ухаживала за ним, раненным, и своей заботой спасла его от смерти. Занятый предсвадебными хлопотами, он просил Костандиса, имеющего доступ к греческой почте, как называют используемую для коммерческих нужд сеть родственных и земляческих связей между рассеянными по миру греками, отправить его письма госпоже Бажиной на Урал. Со своей стороны, он обращает ее внимание на то, что Мосцепанов писал ей письма в течение полутора лет, но не мог их отослать, поэтому на всех на них проставлены номера от 1 до 12, показывающие, в какой последовательности они должны быть прочтены.
Не буду даже пытаться выразить на бумаге те чувства, которые меня в тот момент охватили. Сдержав их, я передал письмецо Наталье и, дождавшись, пока она его прочтет, спросил: “Ты знала, что он там?”
“Нет! Вот вам крест!” Она молниеносно, в своей манере, перекрестилась на иконы.
Я хотел уйти, чтобы дать ей возможность в одиночестве, не стесняясь моим присутствием, прочесть эти письма, – но она умолила меня читать с ней вместе. Мы сели рядом и голова к голове прочли все двенадцать. В первом же нашлись ответы на три вопроса, которые мне казались неразрешимыми: как Мосцепанов скрылся с гауптвахты в Перми, каким образом его перстень попал к Косолапову, и что означали карандашные пометы в найденных у Косолапова в зимовье Горном уставе и Евангелии.
Я прочитывал написанное быстрее, чем Наталья, и всякий раз ждал, когда можно будет перевернуть лист или отложить его и взяться за следующий. В это время взгляд мой невольно касался висевшей на стене гравюры с видом Афин и Акрополя. Явно выдранная из какой-то книги, она принадлежала Мосцепанову; при переезде Наталья не хотела брать ее с собой, но я настоял, чтобы взяла, и повесил на видном месте, показывая, что у меня нет оснований ревновать жену к бывшему сожителю. Размытый контур и общая аляповатость изображенных предметов свидетельствовали, что не только сам художник никогда не бывал в Афинах, но и тот, чью работу он копировал, отстоял от автора оригинала еще на пару-тройку таких же дурных копий.
Над Парфеноном чернела распростертая на полнеба туча. В ее очертаниях можно было разглядеть дракона, если решить, что хочешь видеть именно его, и воображением дорисовать недостающие или недоразвившиеся члены. В области головы, там, где предполагалась морда чудовища, как пламя из разверстой пасти, выходили лучи сквозящего за тучей солнца. Бедный ябедник, желая овладеть этим драконьим огнем, сам же в нем и сгорел. Летучий змей не перенес его через смерть. Еще до того, как мы с Натальей сели читать его письма, я понял, что это послания с того света.
В конце каждого письма, кроме последнего, красовался кособокий кружок с заключенной в нем надписью: “Чмок”. Его назначение объяснялось в № 1, но было понятно и без того.
“Что же ты? Целуй, я отвернусь”, – предложил я.
“Ему теперь есть с кем и не через бумагу чмокаться”, – ответила Наталья чуть более равнодушно, чем если бы это ее действительно не волновало.
Тогда наконец я собрался с духом и открыл ей то, о чем подумал час назад, но не решался сказать.
“У меня в батальоне был грек из Таганрога, – сказал я. – Пел греческие песни и рассказывал, о чем в них поется. Вот одна… Раненый клефт умирает вдали от родных мест и просит друга не сообщать жене о его смерти. Напиши ей, просит он, что я женился на другой и счастлив на чужбине. А затем говорит то ли другу, то ли самому себе: женою мне станет земля, тестем – могильный камень, шуринами – кипарисы над моей могилой”.
Наталья задула свечку, поднялась и подошла к окну, по пути потушив еще две свечи, чтобы видеть в стекле не одно свое отражение, а ночь и небо. В мороз оно прояснилось. Снег в палисаднике отбрасывал звездный свет, на нем лежали тени озаренных луной голых кустов, и, как на вершине горы, на берегу реки или рядом с любым мирным пламенем, возникало удобное для памяти и печали чувство границы двух стихий, одна из которых принимает в себя то, что рождено другой.
Выждав с минуту, я последовал за Натальей и остановился в полушаге за ее спиной. Она не могла не слышать, как я к ней подхожу, но продолжала стоять в той же позе. Я обнял ее сзади. В ту же секунду, словно только этого и ждала, она всем телом повернулась ко мне, раздвинула на мне ворот халата, надетого прямо поверх рубахи, обвила руками, уткнулась лицом в грудь. Сквозь рубаху я ощутил на коже горячую влагу ее возгрей и слёз. Она немного поплакала у меня на груди, и мы пошли ужинать.
Не знаю, в какой день какого месяца вас в живых не стало, но с того дня сорок дней давно минуло. На помин души я у Преображенья денег дала, свечку поставила и нужные молитвы, чтобы нескладухи не вышло, творю по письму, что в церкви дали, но если что вовремя не сделано, того не переделаешь. Сердце не сказало мне про вашу смерть, знать, Господь по моим грехам и за мою вам измену в него это не вложил.
Пока душа ваша шла через мытарства, некому было за нее Бога молить, и после того никто о ней не позаботился. Чашку воды с двумя соломинками крест-накрест я для нее не приготовила, не поставила на столе, чтобы душа обмылась после мытарств.
Иконы в дому не завешивала полотенцем и на сороковой день не сняла его, не положила на столе рядом с чашкой. Нечем было душе вашей обтереться, не во что завернуться.
А потом не взяла это полотенце, не взошла с ним на Лисью гору, не встала над прудом, не встряхнула его, не отпустила душу навстречу ветру, и свету, и всему небесному простору.
Или не нужно ей ни обмывать себя, ни обтирать?
Чиста она, как у младенца.
В бытность мою при покойном государе вы в разговорах со мной вволю поиздевались над несчастьями греков и нашим стремлением к свободе, – а я в то время не имел возможности достойно вам отвечать. В частности, вы уверяли меня, что гибель Греции придет из Египта, помните? Хотелось бы знать, осталось ли ваше мнение прежним после того, как в Наваринском бою египетский флот сожжен союзной эскадрой, и его обгорелые обломки усеяли море от Наварина до Навплиона.
Император Николай Павлович оказался милосерднее и прозорливее своего предшественника на троне – русская армия разбила войско султана и дошла до Адрианополя. Англичане заняли Мисолонги, французский корпус Мезона изгнал Ибрагим-пашу из Мореи. Афины – наши, над Парфеоном поднят греческий флаг. Белое и голубое восторжествовало над зеленым. Мужество, проявленное нами при обороне Акрополя, расположило в нашу пользу сильных мира сего. Война еще не закончилась, но признание державами Греческой республики – вопрос ближайших недель.
У нас есть старинная песня о взятии турками Константинополя. Вот вкратце ее содержание.
Утром черного вторника, то есть 28 мая 1453 года, некий монах жарил на кухне рыбу – и вдруг услышал воззвавший к нему откуда-то с высоты громкий голос: “Беги, монах! Спасайся! Сейчас в город ворвутся турки!” Монах лишь посмеялся, сказав, что скорее эти жареные рыбины оживут и, как птицы, полетят по воздуху, чем турки возьмут святой город. Едва он это произнес, рыбины воспарили над сковородой и вылетели на улицу. В ту же минуту войско султана ворвалось в Константинополь.
Сделайте одолжение, Игнатий Иванович, подойдите к окну. У вас там ночи сейчас белые, за окном во всякое время светло.
Что вы видите?
Не летает ли над Царским Селом любимая вами жареная корюшка, которой вы как раз собирались поужинать?
Если да, она поднята в воздух силой вашего неверия в способность греков стать свободным народом.
Покой
Вчера было 1 октября, десятая годовщина того дня в Балаклаве, когда государь высказал желание сделать меня своим библиотекарем и разделить со мной старость. Этот день я посвящаю воспоминаниям о нем, перечитываю “О подражании Христу” Фомы Кемпийского, прохожу его обычными маршрутами в царскосельском парке, если удается туда проникнуть, а в Петербурге посещаю Конюшенный двор, стою возле чучела белой кобылы, на которой он в 1814 году во главе армии въезжал в Париж. Кое-какие связанные с ним и важные для меня места мне как частному лицу недоступны, но я довольствуюсь тем, что есть. Так продолжалось из года в год, а вчера я впервые за десять лет забыл этот день. Оправдываюсь тем, что встретил его не дома, не в окружении привычных вещей и книг, а на пароходе, следующем из Дувра в Афины.
Я в том же возрасте, в каком скончался государь. Я так же, как он в моих нынешних летах, страдаю вялостью желудка, употребляю чернослив без кожицы и много путешествую. В дороге медленнее течет время, а калейдоскопическая смена впечатлений дает бесценное на пороге старости чувство полноты жизни. Я объездил пол-Италии, был на Святой земле, в Александрии. Египтом по-прежнему правит Мехмед-Али, а его приемный сын куда-то загадочно исчез. Во всяком случае, “Русский инвалид” перестал им интересоваться.
Дальше, чем из Петербурга в Кронштадт, я на паровых судах не плавал. Оказалось, что скорость и удобства даются не даром, плата за них взимается не только деньгами, но и раздраженными нервами, и бессонницей. Под полом каюты день и ночь стучит машина. К этому стуку нельзя привыкнуть из-за его адской ритмичности. Спасаясь от него, я часами гуляю по палубе. Там он заглушается плеском волн и шлепаньем пароходных колес. Шум воды под плицами не так обременителен для слуха и, при своей механической равномерности, стоит ближе к естественным звукам природы.
Из пассажиров я сошелся с мистером и миссис Латтимор, средних лет супружеской парой из Лондона. Он – молчаливый господин без каких-либо резких черт во внешности и характере, а его жена принадлежит к тому типу женщин, о ком говорят, что в молодости они были красавицы. Кажется, ее лицо носит следы былой красоты, которой, может быть, отродясь не бывало.
Как и я, мистер Латтимор знает Грецию только по книгам, но его супруга там когда-то побывала. По ее словам, эта страна разительно непохожа на Италию, и, при том же высоком и чистом небе, при тех же, если не более роскошных видах, лишена живости и характерной для итальянцев кипучей энергии. В Греции мало городов, это суровая, пустынная, бедная, негостеприимная земля. В Италии всё располагает к веселью и наслаждению, а здесь постоянно сознаешь недостаток исторических знаний, необходимых, чтобы из унылого настоящего перенестись во времена древних. Если не радуют живые люди, остается искать утешения у мертвых.
“Да, – согласился я, вспомнив Александрию, где даже дышать лучше через надушенный платок. – Страны, наиболее интересные для любителей истории, не очень удобны для обычных путешественников”.
На другой день я узнал от мистера Латтимора, что его супруга причастна к борьбе греков за свободу и водила знакомство с полковником Фабье. Впервые упомянув это имя, он не сопроводил его пояснениями, не допуская и мысли, что мне оно неизвестно. Действительно, я читал в газетах об этом знаменитом когда-то филэллине.
Об отношениях с Фабье миссис Латтимор говорила достаточно откровенно. То есть прямо ничего сказано не было, но тон и улыбка, одновременно уклончивая и мечтательная, не оставляли сомнений относительно степени их близости. В ее рассказе Фабье был просто Шарль, а она, когда для естественности изложения передавала от первого лица его обращенные к ней реплики, фигурировала как Сюзи.
Всё это говорилось при муже. Поначалу я испытывал понятную неловкость, выслушивая ее излияния в его присутствии, но успокоился, заметив, что мистер Латтимор поглядывает на меня горделиво и вместе с тем испытующе: он словно бы проверял, способен ли я оценить, какое сокровище досталось ему в жёны. По-видимому, ее роман с героем борьбы за освобождение Греции рассматривался им как их общий семейный капитал.
Не удивительно, что разговор коснулся лорда Байрона.
“Не стоит его идеализировать, – сказала миссис Латтимор. – Многое в его жизни объясняется тем, что он страстно мечтал вступить в лондонский «Афинский клуб», но его туда не принимали. Члены клуба – молодые аристократы, ценители эллинского искусства, а Байрон не имел такой коллекции греческой скульптуры и керамики, которая возместила бы ему недостаток родовитости. Он отправился в Грецию не ради того, чем все так восхищаются. Просто ему дали понять, что если он пожертвует грекам некоторую сумму на военные нужды и проследит, чтобы деньги не разворовали, его примут в «Афинский клуб»”.
Я слушал со смешанным чувством. Нам приятно узнать что-то неприятное о всеобщем кумире, но неприятно, что нам это приятно.
За ужином в кают-компании беседа вращалась вокруг тех же тем. Речь зашла о баварском принце Оттоне, в позапрошлом году ставшем королем Греции. Миссис Латтимор знала, какие подводные течения вынесли его на греческий престол, и охотно разъяснила мне, что его коронация – результат компромисса между великими державами. Каждая из них предпочла бы видеть на его месте представителя своего царствующего дома и, чтобы они не передрались между собой, сошлись на сыне главного филэллина Европы, короля Людвига.
Миссис Латтимор сочувствовала юному венценосцу, взвалившему на себя тяжкое бремя необходимости превратить полуазиатскую страну в европейскую, а при этом еще и вернуть ей ее же собственное великое прошлое.
Мистер Латтимор поинтересовался моим мнением на этот счет и был очень удивлен, услышав, что я его не имею.
“Я вышел из возраста, когда человек считает себя обязанным иметь свое мнение по любому вопросу, – сказал я. – Моя последняя должность – камер-секретарь императора Александра Павловича. Пока он был жив, я интересовался политикой, чтобы со знанием дела разделять его мнения по вопросам, имеющим государственное значение, – но всё это в прошлом. У мертвых другие заботы. Мне редко снится покойный государь, но в те разы, когда я имел счастье видеть его во сне, он ни разу не заговорил со мной о политике”.
Произнося этот монолог, я в то же время со стыдом и ужасом думал: боже, что я плету? Зачем?..
Мистер Латтимор взирал на меня с изумлением, его жена – с насмешкой. Я сказал им, что мне нездоровится. Это было недалеко от истины, и я ушел к себе в каюту.
Машина под полом стучала с небывалой мощью. В общих чертах я знал ее устройство и понимал, что если она работает с таким содроганием всех частей, давление пара достигло предельной черты. Я опустился на стул, сотрясаемый бешеным ходом шатунов и поршней, и сквозь обморочный туман, догадываясь уже, что стучит не только машина, но и мое сердце, увидел государя. Вернее, двух. Один, с почерневшим после бальзамирования лицом, лежал в Петропавловском соборе; второй, с исполинским крестом в руке, совсем уж непохожий на человека, которого я любил больше жизни, третий год стоял на Дворцовой площади, на вершине уходящей в поднебесье колонны розового гранита, отвернувшись от себя первого, как душа отворачивается от покинутого ею тела.
Тут-то я и вспомнил, какое сегодня число.
Из Пирея я известил о себе нашего посланника в Афинах. Когда-то мы приятельствовали с его отцом, я рассчитывал на содействие сына при устройстве в гостиницу и осмотре достопримечательностей, но посланник был в отъезде. Вместо него приехал немолодой господин, отрекомендовавшийся посольским секретарем. Фамилию я не расслышал, но позже понял, что он нарочно произнес ее неразборчиво. Кучер погрузил мой багаж, мы сели в коляску и тронулись.
Немощеная, с пыльной травой на обочинах, дорога находилась в ужасном состоянии. Дальше, правда, она улучшилась, показались группы ремонтирующих ее рабочих, одетых в одинаковое платье вроде форменного, с металлическими пуговицами, но рваное и грязное.
“Да, солдаты, – кивнул мой спутник, понимая, о чем я подумал. – Баварцы. Король Оттон привез их с собой. Мрут, бедные, как мухи”.
“Климат виноват?” – предположил я.
“Скорее природа”, – усмехнулся он.
“Греческая?” – автоматически задал я новый вопрос, явно лишний. Другой природы тут не было.
“Нет, их собственная, – ответил секретарь. – Лопают подряд все здешние фрукты, но не в силах отстать и от своего пива. Организм ослаблен постоянным поносом. Любая болезнь сводит их в могилу”.
Вдруг он резко повернулся ко мне: “Мы с вами незнакомы, но я знаю вас, а вы – меня. Я бывший пермский губернатор, барон Криднер”.
Растерявшись, я не нашел ничего лучшего, как сообщить ему, что был на могиле его тетки в Карасу-Базаре.
“Я хотел туда съездить, да так и не собрался”, – вздохнул он.
“Если когда-нибудь соберетесь, ехать нужно в Кореиз, – посоветовал я. – Княгиня Голицына обещала государю перевезти тело баронессы к себе в имение и похоронить там”.
“Как бы не так! – отозвался Криднер. – После кончины государя она забыла свое обещание. Ma tante осталась лежать в Карасу-Базаре”.
Баронесса нас сблизила, иначе я не осмелился бы спросить, каким образом он из губернаторов попал в посольские секретари.
“Если нет имений, а есть три незамужние дочери, выбирать не приходится, – был ответ. – Пять лет назад открывалось наше посольство в Греции, и генерал-адъютант Дибич, мой товарищ по полку, включил меня в штат. Он имел большое влияние как главнокомандующий в последней турецкой кампании”.
“Да, – вспомнил я, – мы с ним были в свите государя во время его поездки на Урал. Он сожалел, что не встретился с вами в Перми”.
“А у меня был на руках сильный козырь, – добавил Криднер, – я знал новый греческий язык”.
Оказалось, что когда возглавляемое им пермское отделение Библейского общества начало переводить Евангелие на коми-зырянский язык, баронесса как образец подобной работы прислала ему изданный в Лондоне тем же Библейским обществом перевод Нового Завета на новогреческий. В духовной семинарии этот язык никто не знал, и Криднер стал брать уроки у одного мариупольского грека, торговавшего в Перми иконами.
“Хорошие образа, и шли хорошо, – рассказывал он. – Одно плохо: на них, как у греков принято, все святые, и Мария, и сам Иисус Христос писаны были без нимбов. За это епархиальное начальство его из Перми прогнало, но до того он ко мне дважды в неделю целый год ходил. Положим рядом славянское Евангелие и греческое, и читаем. Кое-чему выучился, а устной речью овладел в Навплионе. В прошлом году из Навплиона перебрались в новую столицу”.
Впереди вставала скала Акрополя. Я смотрел на нее как на оживший сон. Мы уже были в Афинах. Потянулись слепленные из камней и грязи домишки, сады за грубыми оградами из дикого камня. Наконец въехали в более приличный район с новенькими, германского типа зданиями под кровлями из черепицы. Вокруг них громоздились кучи строительного мусора. Эти дома, сказал Криднер, построены для баварских офицеров, инженеров, чиновников.
Названия улиц на угловых домах написаны были по-гречески и по-немецки. Готическое – strae усиливало впечатление, будто я нахожусь не в Афинах, а в предместье Мюнхена или какого-то другого города в Германии. Впрочем, фонарей и экипажей, как примет самой скромной городской жизни в Европе, не было и здесь. Прохожие тоже попадались редко, и все, если судить по костюмам, были немцы или итальянцы. Наверное, между ними встречались и греки в европейском платье, но натуральные, в национальной одежде, бросались в глаза лишь около кофеен. Совершенно как турки в Стамбуле или в Яффе, с такими же усами, они в кружок стояли у входа или сидели прямо на земле и, хотя сама эта позиция предполагает живой обмен новостями или мнениями, молчали, фаталистически посасывая короткие трубочки. Похоже, в новом для них мире им достаточно было просто быть среди своих.
Проехали узкую торговую улицу, прикрытую от солнца натянутым между крышами холстом, и на выезде из нее остановились возле двухэтажного здания со щербатыми ступенями и сомнительной чистоты окнами. Albergo Nuova, прочел я на вывеске у входа.
“Гостиница хорошая, – успокоил меня мой провожатый. – К обеду подают даже белый хлеб”.
“А в других не подают?” – спросил я.
“Всяко бывает”, – сказал он, и я подумал, что здешняя жизнь и его сделала фаталистом.
На другой день, как было условлено накануне, отправились на Акрополь. Криднер зашел за мной около полудня, через час мы поднялись к Пропилеям. У ворот сидел на табурете молодой человек в сюртуке, на столе перед ним стояла оловянная тарелка с монетами и рядами лежали какие-то фиолетовые бумажки с печатью на каждой.
“Надо купить билеты”, – объяснил Криднер присутствие этого усатого малого.
“Вот как? – улыбнулся я. – Когда грекам нужны были кредиты, они уверяли, что их древности принадлежат всему человечеству”.
“Это вынужденная мера, – заступился за них Криднер. – Греция бедна, а король Оттон очень много делает для сохранения памятников ее искусства. Казна не выдерживает таких расходов”.
Он купил два билета. Я хотел возместить ему их стоимость, ведь он пошел сюда для меня, но он указал мне, что между русскими людьми такие мелочные счеты не приняты.
Мы поднялись по ступеням и очутились в облаке пыли. Десятки рабочих кирками и ломами разбивали заслонявшие Парфенон и Эрехтейон венецианские и турецкие постройки. Обломки, отмеченные печатью древности, складывали в отдельном месте, а простые камни и мусор сваливали со скалы вниз. Ни о каком углубленном созерцании величайших творений эллинского гения не могло быть и речи, но я готов признать, что, хотя работы не закончены, оба храма постепенно высвобождаются из окружившей их за последние три столетия пестрой ограды магазинов, казематов, казарм, хозяйственных и жилых строений.
Парфенон находится справа от входа. Надо сказать, он не произвел на меня ожидаемого впечатления. Я не историк, не антикварий, а разрушения в нем так заметны, что трудно реальную картину заместить той, что при взгляде на него должна являться перед нашим мысленным взором. Мрамор пожелтел, колонны густо испещрены именами посетителей. Особенно много автографов оставили тут русские моряки, бывшие в Афинах до или после Наваринского сражения. С одной стороны, это вызвало у меня прилив национальной гордости, с другой – стыд за соотечественников и острое желание уничтожить кое-какие из сделанных ими надписей.
Обширность горизонта – вот что подействовало сильнее всего. На краю скалы от высоты и восторга захватило дух. День был ясный, в прозрачном воздухе ранней осени глаз не встречал никаких ограничений, кроме собственной слабости. Криднер сориентировал меня по сторонам света, это позволило разложить все открывшиеся передо мной картины по четырем разделам, чтобы надежнее сохраить их в памяти. На севере раскинулись городские кварталы с встающей над ними громадой Ликабеттоса; на востоке, минуя ворота Адриана, уходила в Элевсин известная даже мне, профану, священная дорога элевсинских мистерий; на западе темнел холм Ареопага с двумя пещерами, где находилась темница Сократа; наконец, на юге взгляд скользил по домикам Пирея, по игрушечным корабликам в порту, по сверкающей морской синеве, и упирался в отдаленные возвышенности Саламина или Эгины. Криднер не мог точно сказать, какой из двух этих островов мы видим.
Возле северного портика Парфенона он подвел меня к деревянному щиту, поставленному на ножки и покрытому черепичным навесом. На нем белели несколько бумажных листков с архитектурными абрисами и комментариями к ним, но львиную долю поверхности занимало выполненное темперой изображение какого-то здания с колоннадой и массивным куполом. Фронтон и пилястры были выполнены в стиле прусского эллинизма, а нахлобученный сверху купол выглядел уступкой палладианской традиции.
Криднер красноречиво молчал, давая мне время изучить рисунок. Я понял, что с первых минут нашего пребывания здесь он хотел показать мне именно его, но не посмел сделать это до осмотра главных достопримечательностей.
“Что за здание?” – спросил я, не сумев прочитать пояснительные надписи без забытых в гостинице очков.
“Будущий дворец короля Оттона. Архитектор – знаменитый Карл Шинкель из Берлина”, – ответил Криднер.
Мой вопрос, где будет построен этот дворец, его удивил.
“Так вот же, – указал он на колоннаду перед дворцом, составлявшую с ним единое целое. – Не узнаете? Это же Парфенон, просто все разрушенные колонны восстановлены”.
“Неужели, – не поверил я, – королевский дворец собираются построить на Акрополе?”
Оказалось, что да, на том самом месте, где мы стоим.
Я не филэллин и никогда им не был, но пылавший в тысячах сердец огонь любви к Греции коснулся и меня. Теперь он потух, дым рассеялся, и видно стало, что из него родилось это нелепое сооружение с Парфеноном в качестве галереи у парадного входа.
“Вы же сами говорили, – напомнил я Криднеру, – что король неустанно печется о сохранении памятников греческого искусства”.
“Да, – смутился он, – но я, собственно, хотел поговорить с вами о другом. Когда-то я прислал вам рисунок баронессы с просьбой передать его государю. Она запечатлела видение, снизошедшее на нее в Крыму во время молитвы духа, помните?”
Я сказал, что письмо с рисунком помню, но сам рисунок забыл.
Он махнул рукой в сторону щита: “Баронесса изобразила в точности то, что у вас перед глазами. Будущий дворец Оттона – копия храма, который в ту ночь она видела на Акрополе. Она сочла его символом грядущего братства народов, храмом всех христианских исповеданий, поэтому купол на ее рисунке – с крестом. Здесь креста нет, вот и все различия, если не считать кое-каких декоративных деталей”.
“Да, бывают удивительные совпадения”, – признал я.
“Совпадения? – вскинулся Криднер. – Таких совпадений не бывает. Ma tante обладала не просто обычной человеческой проницательностью. В молитве духа ей являлось будущее. Вспомните, – начал он загибать пальцы, – сбылось ее предсказание о бегстве Наполеона с Эльбы. Идем далее: она предупреждала государя, что за отказ помочь грекам Бог накажет его подданных, и произошло наводнение двадцать четвертого года. Исполнилось и ее пророчество, что гибель Греции придет из Египта”.






