Филэллин Юзефович Леонид
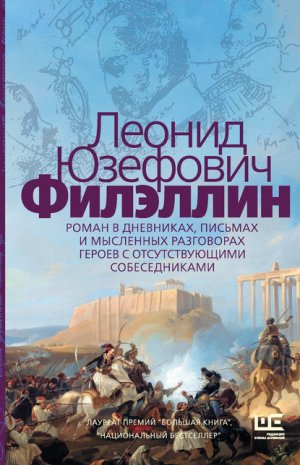
“Разве оно исполнилось?” – усомнился я.
“Почти, – нашелся Криднер. – Чистая случайность, что Ибрагим-паша не завоевал всю Грецию. Если бы ему это удалось, Англия, Франция и Россия не стали бы ввязываться в войну. К счастью для греков, в Афинах, под Акрополем, Ибрагим-паша был ранен каким-то филэллином. Он потом долго болел и не сумел завершить столь успешно начатую кампанию”.
“Выходит, баронесса ошиблась”, – резюмировал я не без злорадства.
“Не спешите с выводами, – предостерег он меня. – Видите ли, баронессе открывалось предначертанное нам на небесах, а не то, что происходит с нами в жизни”.
“Разве это не одно и то же?” – спросил я.
Он улыбнулся: “Вам когда-нибудь гадали по руке?”
Я ответил, что нет.
“Хироманты знают, – сказал Криднер, – линии на левой руке говорят о том, какая вам была уготована судьба. На правой – как в действительности сложилась ваша жизнь. Баронесса смотрела только на левую руку…”
“Жарко, я устал”, – прервал я его и зашагал обратно к Пропилеям.
“Если бы покойный государь послушался ее и двинул армию против турок, он был бы жив, – догнав меня, продолжал говорить Криднер. – Баронесса хотела его спасти…”
Мы уже были в воротах. Возле столика с билетами нам пришлось обогнуть немолодого мужчину в немецком платье и круглой греческой шапочке. Он грудью напирал на преграждавшего ему проход билетера и что-то гневно выкрикивал, апеллируя к столпившейся вокруг публике. В какой-то момент его лицо показалось мне знакомым, но я не придал этому значения. Чем дольше живешь, тем больше убеждаешься, что пресловутое многообразие человеческой природы – не более чем миф. В молодости мы видим в людях то, что отличает их друг от друга, в мои годы – то, что делает их похожими. Последнего куда больше.
“Чего он хочет?” – спросил я у Криднера.
“Хочет пройти на Акрополь. Не хочет покупать билет, – изложил он суть его претензий. – Говорит, пролил здесь кровь, его законное право – ходить сюда без билета. Не он должен платить королю, а король – ему”.
Появились двое солдат в голубых греческих мундирах с белой фустанелью. Они с двух сторон взяли буяна под локти, проволокли шагов десять вниз по дороге, не давая ему вырваться и не обращая внимания на его вопли, затем отпустили. Один, помоложе, напоследок слегка поддал ему ногой под зад. Скандалист в бессильном бешенстве харкнул вслед обидчикам, и вместе со слюной изо рта у него вылетела короткая энергичная фраза, явно не на греческом языке. По этой тарабарщине я его и узнал. Числом слов, ритмом и начальной буквой она повторяла главное наше матерное речение, но звучала еще гаже. Тысячу лет назад, в Перми, эти три слова попались мне в его следственном деле и так прочно запали в память, словно в предвидении сегодняшней встречи их вырезали у меня на сердце.
Вскоре сидели за столом у Мосцепанова. Судя по дорогим обоям, посуде с клеймом “Баварский кофейный дом” и мебели итальянской работы, дела у него шли неплохо. По дороге сюда я узнал историю его жизни после нашей встречи в Перми, заодно вышла из мрака злосчастная тайна, которую он хотел раскрыть государю. На ней-то и взошло его благосостояние: из нефти, доставляемой ему откуда-то с Кавказа, он приготовлял масло для неугасимых лампад и поставлял его в церкви и монастыри вплоть до афонских. Остатки продавал в лавке на улице Эрму.
С Криднером мы расстались раньше. Ему, по его же словам, приходилось слышать, что Мосцепанов живет в Греции, однако встречи с ним он не искал. На приглашение пойти к нему вместе со мной отвечено было, что по долгу службы он обязан потребовать у Греческого правительства выдачи Мосцепанова в Россию, но делать этого не хочет, соответственно, гостем у него быть не может. Возле Одеона он церемонно откланялся и ушел, но за стол мы сели втроем. Третьим был Костандис.
Узнав от Мосцепанова, что бывший лейб-лекарь живет по соседству и через пять минут будет здесь, я как-то не очень и удивился. Со вчерашнего дня, словно я стою на краю могилы, передо мной один за другим являлись люди, которых я мог встретить разве что в будущей жизни, но никак не в этой. Было чувство, что они призваны напомнить мне о призрачности моего существования после смерти государя.
Последний раз мы с Костандисом виделись десять лет назад, в Таганроге, но я узнал бы его, даже если бы не был о нем предупрежден. Он мало изменился, лишь немного располнел, поседел и, главное, – лопнула или ослабла натянутая в нем прежде невидимая струна. Ее высокий нервический звон я слышал при наших с ним разговорах.
Перед его приходом Мосцепанов успел сказать мне, что как врач Костандис популярен среди баварских инженеров и чиновников, у него обирная практика, жена-итальянка, двое сыновей.
Криса, хозяйка дома, принесла и красиво разложила на столе фрукты, хлеб, фету, бутылку не смешанного со смолой вина, но сама за стол не села. Худая, во всём черном, она не выглядела красивой и даже миловидной, при этом умный наблюдатель не мог не увидеть, что в отношениях между супругами царит полная гармония. Плодом их любви была прелестная девочка лет шести, церемонно представленная мне как Эвангелия. Мосцепанов называл ее Эви.
После знакомства он велел ей прочесть гостю “Ворону и лисицу” Крылова. Ответом было молчание. Мосцепанов принялся увещевать дочь, но не преуспел. “Эви! – воззвал он к ней и продолжал по-русски, показывая, что она понимает наш язык. – Меня все соседские дети любят, все твои друзья. Вчера выхожу из дому, смотрю, дождь собирается, а я зонт не взял. Говорю: Янни, сбегай ко мне домой, попроси у Крисы зонтик. Он сбегал, принес. Скажу его сестричке: спляши, Мели, повесели дядю Григориоса. Она танцует. А ты что же?”
Увещевания и нотации длились до тех пор, пока Эви не расплакалась. Лишь тогда Мосцепанов от нее отстал. Она села на ковре и с рассчитанной на гостей артистичной женственностью принялась баюкать куклу в наряде тирольской пастушки, вызвавшем у меня не самые приятные воспоминания, потом уложила ее, выставила перед лицом пальчики на обеих руках и начала по очереди двигать ими, что-то чуть слышно пришептывая.
Мосцепанов тем временем с прикрасами рассказывал Костандису о своей неудачной попытке пройти на Акрополь.
“Решил посмотреть, как будет выглядеть дворец Оттона, – ответил он на вопрос Костандиса, что ему там понадобилось. – Столько шуму, а я его так и не видел”.
Имя короля он произнес по-гречески – Офон.
“Не много потерял, – утешил его Костандис. – Урод, каких мало. Если его там построят, я уеду из Афин”.
Мосцепанов обеспокоился этой перспективой, но я был почти уверен, что уезжать ему не придется. Даже на небесах наша участь не сразу пишется набело. Баронесса во всех случаях видела лишь черновик будущего – предопределенное и несбывшееся. У меня не было причин думать, что дворец на Акрополе станет исключением из правила.
Я уже знал, что во время войны с турками Мосцепанов служил под началом полковника Фабье, и, подумав о моей попутчице, поинтересовался судьбой его бывшего командира.
Вместо него ответил Костандис: “После июльской революции Фабье уехал во Францию, выгодно женился. Луи-Филипп вернул ему поместья и ввел его в Палату пэров. Мы с Григорием не поддерживаем с ним отношений. Тут дело вот в чем, – предупредил он мой вопрос. – Мало того, что Фабье был республиканец, но изменил своим идеалам, он еще попытался посадить на греческий трон герцога Намюрского и стать при нем первым министром. Я готов допустить, что греки не созрели для республики, но сватать нам в короли какого-то заштатного герцога – значит, ни в грош нас не ставить. В Оттоне хотя бы есть капля греческой крови – по матери он потомок Комнинов. Это милый юноша, беда в том, что за него правят временщики вроде Хлойдека. Мы с Григорием отлично помним этого господина. Всю войну просидел в Навплионе, а теперь выясняется, что он-то и есть наш главный национальный герой”.
Разговор перешел на политику. Солировал Костандис, мы с Мосцепановым помалкивали. Бутылка вина пустела медленно. Никто из нас троих не был до него охотник.
В конце концов Крисе надоело, что не ее муж находится в центре внимания. Она подошла к нам и, указывая на него, но адресуясь ко мне, объявила что-то по-гречески.
“Говорит, я убил Ибрагим-пашу, – смущенно перевел Мосцепанов, – но это неправда. Я его только ранил”.
Он с мягким укором о чем-то сказал жене. Та энергично помотала головой и произнесла еще несколько фраз.
“Не знаю, как перевести, – замешкался Мосцепанов. – Говорит, я убил в нем мужчину. Он увидел наведенное ему в сердце ружье, от страха сердце у него сжалось – и уже не вернулось к прежним размерам. Навсегда осталось маленьким. С таким сердцем он побоялся продолжать войну. Засел в Триполисе, как мышь в норе, носу не высовывал, а потом убежал от французов в свой Египет”.
“Если отбросить свойственные народной поэзии гиперболы, всё так и есть, – заметил Костандис, и я наконец осознал, что безымянный филэллин, о котором Криднер говорил как о человеке, нарушившем предначертания судьбы, не кто иной, как Мосцепанов.
“Он жив?” – спросил я об Ибрагим-паше.
“Живехонек! – сказал Костандис. – Разругался с отцом, удалился в свои поместья и занялся сельским хозяйством. Выписал агрономов из Франции. На этом поприще, в отличие от военного, ему сопутствует удача”.
Я тоже улыбнулся. Апельсины, оливки, аспарагус, кофейное дерево. Тот, в ком баронесса Криднер опознала предреченного Исайей летучего дракона, стал мирным африканским помещиком. Буря улеглась, грозовой огонь проблистал и потух. Все обрели покой.
В этот момент из угла раздался звонкий детский голосок:
- Уж сколько раз твердили миру,
- Что лесть гнусна, вредна, но только всё не впрок,
- И в сердце льстец всегда отыщет уголок…
Одолев трудное для понимания место, чтица с облегчением вздохнула. На строке о ниспосланном вороне кусочке сыра голос у нее окреп, однако впереди ее ждало новое испытание в виде слова “взгромоздясь”. Впрочем, из него Эви тоже вышла с честью.
Вдохновленная героизмом отца, поощряемая его взглядом, запинаясь, но не отступая перед трудностями, она дочитала басню до конца. Все мы, включая тирольскую пастушку, внимали ей в благоговейном молчании. У Мосцепанова в такт ее декламации беззвучно шевелились губы. Ни одной подсказки я от него не услышал, но от месмерических сигналов, которые он посылал дочери, когда она сбивалась или забывала какое-то слово, трещал воздух.
Вернуться после этого к прежнему разговору уже не получалось, он начал перескакивать с темы на тему, не задерживаясь ни на одной. Все они казались мелкими по сравнению с тем, чему мы только что были свидетелями. Криса стала потихоньку убирать со стола посуду.
“Ну что? – обратился Мосцепанов к Костандису. – Покажем ему?”
Тот кивнул и встал. Оба выжидающе смотрели на меня.
Я насторожился: “Что вы хотите мне показать?”
“Пойдемте, увидите, – сказал Костандис. – Тут близко. Афины – маленький город”.
В самом деле, за полчаса мы прошли его насквозь и за последними домами вышли не к возделанным полям, как было бы за окраиной любой из европейских столиц, а к обширной пустоши с доходившей до верха сапожных голенищ серой осенней травой. Кое-где темнели островки будылья вокруг видневшихся тут и там отдельных камней и каменных гряд. Два-три чудом дотянувших до октября кузнечика обреченно пиликали на своих скрипочках.
Через четверть версты тропинка привела нас к маленькой церкви под замшелой, проломленной посередине крышей. Возле нее валялись мраморные обломки стоявшего тут когда-то языческого храма, из которых она частью и была построена. С одной стороны к ней примыкало небольшое кладбище, с другой – небольшая роща с поблекшей к октябрю листвой. Над ней поднимался аристократ здешних лесов – вечнозеленый лавр.
Церковь была открыта, священник готовился к вечерней службе. Мне захотелось ее осмотреть и, хотя мои спутники намеревались вести меня дальше, я настоял, чтобы они вошли со мной. Храм был неказист и снаружи, но внутри он поразил меня своей глубочайшей бедностью. В потолке зияли незаделанные дыры, по голым стенам змеились трещины. Расписанный в византийском духе иконостас не имел резьбы и позолоты, царский вход – дверей. Священник совершал таинства за ветхой завесой, над которой висело вырезанное из бумаги и пришпиленное к деревянному бруску распятие. Покалеченная капитель служила аналоем.
“Вижу, вы удивлены, – правильно истолковал Костандис мои чувства, – но в Греции нет церковной цензуры. Мы украшаем храмы так, как нам нравится, а наш вкус отличен от вашего. У вас ценится пышность, у нас – простота, вы любите золото, краски, лак, мы – полевые цветы и произведения древнего искусства. В глазах Бога бумажное распятие ничем не хуже серебряного. Для греков, по слову Евангелия, всё чисто, ибо нечистоту они не видят”.
Мосцепанов хитро улыбнулся, но смолчал. Радушным жестом хозяина он пригласил меня продолжить осмотр. Мы обошли церковь по периметру. На стенах не было никаких украшений, кроме полуувядших цветов и совершенно засохших цветочных венков, между ними белели бумажные листочки наподобие тетрадных, по две-три штуки в ряд прилепленные прямо к камням какой-то клейкой массой, которая остекленелыми потеками вылезала у них из-под углов. Все они были исписаны в той манере, в какой пишутся стихи.
“Духовные гимны?” – предположил я.
“Нет, – ответил Костандис. – Патриотические народные песни”.
Я попросил перевести какую-нибудь. Он выбрал самую короткую и, пояснив, что ее герой, гетерист Фармаки – историческое лицо, участник неудачного похода князя Ипсиланти из Одессы в Валахию, пересказал содержание: “Раненный в бою Фармаки захвачен турками в плен, увезен в Константинополь и там подвергнут мучительной казни на глазах русского, французского и английского послов. Истерзанный палачами, он воздевает глаза к небу, видит стайку ласточек и просит их, чтобы они полетели к его жене, рассказали ей, как мужественно принял он смерть”.
Голос у него пресекся. Неловко отвернувшись, чтобы скрыть блеснувшие в глазах слёзы, он быстро вышел наружу и направился в сторону кладбища. Мы с Мосцепановым пошли за ним. Солнце еще не село, но день ощутимо клонился к вечеру. Ни одного поспешающего на церковную службу прихожанина я не заметил.
Кладбище не было ни заброшенным, ни даже запущенным, оно было просто бедным. Место могильных крестов занимали камни, грубо обтесанные, а то и без следов обработки, или мраморные обломки, в изобилии разбросанные у церкви. Иные из надгробий не несли на себе надписей и знаков, но на большей их части с разной степенью тщательности были высечены кресты с именами покойных, иногда – лаконичные изречения из Библии, надо полагать, или Святых Отцов. Реже попадались детали геометрического орнамента и растительные узоры. Кое-где на могилах лежали букетики сухих цветов, стояли жестяные или деревянные иконки, но на той, к которой нас подвел Костандис, я увидел лишь вросшую в землю массивную глыбу серого гнейса. Резец каменотеса коснулся ее только с парадной стороны, той, где на отнюдь не идеально гладкой вертикальной поверхности по-гречески выбито было одно имя, без фамилии и без каких-либо сведений о том, чем занимался этот человек до того, как оказался здесь:
Ниже две цифры обозначали годы его рождения и смерти. Я машинально отметил, что он прожил сорок семь лет, столько же, сколько мне сейчас, и умер десять лет назад.
Костандис и Мосцепанов остановились, не делая попыток увлечь меня дальше. Я понял, что мы у цели – эту могилу они и собирались мне показать. Оба выжидающе молчали.
Сосущая пустота возникла у меня под солнечным сплетением, как если бы на Акрополе подвели к краю скалы и нагнули над бездной.
Я заставил себя улыбнуться: “Кенотаф, понимаю… Не понимаю, кому и для чего это понадобилось”.
“Нет, не кенотаф, – не в тон мне проговорил Костандис, и опять, как много лет назад, я услышал пение напряженной в нем струны. – Здесь лежит сердце государя императора Александра Павловича”.
Как ни странно, я сразу ему поверил. Лжецы так себя не ведут.
“Это была его предсмертная воля, – закончил он. – За неделю до смерти он подозвал меня к себе и попросил втайне от всех устроить так, чтобы часть его останков упокоилась в Греции”.
“Часть?” – переспросил я.
“Не помню точно, какое слово он употребил, но смысл такой. Он знал, что для отправки в Петербург тело будет набальзамировано, а для этого придется извлечь внутренности… Он был в полном сознании”, – ответил Костандис на мой невысказанный вопрос.
В одном баронесса Криднер не ошиблась. “Что бы вы ни говорили, ваше сердце принадлежит Греции”, – писала она государю. Единственный раз в жизни ангел судеб показал ей свою правую руку.
Поплыл перед глазами запертый на замок большой серебряный сосуд, похожий на сахарницу. В нем лежали внутренности государя, его сердце и легкие. Заспиртованные, они вместе с телом отправились в Петербург, но после отъезда Тарасова и Вилье два месяца находились в ведении Костандиса. Он без труда мог подменить сердце или изъять его без замены, резонно полагая, что перед погребением, когда пропажа обнаружится, посвященные в эту тайну предпочтут не поднимать шума.
Костандис испытующе смотрел меня. Я молча кивнул.
“Я знаю, вы любили его, – сказал он после паузы. – Вопрос вот в чем: была бы ваша любовь к нему так же сильна, если бы он не был государем?”
Я повернулся и зашагал в сторону города.
Тропинка, приведшая нас к церкви, осталась в стороне, я не стал к ней возвращаться и двинулся прямиком через пустошь. Мои спутники последовали за мной.
“Глупый вопрос, – услышал я за спиной голос Мосцепанова. – С тем же успехом ты можешь спросить у моей Эви, любила бы она меня или нет, не будь я ее отцом”.
Он догнал меня и пошел рядом.
“Прозябоша грешные яко трава”, – вспомнил я 91-й псалом.
Не уверен насчет грешников, но высохшие за долгое южное лето травяные метелки трепетали под очнувшимся к вечеру ветром. Они со звоном секли мне голенища сапог.
Очертания Гиметты, еще недавно ясные, начали расплываться в вечерней дымке. На таком расстоянии желтый мрамор Парфенона казался ослепительно белым. Передо мной расстилалась земля, которой суждены счастье и вечное процветание.
Мосцепанов подобрал сухую ветку и, насвистывая, сшибал ею головки каких-то желтеньких цветочков вроде крымской кульбабы, но повыше и покрупнее. Чувствовалось, что он доволен прогулкой, моим обществом, женой, дочерью, всей своей прошлой и нынешней жизнью. Тем, что сердце государя, всегда искавшее покоя, нашло его, как и он сам, здесь, в Греции, – тоже.
Он перестал свистеть и выбросил ветку. Городской шум сюда не долетал. Трава продолжала звенеть, но этот звук лишь оттенял царившую вокруг тишину. Ее не нарушали даже птицы. Они пропели свои брачные песенки и замолчали до будущей весны.






