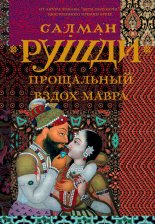Лживая взрослая жизнь Ферранте Элена

Элена Ферранте
Лживая взрослая жизнь
Все факты и персонажи, действующие в этом произведении, все присутствующие в нем имена и диалоги — исключительно плод воображения и свободного художественного творчества. Всякое сходство, совпадение и отсылка к реальным фактам, людям, именам и местам не намеренны, а случайны. Упоминание государственных учреждений, газет, журналов и книг обусловлено необходимостью обрисовать вымышленных персонажей.
Часть I
1
За два года до того, как уйти из дома, отец сказал маме, что я совсем некрасивая. Сказал почти шепотом, в квартире, которую родители купили сразу после свадьбы в Рионе Альто[1], в самой верхней точке виа Сан-Джакомо-деи-Капри. Все это — улицы и площади Неаполя, синий свет холодного февраля, слова отца — словно застыло. А я ускользнула и продолжаю ускользать между строчек, пытающихся сложиться в мою историю, хотя на самом деле у меня ее нет, у меня нет ничего своего, ничего, что по-настоящему началось или по-настоящему завершилось: лишь запутанный клубок — и никто, даже тот, кто пишет сейчас эти строки, не знает, запрятана ли в нем нить повествования или это просто сжавшаяся в комок взъерошенная боль, от которой нет спасения.
2
Я очень любила отца, он всегда был заботливым и милым. Утонченные манеры соответствовали худощавому телу — любая одежда казалась ему велика, в моих глазах это придавало отцу неподражаемую элегантность. У него были тонкие черты лица, и ничто — ни идеально вылепленный нос, ни пухлые губы, ни глубокие, с длинными ресницами глаза — не нарушало общей гармонии. Со мной он всегда разговаривал весело, независимо от своего и моего настроения, и не уходил к себе в кабинет (отец все время работал), пока я хотя бы не улыбнусь. Больше всего ему нравились мои волосы — я уже и не вспомню, когда он начал их хвалить, наверное, мне было годика два или три. Зато я точно помню, что когда я была маленькая, мы вели такие разговоры:
— Какие красивые волосы, шелковистые, блестящие! Подаришь их мне?
— Нет, они мои.
— Ну не жадничай!
— Если хочешь, я их тебе одолжу.
— Ладно, но я их не верну.
— У тебя есть свои.
— Эти я забрал у тебя.
— Неправда, ты все придумываешь.
— Хочешь — проверь: они были такие красивые, что я их украл.
Я проверяла, но понарошку, я знала, что он бы ни за что не украл у меня волосы. А еще я смеялась, много смеялась, с отцом мне было веселее, чем с мамой. Он все время просил что-нибудь ему отдать — ухо, нос, подбородок. Утверждал, что они настолько прекрасны, что он без них жить не может. Мне страшно нравилось, когда отец так говорил: он постоянно подчеркивал, что я ему очень нужна.
Конечно, отец вел себя подобным образом не со всеми. Иногда, если что-то его глубоко трогало, он взахлеб рассуждал о сложных вещах, не сдерживая чувств. А иногда, напротив, бывал немногословен, отделывался короткими, меткими фразами, настолько емкими, что разговор сразу затухал. Эти два отца были совсем не похожи на того, которого я любила, я обнаружила их существование лет в семь-восемь, услышав, как отец спорит с друзьями и знакомыми, — они собирались у нас дома и горячо обсуждали то, в чем я ничегошеньки не понимала. Обычно я сидела с мамой на кухне и почти не обращала внимания на шедшие совсем рядом баталии. Но иногда, если мама тоже бывала занята и уходила к себе в комнату, я оставалась в коридоре одна — играла или читала, пожалуй, чаще читала, потому что отец много читал, мама тоже, а мне хотелось им подражать. Я не обращала внимания на взрослые споры и бросала чтение или игру, только когда в повисшей тишине внезапно раздавался один из “чужих” отцовских голосов. С этой минуты все его слушали, а я ждала, когда же закончится собрание, чтобы удостовериться, что отец опять стал таким, как обычно, — нежным и ласковым.
Тем вечером, за мгновение до того, как произнести врезавшиеся мне в память слова, отец узнал, что у меня не все в порядке с учебой. Для него это стало открытием. С первого класса я всегда училась хорошо и только в последние два месяца начала отставать. Родителям очень хотелось, чтобы у меня были высокие оценки, поэтому при первых тревожных звоночках они заволновались, особенно мама.
— Что с тобой?
— Не знаю.
— Надо стараться.
— Я стараюсь.
— Так в чем же дело?
— Что-то я помню, а что-то нет.
— Учи, пока все не запомнишь.
Я учила до изнеможения, но результаты все равно разочаровывали. В тот день мама ходила в школу беседовать с учителями и вернулась расстроенная. Она меня не ругала — родители никогда меня не ругали. Она лишь сказала: больше всего недовольна учительница математики, но она считает, что если ты захочешь, у тебя все получится. Потом мама ушла на кухню готовить ужин; тем временем вернулся отец. Я слышала из своей комнаты, как она пересказывает ему претензии учителей, и поняла, что она пытается меня оправдать, ссылаясь на переходный возраст. Однако отец перебил ее и голосом, которым он со мной никогда не разговаривал — с ноткой диалекта, строго-настрого запрещенного в нашем доме, — сказал, не сдержавшись, то, о чем ему лучше было бы промолчать:
— Причем тут переходный возраст, она становится похожа лицом на Витторию.
Знай отец, что я могу его услышать, он бы никогда не произнес это таким тоном, совсем далеким от того, каким велись наши обычные непринужденные, шутливые разговоры. Оба родителя полагали, что дверь в мою комнату закрыта, я всегда ее закрывала, и не заметили, что кто-то из них оставил ее приоткрытой. Так в двенадцать лет я узнала от отца, старавшегося говорить как можно тише, что становлюсь похожа на его сестру, на женщину, которая — отец твердил это, сколько я себя помню, — воплощала уродство и злобу.
Мне возразят: наверняка ты преувеличиваешь, ведь отец не сказал: “Джованна уродина”. Действительно, ему было не свойственно выражаться так резко и грубо. Но я была тогда очень ранимой. Год назад у меня начались месячные, стала заметна грудь, которой я стеснялась, я считала, что от меня плохо пахнет, все время мылась, спать ложилась разбитой и разбитой же вставала. В то время единственным утешением, единственной опорой для меня был отец, который относился ко мне с безоговорочным обожанием. Поэтому сравнение с тетей Витторией было страшнее, чем если бы он сказал: “Раньше Джованна была красивая, а теперь стала уродиной”. Имя Виттории звучало в нашем доме как имя чудовища, которое все оскверняет, губит все, к чему прикасается. Я почти ничего не знала о ней, мы виделись считанные разы, но — в этом-то все и дело — от наших встреч в памяти остались только отвращение и страх. Не отвращение и страх, которые вызывала у меня Виттория, — ее я совсем не помнила. Меня пугали отвращение и страх, которые испытывали к ней родители. Отец о ней почти не упоминал, словно сестра занималась чем-то постыдным, чем-то, что покрывало грязью ее саму и всех, кто с ней сталкивался. Мама о ней вообще не говорила, а когда отец не сдерживался, пыталась заставить его замолчать, словно из боязни, что Виттория, где бы она ни была, их услышит и мгновенно громадными прыжками промчится по нашей длинной и резко поднимающейся вверх улице, нарочно собирая и таща за собой всю заразу из близлежащих больниц, взлетит к нам на седьмой этаж и разобьет мебель и всю утварь вылетающими из глаз безумными черными молниями, а если мама начнет возмущаться, примется хлестать ее по щекам.
Конечно, я догадывалась, что напряженное молчание скрывало что-то из далекого прошлого, некие давно причиненные и полученные обиды, но в то время я почти ничего не знала об истории нашей семьи, а главное — не воспринимала жуткую тетю как ее члена. Она была букой, которой пугают в детстве, прозрачной, еле заметной тенью, лохматым чудищем, притаившимся в углу в ожидании, когда дом погрузится в темноту. И вдруг, совершенно внезапно, я узнаю, что становлюсь на нее похожа? Я? Я, прежде считавшая себя красавицей и благодаря отцу твердо знавшая, что останусь такой навсегда? Я, верившая отцу и полагавшая, что у меня чудесные волосы, я, мечтавшая, что меня будут любить столь же безумно, как любит отец, как он меня приучил? Я, и так уже страдавшая потому, что оба моих родителя оказались вдруг мною недовольны, и теперь переполненная тревогой, которая делала мир вокруг тусклым?
Я ждала, что скажет мама, но ее ответ меня не утешил. Хотя она терпеть не могла всех родственников со стороны мужа и испытывала к золовке такое отвращение, какое испытываешь к ящерице, ползущей по голой ноге, она не крикнула ему в лицо: “Ты с ума сошел, между моей дочерью и твоей сестрой нет ничего общего”. Она лишь коротко, еле слышно проговорила: “Да что ты, вовсе нет”. Я вскочила и быстро закрыла дверь, чтобы не слушать дальше. Потом я плакала в тишине и успокоилась, только когда отец объявил — на этот раз добрым голосом, — что ужин готов.
Я пришла к ним на кухню с сухими глазами. Глядя в тарелку, я вынуждена была выслушивать полезные советы о том, как наладить учебу. Потом я вернулась к себе, притворившись, что сажусь за уроки, а они устроились перед телевизором. Мне было очень больно, боль не уходила и даже не ослабевала. Зачем отец это сказал, почему мама решительно ему не возразила? Их недовольство было вызвано плохими оценками или тревогой, не связанной со школой и длившейся уже невесть сколько? И главное: отец произнес эти слова потому, что огорчился из-за меня сегодня, или потому, что проницательным взглядом человека, который все знает и видит, давно прочел у меня на лице предвестие моего загубленного будущего, надвигающейся беды, которая вызывала у него отчаянье и с которой он был не в силах справиться? Всю ночь я не находила покоя, а к утру решила: чтобы спастись, мне нужно своими глазами увидеть, какое на самом деле лицо у тети Виттории.
3
Это было непросто. В таком городе, как Неаполь, населенном семействами с многочисленными ветвями, представители которых порой враждовали до кровопролития, но никогда окончательно не сжигали мосты, мой отец умудрялся жить обособленно, словно у него не было кровных родственников, словно он породил себя сам. Разумеется, я много общалась с бабушкой и дедушкой по маминой линии и с маминым братом. Они меня очень любили и заваливали подарками, но потом дедушка и бабушка умерли — сначала он, год спустя она; их внезапное исчезновение меня почти напугало, мама плакала так, как плачут девчонки, когда больно стукнутся. Дядя нашел работу где-то далеко и уехал. Но прежде мы с ними часто виделись, нам бывало весело вместе. О родственниках со стороны отца я почти ничего не знала. Они появлялись в моей жизни в редких случаях — на свадьбах или похоронах, когда все старательно изображали сердечные отношения, поэтому с ними у меня было связано чувство, что я выполняю малоприятную обязанность: поздоровайся с дедушкой, поцелуй тетю. К этим родственникам я никогда не питала особого интереса еще и потому, что после подобных встреч родители нервничали и, словно сговорившись, старались сразу о них забыть, словно их заставили участвовать в дешевом спектакле.
К тому же если родители мамы жили в известном мне месте с внушающим уважение названием — Музей (они были музейными бабушкой и дедушкой), то место, где проживали родители отца, оставалось неопределенным и безымянным. Я твердо знала одно: чтобы добраться до них, нужно спускаться вниз, вниз, все время вниз, в самый низ Неаполя. Путь этот был настолько долгим, что тогда мне казалось, будто мы и отцовские родственники живем в двух разных городах. Многие годы я так и считала. Наш дом стоял в самой высокой части Неаполя: куда бы мы ни шли, приходилось спускаться. Отец с мамой с удовольствием спускались в Вомеро, чуть менее охотно — к дому музейных бабушки и дедушки. Друзья родителей жили в основном на виа Суарес, на пьяцца дельи Артисти, на виа Лука Джордано, виа Скарлатти, виа Чимароза — я хорошо знала те места, потому что там обитали многие мои одноклассники. Не говоря уже о том, что все эти улицы вели на виллу Флоридиана, которую я очень любила, — мама возила меня туда в коляске подышать воздухом и погреться на солнышке, когда я еще не умела ходить, там я часами играла со своими подружками Анджелой и Идой. И только после этих кварталов, где глаз радовали зелень, проглядывавшее вдалеке море, сады и цветы, где царили веселье и хорошие манеры, начинался настоящий спуск — тот, что вызывал у родителей раздражение. По делам, за покупками, по другим причинам — особенно если это было связано с отцовской работой, встречами или дискуссиями с его участием, родители ежедневно спускались вниз, чаще всего на фуникулере, до Кьяйи или виа Толедо, а оттуда добирались до пьяцца Плебишито, Национальной библиотеки, Порт’Альба, виа Вентальери и виа Флорио; самым дальним пунктом была площадь Карла Третьего, где стоял лицей, в котором преподавала мама. Все эти названия я знала назубок — родители упоминали их постоянно, но редко брали меня с собой, наверное, поэтому я не испытывала, слыша их, того же счастья, что отец и мама. За пределами Вомеро лежал не мой город, то есть — почти не мой: чем дальше стелился он по равнине, тем больше казался мне чужим. Поэтому места, где проживала отцовская родня, представлялись мне диким, неизведанным миром. У них не только не было названий: вдобавок, судя по разговорам родителей, туда было совсем не просто добраться. Всякий раз, когда приходилось ехать в тот район, мои обычно бодрые и оптимистичные папа и мама казались на удивление утомленными и встревоженными. Я была маленькая, но их напряжение, слова, которыми они обменивались — вечно одни и те же, — запечатлелись в моей памяти.
— Андре, — еле слышно говорила мама, — одевайся, пора идти.
Но он продолжал читать и что-то помечать в книжке тем же карандашом, которым делал записи в лежащей рядом тетрадке.
— Андре, уже поздно, они рассердятся.
— Ты готова?
— Я готова.
— А наша девочка?
— И наша девочка.
Тогда отец, оторвавшись от книжки и тетрадки, надевал наконец чистую рубашку и парадный костюм. Он был молчалив, напряжен; казалось, будто он повторяет про себя текст роли, которую ему придется сыграть. Мама, между тем, еще вовсе не была готова: она вновь и вновь проверяла, как выглядит она, как выгляжу я, как выглядит отец, словно именно подобающие наряды и помогут нам вернуться домой живыми и здоровыми. В общем, было ясно, что всякий раз им хотелось защититься от мест и людей, о которых мне не рассказывали, чтобы не волновать. Но я все равно ощущала странную тревогу, узнавала ее; на самом деле тревога присутствовала всегда, она была единственной печальной ноткой в моем счастливом детстве. Мое беспокойство пробуждали непривычные, словно оборванные фразы:
— Прошу тебя: если Виттория что-нибудь скажет, сделай вид, что ты не услышал.
— То есть она начнет дурить, а я должен молчать?
— Вот именно. Не забывай: с нами Джованна.
— Хорошо.
— Не надо мне так отвечать, ничего хорошего тут нет. Но не такой уж это и подвиг. Посидим полчасика и вернемся домой.
Я почти не помню наши визиты. Шум, жара, суетливые поцелуи в лоб, диалект, скверный запах, который исходил от всех — вероятно, из-за страха. Все это со временем поселило во мне уверенность, что отцовские родственники (эти завывающие, отвратительные, мерзкие призраки, но особенно, конечно, тетя Виттория — самая черная, самая мерзкая) представляли опасность, хотя в чем именно она заключалась, я не понимала. Может, они жили в опасном районе? И от кого конкретно исходила эта опасность? От дедушки с бабушкой, дяди с тетей, двоюродных братьев — или только от тети Виттории? Похоже, моим родителям это было известно, и теперь, когда мне срочно потребовалось узнать, как выглядит тетя и что она за человек, мне придется с ними поговорить, чтобы во всем разобраться. Но если я начну приставать с расспросами, чего я добьюсь? Родители либо сразу закроют тему, попросту отказавшись ее обсуждать (“Хочешь повидать тетю? Хочешь к ней сходить? А зачем?”), либо встревожатся и постараются больше вообще не упоминать о Виттории. Тогда я подумала, что для начала неплохо бы найти ее фотографию.
4
Как-то раз, когда родителей не было дома, я решила порыться в шкафу у них в спальне: мама держала в нем альбомы, в которых в идеальном порядке хранились ее собственные фотографии, фотографии отца и мои. Я знала эти альбомы наизусть, я часто их листала: в основном они рассказывали об отношениях родителей и о моей почти тринадцатилетней жизни. Я уже поняла, что по каким-то таинственным причинам фотографий маминых родственников в них много, а отцовских мало, но главное — ни на одном из этих снимков нет тети Виттории. Однако я помнила, что где-то в том же шкафу стояла старая железная коробка, в которой вперемешку валялись снимки родителей, сделанные до их знакомства. Я их почти никогда не смотрела, а если и смотрела, то вместе с мамой, и потому надеялась обнаружить среди них фотографии тети.
Я отыскала коробку в глубине шкафа, но для начала решила внимательно пролистать альбомы с фотографиями родителей до свадьбы и с их свадебными фото (в центре — насупленные отец и мама, вокруг — немногочисленные гости). Затем пошли снимки счастливой пары… наконец появилась я, их дочка: целая куча фото — от рождения до настоящего времени. Я долго разглядывала фотографии свадьбы. Отец был в мятом темном костюме и на всех снимках хмурился, мама стояла рядом — не в свадебном платье, а в кремовом костюме, на голове — вуаль в тон, выражение лица растроганное. Среди трех десятков или немногим более того приглашенных я узнала родительских друзей из Вомеро, с которыми они продолжали общаться, и маминых родителей — хороших, музейных, дедушку и бабушку. Я все разглядывала снимок, все всматривалась в него, надеясь хотя бы на заднем плане увидеть фигуру, загадочным образом напоминающую женщину, которую я совсем не помнила. Все тщетно. Тогда я взяла коробку; открылась она далеко не сразу.
Я высыпала содержимое коробки на постель, все снимки были черно-белые. Фотографии, относившиеся к маминой и папиной юности, лежали вперемешку: улыбающаяся мама с одноклассниками, мама с подругами, на море, на улице — изящная, нарядная; отец — задумчивый, всегда в одиночестве, ни единого снимка на отдыхе, штаны пузырятся на коленях, рукава пиджаков коротки. Фотографии детства и отрочества были разложены по двум конвертам — полученные от маминого семейства и полученные от семейства отца. На отцовских наверняка есть тетя, подумала я и принялась тщательно их разглядывать. Фотографий было немного, штук двадцать; меня сразу удивило, что на трех или четырех отец, обычно снятый ребенком или подростком со своими родителями или с родственниками, которых я никогда не видела, стоял рядом с нарисованным черным фломастером треугольником. Я быстро догадалась, что эти ровные треугольники старательно, втайне от всех, нарисовал отец. Я представила, как он по линейке чертит на фотографиях треугольники, а потом аккуратно закрашивает их фломастером, стараясь не выходить за края. Какое же нужно терпение! Я не сомневалась: треугольники кого-то прятали, под черной краской скрывалась тетя Виттория.
Некоторое время я просидела, не зная, что делать. В конце концов я решилась: нашла на кухне нож и легонько поскребла малюсенькую часть закрашенного треугольника. Но вскоре стало ясно, что я вот-вот доскребусь до белой бумаги. Я испугалась и бросила это занятие. Я прекрасно понимала, что иду против воли отца, а все, что могло еще больше лишить меня его любви, меня пугало. Тревога усилилась, когда в глубине конверта я обнаружила единственную фотографию, на которой отец был не ребенком и не подростком, а юношей — он улыбался, чего почти не бывало на фотографиях до знакомства с мамой; отец был снят в профиль, его глаза сияли, зубы были ровные, белые. При этом его улыбка, его радость не были ни к кому обращены. Рядом с ним находились целых два треугольника: два аккуратных гробика, в которые он — не в те счастливые дни, когда был сделан снимок, а позже — упрятал тело сестры и кого-то еще.
Я долго разглядывала эту фотографию. Отец стоял на улице в клетчатой рубашке с коротким рукавом; наверное, было лето. У него за спиной виднелись вход в магазин, часть вывески, витрина… но вот ее содержимое было не разглядеть. Сбоку от черного пятна возвышался белый столб с четкими очертаньями. А еще на снимке были тени, длинные тени, одна из которых явно принадлежала женщине. Тщательно уничтожив стоявших рядом с ним людей, отец оставил их тени на тротуаре.
Я снова принялась медленно соскребать фломастер, но остановилась, поняв, что увижу только белую бумагу. Однако спустя пару минут я опять взялась за дело. Я старалась работать аккуратно, в тишине дома было слышно мое дыхание. Нож я отложила только тогда, когда там, где находилась голова Виттории, осталось малюсенькое пятнышко — то ли краска фломастера, то ли уголок ее губ.
5
Я все убрала на место, но страх стать похожей на закрашенную отцом сестру уже поселился во мне. Я становилась все рассеяннее, желание ходить в школу совсем пропало — это меня пугало. Но мне хотелось получать хорошие оценки, как несколько месяцев назад, для родителей это было важно, я даже подумала, что если снова стану отличницей, ко мне вернутся красота и приятный характер. Однако у меня ничего не получалось: в классе я думала о своем, дома вечно торчала перед зеркалом. Смотреться в зеркало стало моим наваждением. Я старалась понять, правда ли, что во мне начинает проглядывать тетя, но из-за того, что я никогда ее не видела, она мерещилась абсолютно во всем, что во мне менялось. Черты, на которые я до недавнего времени не обращала внимания, становились все более заметны: густые брови, маленькие карие глаза, в которых не было блеска, слишком высокий лоб, тонкие волосы — совсем некрасивые или больше уже не красивые, словно липнувшие к голове, — крупные уши с тяжелыми мочками, тонкая верхняя губа, над которой появился отвратительный темный пушок, слишком пухлая нижняя губа, зубы, выглядевшие как молочные, острый подбородок, а уж нос!.. Как нагло тянулся он к зеркалу, как расширялся книзу! И до чего же темные у меня ноздри! Это были черты Виттории — или мои, и только мои, черты? Дальше все станет лучше или хуже? Мое тело, длинная шея, казавшаяся непрочной, как паутинка, угловатые костлявые плечи, все больше округлявшиеся груди с темными сосками, тонкие, слишком длинные ноги, доходившие почти до подмышек… это была я — или шедшая в наступление тетя, тетя во всем своем безобразии?
Я не только изучала себя, но и внимательно присматривалась к родителям. Как же мне повезло, лучших родителей и быть не могло. Они были очень красивые и любили друг друга с юности. Об их знакомстве я знала немного — то, что рассказывали отец с мамой: он, как обычно, чуть иронично и отстраненно, она — взволнованно и нежно. Им настолько нравилось заботиться друг о друге, что ребенка они решили завести довольно поздно, хотя и поженились в юности. Я родилась, когда маме было тридцать, а отцу чуть больше тридцати двух. Мое появление на свет сопровождалось бесконечными тревогами, о которых мама говорила вслух, а отец — мысленно. Беременность протекала тяжело, роды (3 июня 1979 года) показались бесконечной пыткой; в общем, первые два года моей жизни убедительно продемонстрировали, как здорово я им все осложнила. Беспокоясь о будущем, отец, преподававший историю и философию в одном из лучших неаполитанских лицеев, довольно авторитетный в городе человек, любимый учениками, с которыми он не только проводил каждое утро, но и засиживался до вечера, начал давать частные уроки. Измученная моими капризами, доведенная до отчаяния тем, что я постоянно плакала по ночам, что у меня то краснела кожа, то болел живот, мама, преподававшая латынь и греческий в лицее на площади Карла Третьего и подрабатывавшая редактором любовных романов, надолго впала в депрессию: она стала скверно преподавать и пропускать кучу ошибок в верстках. Вот сколько бед я принесла сразу после рождения. Но потом я стала тихой, послушной девочкой, и родители постепенно пришли в себя. Закончилось время, когда оба они с утра до ночи тщетно пытались уберечь меня от невзгод, которые переживают все люди. Их жизнь обрела новое равновесие: на первом месте была любовь ко мне, а на втором вновь оказались отцовские занятия и мамина работа. Что тут сказать? Они любили меня, а я их. Отец казался мне необыкновенным человеком, мама — невероятно милой; для меня они были единственными четко прорисованными фигурами в мире, где царило смятение.
Смятение, частью которого была я. Иногда я воображала, как во мне разворачивается ожесточенная борьба между отцом и тетей, надеясь, что победит в ней он. Безусловно, размышляла я, Виттория однажды уже взяла верх, когда я родилась, ведь долгое время я была невыносимой, но потом, думала я с облегчением, я стала хорошей, значит, Витторию можно прогнать. Я пыталась успокоиться и, чтобы придать себе сил, искала в себе родительские черты. Однако вечерами, в сотый раз глядясь в зеркало прежде чем лечь в постель, я чувствовала, что давно потеряла родителей. Мое лицо должно было вобрать в себя лучшее, что было у них, а у меня постепенно вырисовывалась физиономия Виттории. Я должна была быть счастлива, но начиналось время несчастий… нет, я никогда не буду жить безмятежно, так, как жили раньше и живут сейчас мои родители.
6
В какой-то момент я попыталась понять, заметили ли мои лучшие подруги, сестры Анджела и Ида, что я подурнела, а главное — меняется ли к худшему Анджела, с которой мы были ровесницами (Ида была на два года младше). Мне требовался оценивающий взгляд, а на них, как я считала, можно было положиться. Нас воспитали родители, которые дружили десятки лет и придерживались одинаковых принципов. Скажу для ясности, что никого из нас трех не крестили и не учили молитвам, что мы рано узнали о том, как устроен наш организм (книжки с картинками, образовательные мультфильмы), и усвоили, что должны гордиться тем, что мы девочки, что в первый класс мы пошли не в шесть, а в пять лет и всегда вели себя благоразумно, что головы у нас были набиты советами о том, как избежать ловушек, которые расставляет Неаполь и целый мир, что каждая из нас могла в любой момент обратиться к родителям, дабы удовлетворить свое любопытство, и, наконец, что все мы много читали и дружно презирали привычки и вкусы наших ровесниц, хотя, благодаря тем, кто нас воспитывал, разбирались в музыке, фильмах, телепрограммах, певцах, актерах и втайне мечтали стать знаменитыми актрисами и завести красавцев-женихов, с которыми мы бы подолгу целовались, тесно прижимаясь друг к другу нижними частями тела. Конечно, я в основном дружила с Анджелой, Ида была маленькая, но порой нас удивляла — читала она даже больше нашего, а еще сочиняла стихи и рассказы. Сколько я себя помню, мы с ними не ссорились, а когда назревала ссора, честно говорили все как есть и мирились. Поэтому я пару раз осторожно допросила их как надежных свидетелей. Но они не сказали мне ничего неприятного, наоборот, дали понять, что я им очень нравлюсь; я же со своей стороны находила их все более грациозными. Они были хорошо сложены и так изящны, что, едва завидев их, я сразу чувствовала, что мне необходимо их тепло, и обнимала и целовала обеих, словно желая с ними слиться. Но однажды вечером, когда я была особенно подавлена, они явились с родителями на ужин к нам домой, на виа Сан-Джакомо-деи-Капри, и все пошло не так. У меня было скверное настроение. В тот день я чувствовала себя не в своей тарелке — длинная, тощая, бледная, говорящая и двигающаяся невпопад, подозревающая намеки на собственную уродливость там, где их и в помине не было. Например, Ида спросила, указывая на мои туфли:
— Новые?
— Нет, они у меня давно.
— А я их не помню.
— Что с ними не то?
— Да ничего.
— Если ты их только что заметила, значит, сейчас с ними что-то не то.
— Да нет, вовсе нет.
— У меня что, ноги как палки?
Мы продолжали так некоторое время: они меня успокаивали, а я вслушивалась в их слова, пытаясь понять — они говорят серьезно или скрывают за хорошими манерами тот факт, что я произвожу ужасное впечатление. Мама вмешалась, сказав по обыкновению тихо: “Джованна, хватит, у тебя нормальные ноги”. Мне стало стыдно, я замолчала, а Костанца, мама Анджелы и Иды, заметила: “У тебя очень красивые лодыжки”. Мариано, их отец, воскликнул со смехом: “Да и бедрышки отличные, вот бы зажарить их в духовке с картошкой!” И этим дело не кончилось: он подтрунивал надо мной, беспрестанно шутил; Мариано был из тех, кто уверен, что сможет развеселить даже пришедших на похороны.
— Что сегодня с этой девочкой?
Я помотала головой, показывая, что все в порядке, и даже попыталась ему улыбнуться, но не смогла. Его шутки меня бесили.
— Вот так шевелюра, это что у вас, веник такой?
Я вновь отрицательно покачала головой, но на этот раз не сумела скрыть раздражения: он обращался со мной, как с шестилетним ребенком.
— Милая, но это же комплимент: веник сверху тонкий, снизу толстый, золотистого цвета, а еще его перевязывают веревочкой.
Я мрачно буркнула:
— Я не тонкая и не толстая, и не золотистого цвета, и никто меня не перевязывает веревочкой.
Мариано поглядел на меня растерянно, улыбнулся и сказал дочерям:
— Почему это Джованна сегодня такая кислая?
Я ответила с еще более угрюмым видом:
— И никакая я не кислая.
— Кислая — это не оскорбление, это проявление внутреннего состояния. Знаешь, что это означает?
Я промолчала. Он вновь обратился к дочкам, изображая огорчение:
— Она не знает. Ида, можешь ей объяснить?
Ида неохотно сказала:
— Это значит, что у тебя кривая рожица. Он и мне это говорит.
Мариано был так устроен. Они с отцом приятельствовали с университетской скамьи, и, поскольку никогда не теряли друг друга из виду, Мариано всегда присутствовал в моей жизни. Полный, совершенно лысый, голубоглазый — с детства на меня производила сильное впечатление его бледная, одутловатая физиономия. Появляясь у нас дома, что бывало нередко, он часами беседовал с моим отцом, вкладывая в каждую фразу горькое негодование… меня это раздражало. Мариано преподавал историю в университете и подрабатывал в известном неаполитанском журнале. Они с отцом постоянно спорили, и хотя мы, девчонки, мало что понимали в их разговорах, мы выросли с мыслью, что наши отцы взялись за решение какой-то трудной задачи и что это требует напряженных занятий и полной сосредоточенности. Но Мариано не только трудился круглые сутки, как мой отец, но еще и громогласно разоблачал многочисленных врагов — жителей Неаполя, Рима и других городов, — мешавших им с отцом хорошо выполнять свою работу. У меня, Анджелы и Иды еще не было своего мнения, но мы твердо знали: мы на стороне наших родителей и против тех, кто желает им зла. Хотя, если честно, в их разговорах нас с раннего детства интересовали только ругательства на диалекте, которыми Мариано осыпал тогдашних знаменитостей. Объяснялось это тем, что всем нам — особенно мне — не просто запрещалось употреблять плохие слова: я вообще не должна была произносить ни слова на неаполитанском. Впрочем, родители, которые нам никогда ничего не запрещали, даже запрещая, проявляли снисходительность. Поэтому тихо, словно бы играя, мы повторяли имена и фамилии врагов Мариано, сопровождая их подслушанными непристойными эпитетами. Но если Анджела и Ида потешались над подобными выступлениями своего отца, то я чувствовала, что за ними скрывается нечто нехорошее.
Разве его шутки не были злыми? Даже в тот вечер? Это я-то кислая, с кривой рожицей, это у меня-то волосы как веник? Мариано просто пошутил — или, шутя, безжалостно раскрыл тайну? Мы сели за стол. Взрослые завели нудные разговоры про каких-то своих приятелей, намеревавшихся переехать в Рим, а мы молча скучали, надеясь, что ужин скоро закончится и мы уйдем ко мне в комнату. Весь ужин я поглядывала на родителей: отец ни разу не засмеялся, мама едва улыбалась, Мариано непрерывно хохотал, его жена Костанца смеялась не много, но от души. Наверное, моим родителям было не так весело, как родителям Анджелы и Иды, ведь они переживали из-за меня. Их друзья были довольны своими дочками, а мои родители — нет. У меня была кислая-прекислая рожица, так разве могли они радоваться, видя меня за столом? Насколько озабоченной выглядела моя мама, настолько же красивой и счастливой казалась мама Анджелы и Иды. Мой отец как раз наливал ей вино, говоря что-то отстраненно любезное. Костанца преподавала итальянский язык и латынь, богатые родители дали ей отличное образование. Она была настольно утонченной, что порой мама внимательно следила за ней, словно желая ей подражать, и я непроизвольно вела себя так же. Как так вышло, что подобная женщина выбрала в мужья Мариано? Сияние ее украшений, краски идеально сидевших нарядов ослепляли меня. Буквально прошлой ночью Костанца мне приснилась: кончиком языка она нежно, словно кошка, вылизывала мое ухо. Сон принес утешение, физическое облегчение, проснувшись, я несколько часов ощущала себя в безопасности.
Сейчас, сидя рядом с ней за столом, я надеялась, что исходящая от нее добрая сила прогонит из моей головы сказанные Мариано слова. Но они так и звенели у меня в ушах весь вечер (мои волосы похожи на веник, у меня кислая рожа), усиливая мою нервозность. Меня то тянуло пошутить, прошептав на ухо Анджеле что-нибудь непристойное, то охватывала тоска. Доев сладкое, мы оставили родителей беседовать и ушли ко мне, и я тотчас спросила Иду:
— У меня и правда кривая рожа? По-вашему, я становлюсь уродиной?
Они переглянулись и почти хором ответили:
— Нет.
— Скажите правду!
Я заметила, что они колеблются. Но потом Анджела собралась с духом и сказала:
— Немножко, но не в смысле внешности.
— Внешность у тебя красивая, — объяснила Ида, — но когда ты переживаешь, ты становишься чуть-чуть некрасивой.
Анджела поцеловала меня и сказала:
— Со мной тоже так бывает: когда я волнуюсь, я становлюсь некрасивой, но потом это проходит.
7
Связь между уродливостью и переживаниями неожиданно меня утешила. Человек может подурнеть из-за тревоги, объяснили мне Анджела и Ида, тревога уляжется, и красота вернется. Мне хотелось в это верить, я пыталась заставить себя жить беззаботно. Но принуждение к спокойствию не работало, голова внезапно затуманивалась, наваждение возвращалось. Меня все раздражало, скрыть это за ширмой хорошего настроения не получалось. Я быстро поняла, что тревоги так просто не уйдут; возможно, это вовсе не тревоги, а дурные мысли, постепенно перетекавшие в мою кровь.
Не то чтобы Анджела и Ида соврали мне — они не умели врать, нас учили, что врать нехорошо. Указывая на связь между уродливостью и тревогами, они, вероятно, говорили о себе, о собственном опыте, повторяя слова, которыми Мариано — у нас в головах была куча слов, подслушанных в родительских разговорах, — когда-то их утешал. Но я не была ни Анджелой, ни Идой. В семье Анджелы и Иды не было тети Виттории, их отец не говорил, что они становятся на нее похожи. Как-то утром, в школе, я вдруг поняла, что никогда уже не буду такой, какой меня хотят видеть родители, что жестокий Мариано это заметил, что мои подружки найдут себе более подходящих друзей, а я останусь одна.
Я впала в тоску, и в следующие дни мой недуг только обострялся; единственное, что ненадолго приносило облегчение, — гладить себя между ног, пьянея от наслаждения. Но насколько же унизительно было это делать, забывая себя настоящую! Потом мне становилось еще хуже, так что порой я вызывала у себя отвращение. Я помнила, как здорово было играть с Анджелой на диване у меня дома, когда, прямо перед включенным телевизором, мы ложились лицом друг к другу, переплетали ноги и, ни о чем не договариваясь, ничего не обсуждая, молча засовывали куклу между ластовицами наших трусиков и начинали безо всякого стеснения тереться, извиваться, с силой сжимать куклу, которая словно плясала — живая и счастливая. Все это осталось в прошлом, теперь наслаждение не казалось мне веселой игрой. После я всегда была мокрая от пота и казалась себе еще нескладнее. Маниакальная потребность проверять, что происходит с моим лицом, с каждым днем росла, и я со все большим упорством часами торчала перед зеркалом.
История получила неожиданное продолжение: разглядывая то, что казалось мне несовершенным, мне захотелось за собой ухаживать. Я изучала свои черты и думала, поглаживая лицо: будь у меня такой-то нос, такие-то глаза, такие-то уши, я была бы прекрасна. Подправить нужно было всего чуть-чуть, самую малость, и от этого я то расстраивалась, то переполнялась нежностью к себе. Бедняжка, думала я, до чего же тебе не повезло. Внезапно меня начинало тянуть к собственному изображению в зеркале, однажды я даже поцеловала себя в губы, решив в отчаянье, что никто не захочет целовать меня по-настоящему. Так я постепенно перешла к действиям. Шажок за шажком я выходила из ступора, в котором проводила прежде целые дни, разглядывая себя в зеркале; я ощутила потребность привести себя в порядок, словно я — вещица из драгоценного материала, которую испортил неумелый ремесленник. Это я — какая уж ни на есть! — и мне придется заботиться об этом лице, об этом теле, о мыслях у меня в голове.
Как-то воскресным утром я попыталась улучшить свою внешность при помощи маминой косметики. Но мама, заглянув ко мне в комнату, сказала со смехом: “Ты похожа на карнавальную маску, краситься нужно уметь”. Я не возражала, не настаивала на своем, а попросила как можно более послушным голосом:
— Научишь меня краситься, как красишься ты?
— Для каждого лица нужен свой макияж.
— Я хочу быть, как ты.
Маме было приятно, она сказала мне кучу комплиментов, а потом начала меня тщательно красить. Мы провели так не один чудесный час — сколько же мы шутили, сколько смеялись! Обычно мама была молчалива, сдержанна, но со мной — только со мной — охотно превращалась в девочку.
В какой-то момент к нам заглянул отец, в руках у него, как всегда, были газеты. Он увидел, что мы играем, и обрадовался.
— Какие вы обе красавицы! — сказал он.
— Правда? — спросила я.
— Правда. Никогда я не видел столь блистательных дам.
И он ушел к себе: по воскресеньям он читал газеты, а потом работал. Отцовский визит словно бы послужил сигналом. Когда мы остались вдвоем, мама спросила обычным своим усталым голосом, в котором не было ни раздражения, ни упрека:
— Зачем ты копалась в коробке с фотографиями?
Молчание. Значит, она заметила, что я рылась в ее вещах. Заметила, что я пыталась стереть фломастер. Как давно? Я не сумела сдержать слезы, хотя сопротивлялась плачу изо всех сил. “Мама, — сказала я, всхлипывая, — я хотела, я думала, мне казалось…” Но я так и не сумела толком объяснить, чего я хотела, о чем думала, что мне казалось. Я говорила, заливаясь слезами, а мама все никак не могла меня успокоить, наоборот, стоило ей сказать с понимающей улыбкой: “Не надо плакать, можешь просто попросить об этом меня или папу, да и вообще можешь разглядывать фотографии, когда захочется, ну что ты плачешь, успокойся…” — как я зарыдала еще сильнее. В конце концов она взяла меня за руки и тихо сказала:
— Что ты искала? Фотографию тети Виттории?
8
Тогда я поняла: родители догадались, что я услышала их разговор. Видимо, они долго это обсуждали, наверняка даже советовались с друзьями. Отец, конечно, расстроился, вероятно, он попросил маму объяснить мне, что вкладывал в сказанное совсем иной смысл, что не хотел меня ранить. Скорее всего, так оно и было, обычно маме прекрасно удавалось все сгладить. У нее никогда не бывало вспышек гнева, она даже не раздражалась. Например, когда Костанца посмеивалась над тем, сколько времени мама тратит впустую, готовясь к занятиям, вычитывая верстку дурацких романов, а порой и переписывая целые страницы, мама всегда отвечала ей тихо, спокойно, без малейшей горечи. И даже когда она говорила: “Костанца, у тебя куча денег, ты можешь делать, что хочешь, а мне приходится гнуть спину”, — это звучало мягко, без явной досады. Кто же, как не она, мог исправить ошибку? Когда я успокоилась, мама сказала своим тихим голосом: “Мы тебя любим”, — и еще повторила это раз или два. А потом завела разговор о том, чего раньше мы никогда не обсуждали. Мама сказала, что они с отцом многим пожертвовали, чтобы стать тем, кем они стали. Она тихо проговорила: “Я не жалуюсь, родители дали мне все, что могли, ты ведь помнишь, какие они были ласковые и заботливые, мы купили эту квартиру с их помощью. Но детство твоего отца, его отрочество и юность прошли тяжело, он был гол как сокол, ему пришлось самому карабкаться вверх. И все это не закончилось и никогда не закончится: налетает очередная буря и сбрасывает тебя вниз, так что приходится начинать все сначала”. Потом мама наконец-то дошла до Виттории и объяснила свою метафору: бурей, которая пыталась столкнуть отца вниз, была она.
— Она?
— Да. Сестра твоего отца очень завистлива. Завистлива не в обычном смысле, а по-плохому.
— Что же такого она сделала?
— Чего она только не делала. Но главное — она так и не сумела смириться с тем, что у отца все получилось.
— Как это?
— Получилось в жизни. Что он хорошо учился в школе и университете. Что он умный. Что он многого добился. Что получил высшее образование. Что преподает, что мы поженились, что он много работает, что его уважают и у него есть друзья, есть ты.
— И я тоже?
— Да. Виттория воспринимает всякое событие, всякого человека как личное оскорбление. Но больше всего ее оскорбляет существование твоего папы.
— Кем она работает?
— Прислугой, кем еще она может работать, она ведь доучилась только до пятого класса начальной школы. В том, чтобы работать прислугой, нет ничего плохого, ты же знаешь, что Костанце помогает по дому замечательная женщина. Но, видишь ли, Виттория и в этом винит своего брата.
— Почему?
— Да не почему. Особенно если вспомнить, что он ее спас. Она могла кончить куда хуже. Влюбилась в женатого человека с тремя детьми, в настоящего негодяя. Твоему отцу пришлось вмешаться — как старшему брату. Но она и это внесла в список обид, которые никогда ему не простила.
— Может, папе лучше было заниматься своими делами?
— Нельзя заниматься своими делами, если рядом кто-то попал в беду.
— Ну да.
— Но даже помочь ей оказалось непросто, в отместку она причинила нам все зло, на какое была способна.
— Тетя Виттория мечтает, чтобы папа умер?
— Нехорошо так говорить, но да.
— А помириться никак нельзя?
— Нет. Для этого твой папа в глазах Виттории должен стать посредственностью, как все, кто ее окружает. Но поскольку это невозможно, она настроила против него всю семью. По ее вине после смерти бабушки и дедушки у нас не было настоящих отношений ни с кем из папиных родственников.
Я отвечала односложно или тщательно взвешенными короткими фразами. А тем временем думала с отвращением: значит, у меня проступают черты той, что желает смерти отцу, горя моей семье; на глаза опять навернулись слезы. Мама это заметила и быстро пресекла. Она обняла меня и прошептала: “Не расстраивайся, теперь ты поняла, что имел в виду папа?” Не поднимая глаз, я решительно замотала головой. Тогда она объяснила мне все еще раз — медленно и, что было неожиданно, почти весело: “Для нас уже долгое время тетя Виттория — не человек, а образ. Знаешь, когда твой папа ведет себя как-то не так, я в шутку его предупреждаю: осторожно, Андре, у тебя только что было лицо, как у Виттории”. Потом мама нежно встряхнула меня и сказала: “Мы так шутим”.
Я мрачно пробормотала:
— Не верю, я от вас такого никогда не слышала.
— Возможно, при тебе мы так не выражаемся, но наедине — да. Это как красный свет, тем самым мы говорим: осторожно, еще чуть-чуть — и мы потеряем все, к чему стремились всю жизнь.
— И меня тоже?
— Ну что ты, разве мы можем тебя потерять? Ты для нас самое дорогое, мы хотим, чтобы ты была очень счастлива. Поэтому мы с папой и настаиваем, чтобы ты хорошо училась. Сейчас тебе трудновато, но это пройдет. Вот увидишь, сколько всего с тобой случится хорошего.
Я шмыгнула носом, мама хотела вытереть мне его, как маленькой, наверное, я и была маленькой, но я отпрянула и сказала:
— А если я не буду больше учиться?
— Останешься невеждой.
— И что?
— А то, что невежественность — это препятствие. Но ведь ты уже стараешься, правда? Жалко не развивать собственный ум.
Я воскликнула:
— Я не хочу быть умной, мама, я хочу быть красивой, как вы с папой!
— Ты станешь еще красивее.
— Нет, если у меня проступают черты Виттории.
— Ты совсем другая, с тобой этого не произойдет.
— Откуда ты знаешь? С кем я могу себя сравнить, чтобы понять, происходит это или нет?
— Я рядом, я всегда буду рядом.
— Этого недостаточно.
— И что же ты предлагаешь?
Я сказала почти неслышно:
— Мне нужно увидеть тетю.
Мама на мгновение задумалась, а потом ответила:
— Обсуди это с отцом.
9
Я не восприняла ее слова буквально. Я считала само собой разумеющимся, что сначала с ним поговорит мама, а прямо на следующий день отец скажет мне голосом, который я любила больше всего: “Слушаю и повинуюсь! Если наша королевна решила, что нужно повидаться с тетей Витторией, то несчастный родитель сопроводит ее, хотя его и придется тащить на поводке”. Затем он позвонит сестре и договорится о встрече или попросит об этом маму: отец никогда сам не занимался тем, что его раздражало, тяготило или расстраивало. А потом он отвезет меня на машине к тете.
Но все складывалось иначе. Проходили часы, дни, отца я видела редко — вечно запыхавшегося, вечно разрывавшегося между лицеем, репетиторством и важной статьей, которую он писал вместе с Мариано. Он уходил рано утром, а возвращался вечером, в те дни постоянно лил дождь, я боялась, что отец простудится, у него поднимется температура и он неизвестно сколько проваляется в постели. Разве такое возможно, думала я, чтобы настолько тихий, настолько деликатный человек всю жизнь сражался со злобной тетей Витторией? Мне казалось еще более неправдоподобным, что он сумел бросить вызов женатому негодяю, имевшему троих детей, и прогнать его, потому что тот намеревался погубить папину сестру. Я спросила у Анджелы:
— Если Ида влюбится в женатого негодяя с тремя детьми, ты, ее старшая сестра, как поступишь?
Анджела ответила, не раздумывая:
— Я все расскажу папе.
Иде такой ответ не понравился, она сказала сестре:
— Ты доносчица, а папа говорит, что доносить — самое отвратительное.
Анджела обиженно ответила:
— Я не доносчица, это ради твоего же блага.
Я осторожно спросила Иду:
— Значит, если Анджела влюбится в женатого негодяя с тремя детьми, ты папе ничего не расскажешь?
Ида, обожавшая читать романы, ответила, поразмыслив:
— Скажу, если негодяй будет уродливым и злобным.
Ну вот, подумала я, самое страшное — это уродливость и злоба. И однажды, когда отец ушел на какое-то собрание, я осторожно вернулась к важной для меня теме:
— Мам, ты сказала, что мы повидаемся с тетей Витторией.
— Я сказала, что тебе нужно обсудить это с отцом.
— А я думала, ты с ним уже говорила.
— Он сейчас очень занят.
— Давай сходим к ней вдвоем.
— Лучше, чтобы этим занялся он. К тому же скоро кончается учебный год, тебе надо много заниматься.
— Вы не хотите меня туда везти. Вы уже решили, что не станете этого делать.
Мама ответила голосом, каким еще несколько лет назад предлагала мне самой во что-нибудь поиграть, а ей дать отдохнуть:
— Вот как мы поступим: ты знаешь, где виа Миралья?
— Нет.
— А виа делла Стадера?
— Нет.
— А Пьянто?
— Нет.
— А Поджореале?
— Нет.
— А пьяцца Национале?
— Нет.
— А Ареначча?
— Нет.
— А то, что называют Промышленной зоной?
— Нет, мама, нет!
— Вот и узнаешь, это твой город. Сейчас я дам тебе справочник с картой, сделаешь уроки — посмотри, как туда добраться. Если это настолько срочно, можешь как-нибудь съездить к тете Виттории сама.
Последние слова меня обескуражили и почти ранили. Родители не посылали меня одну даже в булочную в двухстах метрах от дома. Когда мы встречались с Анджелой и Идой, кто-нибудь (отец или — чаще — мама) провожал меня к Мариано и Костанце на машине, а потом привозил домой. Теперь же они внезапно были готовы отправить меня в район, которого я не знала и куда сами они ездили весьма неохотно. Нет-нет, они просто устали от моих стенаний, посчитали блажью то, что мне было необходимо… словом, не воспринимали меня всерьез. Возможно, во мне что-то оборвалось, возможно, именно в тот день закончилось мое детство. Помню, мне показалось, будто хранившиеся внутри меня зернышки незаметно, через дырочку, просыпались на землю. Сомнений не было: мама уже посоветовалась с отцом и с его согласия начала отделять меня от них и их от меня, давая понять, что отныне мне самой придется справляться со своими капризами и причудами. Если вслушаться, за ее тихими и вежливыми словами ясно прозвучало: ты мне надоела, ты усложняешь мне жизнь, ты не хочешь заниматься, на тебя жалуются учителя, а теперь еще эти бесконечные разговоры о тете Виттории. Сколько можно! Джованна, как тебе объяснить, что отец произнес эти слова, потому что любит тебя? Хватит, иди поиграй с картой города, а ко мне больше не приставай.
Так это было на самом деле или нет, но для меня это стало первой потерей. Я остро почувствовала пустоту, которая обычно открывается, когда внезапно забирают что-то, что, как нам кажется, у нас никогда не отнимут. Я не произнесла ни слова. А поскольку мама прибавила: “Закрой, пожалуйста, дверь”, — вышла из комнаты.
Некоторое время я стояла перед закрытой дверью — ошеломленная, ожидая, что мама и вправду выдаст мне справочник. Этого не произошло, и тогда я почти на цыпочках отправилась к себе делать уроки. Разумеется, книжки я даже не открывала, в голове звучали слова, которые еще мгновение назад я и вообразить не могла. Зачем маме давать мне справочник, я и сама его возьму, изучу и отправлюсь к тете Виттории пешком. Буду идти много дней и месяцев. Эта мысль меня грела. Солнце, жара, дождь, ветер, холод, а я все иду и иду, преодолевая бесконечные опасности, пока не встречаю свое будущее в облике уродливой и коварной женщины. Решено, так я и поступлю. Я запомнила почти все незнакомые улицы, которые перечислила мама, можно сразу поискать хотя бы одну из них. В мою память сильнее всего врезалось название Пьянто[2]. Наверняка это печальное место, значит, там, где живет тетя, страдают или причиняют страдания другим. Улица, где мучаются, лестница, кусты с царапающими ноги шипами, грязные бродячие собаки, из огромной пасти течет слюна… Я решила для начала поискать это место на карте и отправилась в коридор, где стоял телефон. Попробовала вытащить справочник, зажатый массивными телефонными книгами. И заметила сверху записную книжку со всеми номерами телефонов, которые были нужны родителям. Как же я не догадалась. Скорее всего, здесь есть номер тети Виттории, а если так, зачем ждать, пока ей позвонят родители? Могу и сама позвонить. Я взяла записную книжку, нашла нужную букву — никакой Виттории там не было. Тогда я подумала: у нее такая же фамилия, как у меня, как у отца — Трада. Я поискала на “Т”, и она нашлась — Трада Виттория. Чуть выцветшие буквы, написанные отцовской рукой.
Сердце бешено колотилось, я ликовала, чувствуя, что словно стою в начале потайного хода, который непременно приведет меня к ней. Я подумала: позвоню. Прямо сейчас. Скажу: это твоя племянница Джованна, мне нужно с тобой повидаться. Может, она сама за мной зайдет. Назначим день и время, увидимся у моего дома или чуть ниже, на пьяцца Ванвителли. Я удостоверилась, что мамина дверь закрыта, вернулась к телефону, подняла трубку. Но как только я набрала номер и послышались длинные гудки, я испугалась. Если честно, после просмотра фотографий я впервые решилась на поступок. Что же я делаю?.. Надо обо всем рассказать — если не маме, то отцу, один из них должен дать разрешение. Осторожно, осторожно, осторожно! Но я колебалась слишком долго, низкий голос, как у курильщиков, которые приходили к нам домой на бесконечные собрания, произнес: “Слушаю”. Произнес так решительно, так бесцеремонно, с такой агрессивной неаполитанской интонацией, что от одного этого меня охватил ужас и я бросила трубку. Я едва успела. Послышался звук ключа в замке — вернулся домой отец.
10
Я успела отойти от телефона на несколько шагов, пока он входил, оставив предварительно на лестничной клетке мокрый зонтик и тщательно вытерев ноги. Рассеянно поздоровался со мной — без привычного веселья в голосе, ругая почем зря скверную погоду. Лишь освободившись от плаща, отец по-настоящему обратил на меня внимание:
— Чем занимаешься?