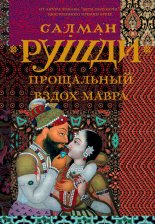Лживая взрослая жизнь Ферранте Элена

И тут отец произнес самым своим страшным — ледяным, полным презрения — голосом:
— Я сам знаю, чей это браслет, сними его немедленно!
Я сорвала браслет с руки и запустила им в шкаф.
9
Отец отвез меня на машине. Из Позиллипо я возвращалась домой победительницей, но мне было совсем скверно. В рюкзаке у меня лежали браслет и кусок торта для мамы. Костанца рассердилась на отца, она сама встала и подняла браслет с пола. Проверив, что он не сломан, она громко, не сводя глаз со своего сожителя, заявила, что браслет раз и навсегда отдан мне и что на этом тема закрыта. Потом, в атмосфере, где даже изображать веселье было бессмысленно, Ида задула свечки, и праздник окончился. Костанца велела мне отвезти угощение бывшей подруге — “Это для Неллы”; Анджела с мрачным видом отрезала большой кусок и аккуратно его упаковала. Теперь отец вез меня в Вомеро; он был явно не в себе, я никогда не видела его таким: глаза у него горели, лицо вдруг осунулось; вдобавок он бормотал что-то нечленораздельное, кривя рот так, будто говорить стоило ему огромных усилий.
Начал он с фраз типа: “Я тебя понимаю, ты думаешь, что я испортил жизнь твоей матери, и теперь хочешь мне отомстить, испортив жизнь мне, Костанце, Анджеле, Иде”. Его голос казался добрым, но я почувствовала невероятное напряжение и испугалась. Мне было страшно, что он того и гляди меня ударит, что мы врежемся в стену или в другую машину. Он это заметил и сказал тихо: “Ты меня боишься”. Я соврала, что нет, крикнула, что это неправда, я не хотела портить ему жизнь, я его люблю. Но он не унимался, он обрушил на меня поток слов. “Ты боишься меня, — опять сказал он, — ты меня не узнаешь, наверное, ты права, наверное, периодически я становлюсь тем, кем никогда не хотел быть, прости, если я тебя напугал, дай мне время, вот увидишь — я стану прежним, таким, каким ты меня знаешь. Мне сейчас нелегко, все рушится, я так и думал, что все этим кончится. И не надо оправдываться из-за того, что тебя переполняют плохие чувства, это нормально, не забывай только, что ты моя единственная дочь, и всегда останешься моей единственной дочерью, и твою маму я всегда буду любить. Сейчас ты этого не понимаешь, но потом поймешь, это не просто. Знаешь, я долго хранил верность твоей маме, но я любил Костанцу еще до того, как ты родилась, хотя между нами никогда ничего не было, мне она была как сестра, о которой я мечтал, полная противоположность твоей тете, просто полная противоположность — умная, образованная, отзывчивая. Мне она была как сестра, а Мариано как брат, брат, с которым я вместе учился, спорил, которому доверял. Я всегда все знал про Мариано, он всю жизнь изменял Костанце, ты уже большая, теперь я могу тебе об этом рассказать. У Мариано были другие женщины, он похвалялся передо мной своими романами, а я думал — бедная Костанца! Мне было ее жалко, хотелось защитить сначала от жениха, потом от мужа. Я думал, что так переживаю, потому что мы с ней словно брат и сестра, но однажды так вышло, да, просто так вышло, что мы поехали вместе в командировку, по работе, как преподаватели. Ей очень хотелось поехать, и мне тоже, без задних мыслей, клянусь, я никогда не изменял твоей маме — твою маму я любил со школы и сейчас люблю, люблю тебя и ее, а потом мы вместе пошли на ужин — я, Костанца и еще куча народу — и все время разговаривали, разговаривали в ресторане, потом на улице, потом всю ночь у меня в номере, лежа на кровати, как мы лежали, когда рядом были Мариано и твоя мама — нас было четверо, мы были молоды, мы часто укладывались рядом и спорили, ты же понимаешь, да? Как ты, Ида и Анджела, когда вы обо всем разговариваете. Но теперь мы были вдвоем с Костанцей, и мы обнаружили, что любим друг друга не как брат и сестра, что это совсем другая любовь… мы сами себе удивлялись. Кто знает, как и почему это случается, какие на то есть скрытые и явные причины. Но ты не думай, что потом все продолжилось, нет, просто это сильное чувство, от которого невозможно избавиться. Мне так жаль, Джованна, прости меня, и за браслет тоже прости, я всегда считал, что он принадлежит Костанце, я смотрел на него и думал: он бы ей очень понравился, очень пошел. Поэтому, когда умерла моя мама, я был на все готов, чтобы его заполучить, я влепил пощечину Виттории, потому что она хотела забрать его себе, а когда родилась ты, я сказал ей: подари его малышке. И она в кои-то веки меня послушала, а я… да, я сразу же подарил его Костанце, браслет моей матери, которая меня не любила, никогда не любила, может, ей было плохо от того, что сам-то я ее очень любил, не знаю. Иногда совершаешь поступки, которые вроде бы ничего не значат, а на самом деле они символические, ты ведь знаешь, что такое символы? Вот что мне нужно тебе объяснить: порой добро превращается в зло, а ты этого даже не замечаешь. Постарайся понять, я тебя ничем не обидел, ты тогда только что родилась, я думал, что обижу Костанцу, в своем воображении я уже давно отдал браслет ей”.
Он продолжал так всю дорогу, на самом деле он говорил еще сумбурнее, чем я пересказала. Я так и не поняла, почему человек, преданный своим занятиям и науке, умевший выступать ясно и четко, говорил настолько бессвязно, когда оказывался во власти эмоций. Я пыталась его перебивать. Сказала ему: “Папа, я тебя понимаю”. Сказала: “Это меня не касается, это ваши с мамой дела, ваши с Костанцей дела, я об этом знать не хочу”. Сказала: “Мне жаль, что тебе так плохо, мне тоже плохо, и маме, но тебе не кажется, что это как-то смешно — говорить, что всем плохо из-за того, что ты нас всех любишь?”
Мне не хотелось, чтобы это прозвучало как сарказм. Одна часть меня на самом деле желала поговорить с ним о том, как зло, которое мы принимаем за добро, постепенно или внезапно заполняет голову, живот, все тело. “Папа, откуда берется это зло, — хотелось спросить мне у него, — как с ним справляться, почему оно не вытесняет добро, а живет рядом с ним?” В ту секунду мне казалось, что отцу, хотя он в основном говорил о любви, известно о зле больше, чем тете Виттории, и поскольку я тоже ощущала внутри себя зло и чувствовала, как оно разливается все шире и шире, мне нужно было это обсудить. Но у меня ничего не вышло. Он уловил в моих словах только сарказм и опять стал судорожно сыпать оправданиями, обвинениями, с маниакальным упорством очерняя себя и с тем же маниакальным упорством объясняя, почему он прав и как он страдает. Когда мы приехали, я чмокнула его в щеку, почти у самых губ, и убежала, от отца несло кислым, мне было противно.
Мама спросила без особого любопытства:
— Как все прошло?
— Хорошо. Костанца прислала тебе кусочек торта.
— Съешь сама.
— Мне не хочется.
— Может, на завтрак?
— Нет.
— Тогда выброси.
10
Прошло немного времени, опять появился Коррадо. Я уже заходила в лицей, когда меня окликнули: еще до того, как я услышала его голос, до того, как я повернулась и различила его в толпе учеников, я уже знала, что встречу его тем утром. Я обрадовалась, мне это показалось добрым знаком, хотя, должна признаться, я давно думала о Коррадо, особенно когда делала уроки и скучала, — мама уходила, я оставалась дома одна и надеялась, что он явится неожиданно, как в прошлый раз. Я никогда не считала, что люблю его, мои мысли были заняты другим. Скорее я беспокоилась, что если Коррадо не придет, это будет означать, что скоро заявится тетя собственной персоной, потребует браслет и приготовленное мною письмо не понадобится, придется иметь дело с самой тетей — одна мысль об этом повергала меня в ужас.
Но дело было еще и в том, что внутри меня зрела острая потребность падать все ниже и ниже — словно проявляя отвагу, героически осознавая собственную гнусность; мне казалось, что Коррадо уловил эту мою потребность и без лишних разговоров готов ее удовлетворить. Поэтому я ждала его, мечтала о его появлении, и вот, наконец, он пришел. Он предложил мне — как всегда то ли серьезно, то ли подкалывая, — прогулять уроки. Я сразу же согласилась и потащила его подальше от входа в лицей, чтобы преподаватели его не увидели, я сама предложила ему пойти на виллу Флоридиана и повела его туда с превеликим удовольствием.
Он стал шутить, чтобы рассмешить меня, но я остановила его и достала письмо.
— Отдашь Виттории?
— А браслет?
— Браслет мой, я ей его не верну.
— Слушай, она рассердится, она давно на меня наседает, ты не представляешь, насколько она им дорожит.
— А ты не представляешь, насколько им дорожу я.
— У тебя сейчас были такие злые глаза. Красивые, мне понравилось.
— Дело не только в глазах, я вообще вся злая.
— Вся-вся?
Мы отошли подальше от аллей и спрятались среди деревьев и кустарников, от которых пахло зеленой листвой. На этот раз он меня поцеловал, но у него был противный язык — толстый, шершавый, пытавшийся затолкнуть мой язык вглубь горла. Он поцеловал меня и погладил мне грудь, но как-то неловко, сжав ее слишком сильно. Сначала положил руку на джемпер, потом попытался просунуть ее в чашку лифчика, но без особого интереса — очень быстро устал. Продолжая меня целовать, он оставил в покое грудь, задрал мне юбку, с силой прижал ладонь к моей промежности и принялся ее тереть. Я пробормотала со смехом: “Прекрати”, повторять не пришлось, мне даже показалось, что Коррадо доволен тем, что его обязанности уже выполнены. Он оглянулся, расстегнул молнию и засунул мою руку к себе в штаны. Я попыталась оценить свои ощущения. Когда он трогал меня, мне было больно, неприятно, хотелось вернуться домой и лечь спать. Я решила, что лучше сделаю все сама: так можно было надеяться, что Коррадо ничего делать не станет. Я осторожно вытащила то, что уже держала в руке, и спросила Коррадо на ухо: “Хочешь, сделаю тебе минет?” Я знала только само слово и плохо себе представляла, что оно значит; прозвучало оно, во всяком случае, очень неестественно. Я воображала, что нужно с силой сосать, как сосет молоко голодный детеныш, или лизать. Я надеялась, что Коррадо объяснит мне, что делать; с другой стороны, это было лучше, чем ощущать во рту его шероховатый язык. Я была растеряна и не понимала, зачем я здесь, зачем собираюсь этим заниматься. Я не испытывала возбуждения, это не казалось занятной игрой, мне даже не было любопытно; от его раздувшейся и напряженной, словно затвердевшей, плоти противно пахло. В тревоге я оглянулась, надеясь, что с аллеи нас увидят — например, какая-нибудь мамаша, выведшая детей подышать воздухом, — и поднимут крик, начнут ругаться. Но этого не произошло, и, поскольку Коррадо молчал, более того — как мне показалось, — был несколько не в себе, я решилась не легкий поцелуй, легчайшее прикосновение губами. К счастью, этого хватило. Он немедленно спрятал свой член в штаны и захрипел. Потом мы гуляли по вилле Флоридиана, но мне было скучно. Коррадо уже не пытался меня смешить, теперь он рассуждал серьезно, сосредоточенно, стараясь говорить на итальянском, хотя мне больше нравился диалект. Прежде чем мы расстались, он сказал:
— Помнишь моего друга Розарио?
— Это у которого выпирают зубы?
— Да, с виду он страшный, но вообще-то парень он неплохой.
— Ну, не то чтобы страшный, в общем, так себе…
— В общем, я куда красивее.
— Ну.
— У него есть машина. Хочешь с нами прокатиться?
— Не знаю.
— Почему не знаешь?
— Если будет весело, то да.
— Тебе точно будет весело.
— Посмотрим, — сказала я.
11
Спустя несколько дней Коррадо позвонил мне, чтобы рассказать про тетю. Виттория велела передать мне слово в слово, что если я еще раз позволю себе ее поучать, как поучала в письме, она явится к нам домой и отхлещет меня по щекам в присутствии этой дуры, моей матери. Так что — посоветовал Коррадо — пожалуйста, отнеси ей браслет, она хочет его получить до воскресенья. Он ей нужен, она собирается его надеть на какой-то праздник в церкви.
Коррадо не только кратко передал мне послание Виттории, но и объяснил, как мы все устроим. Они с приятелем заедут за мной на машине и доставят в Пасконе. Я отдам тете браслет — “Мы остановимся на площади, Виттория не должна знать, что я заехал за тобой вместе с другом на его машине. Помнишь, как она рассвирепела? Скажешь ей, что приехала на автобусе. А потом мы отправимся развлекаться. Идет?”
В те дни я была особенно нервной, плохо себя чувствовала, кашляла. Я казалась себе ужасной и хотела стать еще ужаснее. Уже довольно давно перед тем, как отправиться в лицей, я подолгу торчала перед зеркалом, одеваясь и причесываясь так, будто я чокнутая. Мне хотелось, чтобы люди от меня шарахались, да и сама я всячески демонстрировала, что мне хочется от них шарахаться. Все меня бесили — соседи, прохожие, одноклассники, учителя. Но больше всех бесила мама, которая не выпускала из рук сигарету, пила на ночь джин, ныла по поводу и без повода, и на лице у которой, как только я сообщала, что мне нужна какая-нибудь книжка или тетрадка, появлялось то ли встревоженное, то ли презрительное выражение. Но главное, меня бесило ее растущее преклонение перед всем, что говорил или делал отец, словно он и не обманывал ее пятнадцать лет, если не больше, с женщиной, которая была ее подругой и женой лучшего друга отца. В общем, мама выводила меня из себя. В последнее время я перестала прикидываться равнодушной и начала орать ей в лицо, нарочно смешивая итальянский с неаполитанским, что ей пора прекратить, пора наплевать на него: “Мам, сходи в кино, на танцы, он больше тебе не муж, считай, что он умер, теперь он живет у Костанцы, разве можно до сих пор заботиться о нем одном, думать только о нем?!” Я хотела показать маме, что презираю ее, что я не такая, как она, и никогда не стану такой. Поэтому однажды, когда позвонил отец и она опять послушно заблеяла “не беспокойся”, “я все сама сделаю”, я начала громко кричать, повторяя эти ее дурацкие фразочки и мешая их с ругательствами и непристойностями на диалекте, которые я толком не знала и потому выговаривала неправильно. Мама немедленно повесила трубку, чтобы бывший муж не услышал мои грубые вопли, пристально посмотрела на меня и ушла к себе, вероятно, заплакав. Так что сил у меня больше не было и я приняла приглашение Коррадо. Лучше встретиться с тетей и сделать минет Коррадо и его дружку, чем сидеть взаперти на виа Сан-Джакомо-деи-Капри и чувствовать себя в сумасшедшем доме.
Маме я сказала, что уезжаю с одноклассниками на экскурсию в Казерту. Я накрасилась, надела самую короткую юбку, облегающую кофточку с глубоким вырезом, засунула браслет в сумку — вдруг меня все же заставят его отдать — и ровно в девять утра помчалась вниз: у подъезда меня должен был встретить Коррадо. К огромному удивлению, я увидела, что меня ожидает желтый автомобиль неизвестной марки — отец не увлекался машинами, поэтому я в них не разбиралась; с виду он казался таким шикарным, что я пожалела о том, что поругалась с Анджелой и Идой, вот было бы здорово перед ними повыпендриваться. За рулем сидел Розарио, на заднем сиденье — Коррадо; обоих грело солнышко и обдувал ветерок — машина была без крыши, с открытым верхом.
Увидев, что я выхожу из подъезда, Коррадо радостно, как сумасшедший, замахал руками, но когда я попыталась сесть рядом с Розарио, заявил решительно:
— Ну нет, красавица, ты сядешь тут, со мной.
Я обиделась, я мечтала покрасоваться рядом с водителем, на котором были синий пиджак с золотыми пуговицами, голубая рубашка и красный галстук. Из-за одежды и гладко зачесанных назад волос он выглядел как сильный и опасный мужчина, да к тому же клыкастый. Я стала настаивать, примирительно улыбаясь:
— Спасибо, я сяду здесь.
Но Коррадо вдруг злобно произнес:
— Джанни, ты что, оглохла? Я сказал: немедленно садись сюда.
Я не привыкла к подобному тону, мне было страшно, но я все равно возразила:
— Составлю компанию Розарио, он ведь не твой водитель.
— Причем тут водитель или не водитель? Ты моя, значит, будешь сидеть рядом со мной.
— Я ничья, Корра, и вообще — хозяин машины — Розарио, где он скажет, там я и сяду.
Но Розарио не стал ничего говорить: он повернулся ко мне с лицом человека, который все время смеется, поразглядывал мою грудь, а потом постучал костяшками пальцев по соседнему сидению. Я быстро уселась, захлопнула дверцу; он рванул с места, нарочно взвизгнув колесами. Ура, у меня получилось — волосы развевались на ветру, солнце в этот прекрасный воскресный день светило прямо в лицо; я расслабилась. Розарио отлично водил, он легко брал то левее, то правее, будто чемпион по гонкам, мне было совсем не страшно.
— Эта машина твоя?
— Да.
— Ты богатый?
— Да.
— Поехали потом в Парк памяти[9]?
— Куда захочешь, туда и поедем.
Коррадо сразу вмешался, вытянув руку и сжав мне плечо:
— Только делай так, как я говорю.
Розарио посмотрел в зеркальце заднего вида:
— Корра, успокойся. Джаннина поступит так, как захочет.
— Сам успокойся, это я ее пригласил.
— Ну и что? — вмешалась я, сбрасывая его руку.
— Не лезь, я с Розарио разговариваю.
Я ответила, что говорю, с кем хочу и когда хочу, и дальше уделяла внимание только Розарио. Я поняла, что он гордится своей машиной, и сказала, что он водит намного лучше моего отца. Он начал хвастаться, я стала расспрашивать его про автомобили, даже попросила поскорее научить меня водить, как он. Наконец, воспользовавшись тем, что он почти не снимал ладонь с рукоятки передачи, я положила сверху свою и сказала: “Помогу тебе переключать скорости”, а потом засмеялась, я все смеялась и не могла успокоиться, и он тоже смеялся в ответ. Прикосновение моей руки его взволновало, я это заметила. Неужели, подумала я, мужчины настолько глупы, что эти два парня, стоит мне к ним прикоснуться или разрешить прикоснуться к себе, сразу слепнут и не замечают, что я сама себе отвратительна? Коррадо страдает из-за того, что я не села к нему, Розарио страшно доволен тем, что я сижу рядом, положив свою руку на его. Немного хитрости — и я добьюсь от них, чего угодно? Достаточно показать им ляжки или голую грудь? Достаточно их погладить? Так вот значит как моя мама завоевала отца, когда они были юными? И так его отняла у нее Костанца? И так действовала Виттория, отрывая Энцо от Маргериты? Когда несчастный Коррадо погладил меня по шее и потрогал край кофточки, под которой волной высилась моя грудь, я не стала возражать. Я только на несколько секунд посильнее сжала руку Розарио. “А ведь я совсем не красавица”, — думала я с удивлением, пока — между ласками, смехом, почти непристойными намеками, ветром и небом с белыми облачками — наша машина летела, и летело время, и вот уже появились заборы из туфа с колючей проволокой, заброшенные ангары, голубоватые дома — мы приехали в Пасконе.
Когда я узнала район, у меня прихватило живот, ощущение всемогущества пропало: мне предстояло увидеться с тетей. Коррадо сказал — в основном, чтобы убедить себя самого, что я его слушаюсь:
— Мы высадим тебя здесь.
— Хорошо.
— Встанем на площади, ты там не задерживайся. И помни, что приехала на городском транспорте.
— На каком еще транспорте?
— На автобусе, фуникулере, метро. Главное — не говори, что это мы тебя привезли.
— Хорошо.
— И давай там поскорее.
Я кивнула и вышла из машины.
12
Я с бьющимся сердцем прошагала по улице, добралась до дома Виттории, позвонила, она открыла. Поначалу я просто опешила. Я приготовила короткую речь, которую собиралась решительно произнести, — главным образом о чувствах, которые были связаны у меня с браслетом и которые делали его моим и только моим. Но я не успела и рта раскрыть. Увидев меня, Виттория начала длинный, скорбный, воинственный, пафосный монолог, который сбил меня с толку и напугал. Чем дольше она говорила, тем яснее я понимала, что браслет послужил просто предлогом. Виттория привязалась ко мне, она решила, что я тоже ее люблю, ей нужно было, чтобы я пришла, — только так она могла высказать мне, насколько я ее разочаровала.
— Я надеялась, — сказала она очень громко, на диалекте, который я понимала с трудом, хотя в последнее время и пыталась выучить, — что ты перешла на мою сторону, что ты увидишь, кто такие на самом деле твои отец и мать, и сразу поймешь, какая я, как мне жилось из-за твоего отца. Но нет, зря я ждала тебя каждое воскресенье. Ты могла хотя бы позвонить, но нет, ты ничего не поняла, наоборот, ты решила, что это я виновата в том, что твоя семья оказалась никудышной. И что ты в конце концов сделала? Вот оно, письмо, которое ты мне написала — мне! и такое письмо! — чтобы я устыдилась того, что я неученая, что ты умеешь складно писать, а я нет. Нет, ты совсем как твой отец, даже хуже, ты меня не уважаешь, ты не сумела понять, что я за человек, ты просто бесчувственная. Так что отдавай браслет, он принадлежал моей покойной матушке, ты его не заслуживаешь. Я ошиблась, в тебе течет не моя кровь, ты чужая.
В общем, я поняла, что если бы в нескончаемой семейной ссоре я заняла нужную сторону, если бы я воспринимала Витторию как единственную оставшуюся у меня опору, единственную наставницу, если бы я воспринимала церковный приход, Маргериту и ее детей как убежище, где меня ждут каждое воскресенье, возвращать браслет было бы не обязательно. Виттория кричала, а я смотрела в ее гневные и одновременно скорбные глаза и видела, как белесая слюна закипает у нее во рту, то и дело выплескиваясь на губы. На самом деле Виттории хотелось, чтобы я сказала, что люблю ее, что благодарна ей за то, что она раскрыла мне глаза на отца, показала, какое он ничтожество, что за это я всегда буду ее любить, что в благодарность я стану ей опорой в старости — и прочее в том же духе. Я мгновенно решила, что именно так ей и скажу. Я наскоро выдумала, будто родители запретили мне ей звонить, затем прибавила, что в письме все было правдой: браслет был мне дорог, ведь он напоминал о том, что Виттория мне помогла, спасла меня, направила в нужную сторону. Я сказала это жалобным голосом, сама удивляясь тому, насколько ловко изображаю огорчение, насколько тщательно выбираю задевающие душу слова, — короче, я повела себя не как Виттория, а намного хуже.
Постепенно она успокоилась, и я почувствовала облегчение. Теперь оставалось только найти способ спокойно уйти, вернуться к ожидавшим меня кавалерам; я надеялась, что Виттория не вспомнит про браслет.
Она действительно больше о нем не говорила, но стала настаивать, чтобы мы вместе пошли в церковь послушать выступление Роберто. Проклятье! От нее было невозможно отделаться. Она принялась расхваливать друга Тонино — видимо, после обручения с Джулианой он стал ее любимчиком. “Ты даже не представляешь, — сказала она, — какой он славный парень — умный, сдержанный. Потом мы пойдем на обед к Маргерите, и ты тоже”. Я вежливо ответила, что никак не могу, что мне надо домой — и обняла ее так, словно на самом деле любила… кто знает, может, это было правдой, я сама уже запуталась в своих чувствах. Я тихо проговорила:
— Мне пора, мама ждет, но я скоро вернусь к тебе.
Виттория сдалась:
— Ладно, я тебя провожу.
— Нет-нет, не надо.
— Провожу до остановки автобуса.
— Не надо, я знаю, где остановка.
Бесполезно, она решила идти со мной. Я понятия не имела, где находится остановка, я только надеялась, что она далеко от того места, где меня ждали Розарио и Коррадо. Однако мне показалось, что именно туда мы и направляемся, всю дорогу я твердила с тревогой: “Ладно, спасибо, дальше я сама”. Но тетя не отступалась, наоборот, чем больше я старалась от нее отделаться, тем яснее читалось у нее на лице, что она что-то подозревает. Наконец мы завернули за угол; как я и опасалась, автобусная остановка находилась на площади, где меня ждали Коррадо и Розарио — в машине с опущенным верхом их было прекрасно видно.
Виттория сразу заметила автомобиль: крашенный желтым металл сверкал на солнце.
— Ты приехала с Коррадо и с этим придурком?
— Нет.
— Поклянись.
— Клянусь.
Она оттолкнула меня, ударив в грудь, и направилась к машине, громко ругаясь на диалекте. Розарио мгновенно рванул с места. Виттория немного пробежала за ним, в бешенстве выкрикивая оскорбления, затем сняла туфлю и швырнула ее вслед автомобилю. Тот умчался, оставив Витторию, которая, вне себя от ярости, устало согнулась на обочине дороги.
— Ты врунья, — сказала она, когда, подняв туфлю, вернулась ко мне, все еще тяжело дыша.
— Нет, я клянусь.
— Сейчас я позвоню твоей матери и мы все узнаем.
— Не надо, пожалуйста! Я приехала не с ними, но маме звонить не надо.
Я рассказала ей, что поскольку мама запрещала мне с ней видеться, а мне этого очень хотелось, я наврала дома, будто еду с одноклассниками на экскурсию в Казерту. Я звучала вполне убедительно: узнав, что я обманула маму ради встречи с ней, Виттория смягчилась.
— На целый день?
— После обеда мне надо вернуться домой.
Она растерянно заглянула мне в глаза.
— Значит, отправишься со мной слушать Роберто, а потом уйдешь.
— Я боюсь опоздать.
— А я боюсь, что дам тебе по роже, если обнаружу, что ты меня обманываешь и куда-то намылилась с этой парочкой.
Я поплелась с ней, умоляя про себя: “Господи, пожалуйста, мне так не хочется идти в церковь, сделай так, чтобы Коррадо и Розарио не уехали, чтобы они меня где-нибудь подождали, избавь меня от тети, в церкви я умру со скуки”. Дорогу я уже знала: пустынные улицы, сорняки, мусор, исписанные и разрисованные стены, дома-развалюхи. Виттория обнимала меня за плечи и периодически с силой прижимала к себе. Она в основном говорила о Джулиане — Коррадо вызывал у нее беспокойство, а Джулиану и Тонино она уважала: Джулиана, мол, стала очень рассудительной. “Любовь, — сказала Виттория с трепетом, повторяя чужие слова, которые смутили и рассердили меня, — похожа на греющий душу луч света”. Я была разочарована. Наверное, мне следовало и в тетю всматриваться с тем же вниманием, с которым она просила меня вглядываться в родителей. Наверное, я бы тогда обнаружила, что за очаровавшей меня суровостью скрывалась слабая женщина, которую было легко обмануть, — внешне непробиваемая, а на самом деле беззащитная. Если Виттория на самом деле такая, подумала я разочарованно, тогда она некрасивая, как некрасиво все обыкновенное.
Всякий раз, заслышав шум автомобиля, я косилась в сторону, надеясь, что сейчас появятся Розарио и Коррадо и похитят меня, но в то же время я боялась, что тетя опять начнет орать и рассердится. Мы пришли в церковь, где было на удивление многолюдно. Я сразу подошла к кропильнице, помочила пальцы в святой воде и перекрестилась, прежде чем Виттория принудила меня это сделать. Пахло цветами и человеческим дыханием, раздавался негромкий гул; как только кто-то из детишек заговаривал громко, его шепотом успокаивали. За столом, поставленным в глубине центрального нефа, я увидела стоящего спиной к алтарю дона Джакомо: он эмоционально завершал свою речь. Казалось, он обрадовался нашему появлению и, не прерываясь, помахал нам. Я бы охотно села сзади, где никого не было, но тетя схватила меня за руку и потащила по правому нефу. Мы уселись впереди, рядом с Маргеритой, которая заняла Виттории место и которая, увидев меня, порозовела от радости. Я втиснулась между ней и Витторией: одна была полная, мягкая, другая напряженная, худая. Дон Джакомо умолк, гул усилился. В первом ряду я увидела неподвижно замершую Джулиану и — справа от нее — Тонино: широкие плечи, прямая спина. Потом священник сказал: “Иди сюда, Роберто, что ты там делаешь, садись рядом со мной” — и в церкви воцарилось странное молчание, словно у всех присутствующих одновременно перехватило дыхание.
А может, все было совсем не так, может, когда поднялся высокий и сутулый молодой человек, худой, похожий на тень, это я перестала что-либо слышать. Мне казалось, что он словно подвешен к куполу на длинной золотой цепи, которую вижу я одна и которая поддерживает его, так что он легонько покачивается, едва касаясь ботинками пола. Когда он подошел к столу и повернулся, мне почудилось, будто почти все его лицо занимают глаза — голубые-преголубые глаза на смуглом, костлявом, некрасивом лице, точно зажатом между копной непослушных волос и густой, казавшейся синей, бородой.
Мне было почти пятнадцать лет, и до этого дня никто из парней по-настоящему мне не нравился — уж точно не Коррадо и не Розарио. Но стоило мне увидеть Роберто — прежде чем он открыл рот, прежде чем его лицо вспыхнуло затаенным чувством, прежде чем он произнес хоть одно слово, — как мою грудь пронзила страшная боль и я поняла, что жизнь у меня теперь изменится, что он мне нужен, что я без него никак не смогу, что, даже не веря в Бога, я бы молилась день и ночь напролет о том, чтобы быть с ним, и что только это желание, эта надежда, эта молитва не позволили мне сейчас, тут же, упасть замертво.
Часть V
1
Дон Джакомо, усевшийся за скромный стол, не отрывал глаз от Роберто, слушал его очень внимательно, опершись щекой о ладонь. Роберто выступал стоя, повернувшись спиной к алтарю и к большому темному распятию с желтой фигурой Христа; хотя порой его слова звучали жестко, они увлекали. Я почти ничего не запомнила из того, что он сказал, возможно, потому, что в своем выступлении он опирался на культуру, которая была мне чужда, а возможно, потому, что из-за волнения я его не слышала. В голове у меня крутится немало фраз, определенно принадлежащих ему, но я не помню, когда в точности они прозвучали, путаю то, что он говорил в тот день, с тем, что он говорил позже. Впрочем, некоторые фразы наверняка были произнесены именно в то воскресенье. Например, иногда мне кажется, что в тот день в церкви он вспомнил притчу о хороших деревьях, приносящих хорошие плоды, и о плохих деревьях, которые приносят плохие плоды и которые поэтому пускают на дрова. Но чаще мне кажется, что он рассуждал о необходимости рассчитывать силы, прежде чем приступать к важному делу: к примеру, не стоит браться за строительство башни, если у тебя нет средств, чтобы сложить ее до последнего камня. А еще мне кажется, что он призывал всех быть смелыми, напомнив, что единственный способ прожить жизнь не зря — пожертвовать ею ради спасения других. Или я просто воображаю, будто он рассуждал о том, что нужно быть по-настоящему справедливыми, милосердными, верными и не оправдывать собственную несправедливость, жестокосердие и неверность, прикрываясь соблюдением правил. В общем, я и сама в точности не знаю, с тех прошло немало времени, а я все не могу разобраться. Для меня его выступление с начала и до конца было потоком чарующих звуков, лившихся из его прекрасных уст, из горла. Я глядела на его торчащий кадык так, словно за этим выступом на шее трепетало дыхание самого первого существа мужского пола, которое появилось на земле, а не одного из его бесконечных повторений, со временем наводнивших планету. Как прекрасны и страшны были его светлые глаза, выделявшиеся на смуглом лице, его длинные пальцы, блестящие губы. Лишь в одном его слове я не сомневаюсь — в тот день он часто его повторял, будто вертя в руке цветок маргаритки. Это было слово “смирение”, и я поняла, что он употребляет его в необычном значении. Роберто объяснил, что оно стерлось из-за неправильного использования, что его нужно очистить, он описывал его как иголку, которой предстоит скрепить нитью разрозненные слои нашего существования. Он говорил, что смирение означает чрезвычайную бдительность в отношении самих себя, что это нож, который постоянно ранит совесть, чтобы она не уснула.
2
Как только Роберто умолк, тетя потащила меня к Джулиане. Меня поразило то, насколько она изменилась: теперь ее красота показалась мне детской. Она совсем не накрашена, отметила я, цвета одежды абсолютно не женские; мне стало неловко за свою короткую юбчонку, густо накрашенные глаза и губы, глубокий вырез. Мне здесь не место, подумала я… а Джулиана тем временем шептала: “Как же я рада тебя видеть, тебе понравилось?” Я забормотала что-то приятное в ее адрес, восторженно отозвалась о выступлении ее жениха. “Давайте мы вас познакомим”, — вмешалась Виттория, и Джулиана повела нас к Роберто.
— Это моя племянница, — гордо заявила тетя (и мне стало совсем неловко), — очень умная барышня.
— Я не умная! — почти крикнула я и протянула ему руку: мне хотелось, чтобы он хотя бы легонько коснулся ее.
Он, не пожимая, подержал мою ладонь в своих и, ласково взглянув на меня, сказал: “Очень приятно”. А тетя все ворчала: “Она слишком скромная, не то что мой брат, который всегда был зазнайкой”. Роберто спросил меня про учебу — что мы проходим, что я читаю. Длилось это несколько мгновений, но мне показалось, что он спрашивает не из простой вежливости, и я вся похолодела. Я пробормотала что-то про скучные уроки, про трудную книжку, которую читаю уже несколько месяцев, а она все не кончается — в ней говорится о поисках утраченного времени. Джулиана еле слышно сказала Роберто: “Тебя зовут”, но он не отрывал своих глаз от моих, он явно удивился, что я читаю такую прекрасную и такую сложную книгу, и обратился к невесте: “Ты говорила, что она способная, но она не просто способная”. Тетя приняла гордый вид, повторила, что я ее племянница; тем временем несколько прихожан, улыбаясь Роберто, кивали в сторону священника. Мне хотелось сказать что-то, что ему бы запомнилось, но в голове было пусто, я ничего не придумала. Его уже куда-то тащили — он был всем нужен, — так что он попрощался, огорченно взмахнув рукой, и сразу оказался в плотной группке, где стоял и дон Джакомо.
Я не решилась проводить его даже взглядом, а осталась рядом с Джулианой — она вся светилась. Я вспомнила фотографию ее отца на кухне у Маргериты, вспомнила пляшущий огонек лампадки, из-за которого глаза Энцо будто сверкали, и мне показалось странным, что его дочь, унаследовав отцовские черты, все же выросла настоящей красавицей. Я поняла, что завидую ей, ее изящная фигура в бежевом платьице, ее чистое личико наполняли все вокруг радостной силой. Когда я с ней познакомилась, ее энергия проявлялась в слишком громком голосе и бурной жестикуляции, теперь же Джулиана вела себя сдержанно, словно гордость за то, что она любит и любима, невидимыми нитями укротила излишнюю живость манер. Она неловко сказала по-итальянски: “Я знаю, что с тобой приключилось, мне очень жаль, как я тебя понимаю!” Она даже взяла мою ладонь, как только что сделал ее жених. Мне не было неприятно, и я честно рассказала ей о страданиях мамы, хотя краем глаза все время следила за Роберто, надеясь, что он ищет меня взглядом. Этого не было — наоборот, я заметила, что он со всеми разговаривает с тем же сердечным вниманием, которое проявил ко мне. Он не торопился, не отпускал своих собеседников и делал так, чтобы те, кто толпился вокруг, чтобы поговорить с ним, согреться в лучах его теплой улыбки, полюбоваться его лицом, в котором все казалось неправильным, постепенно начинали беседовать друг с другом. Если я подойду, подумала я, он наверняка уделит мне внимание, втянет в спор. Но тогда мне придется выражать свои мысли яснее, и он сразу же догадается, что все это неправда, что я вовсе не умная, что мне ничего не известно о вещах, которые для него важнее всего. Меня охватило отчаяние, настаивать на разговоре с ним было бы унизительно, он бы подумал: вот это невежда! Поэтому, хотя Джулиана меня удерживала, я объявила, что мне пора уходить. Она стала настаивать, чтобы я пообедала с ними: “Роберто тоже пойдет”, — сказала она. Но я уже была напугана, мне буквально хотелось сбежать. Я быстро вышла из церкви.
Когда я оказалась на улице, от свежего воздуха у меня закружилась голова. Я оглядывалась по сторонам, словно только что вышла из кино, где смотрела захватывающий фильм. Я не просто не имела ни малейшего представления, как вернуться домой, но меня это и не волновало. Я бы осталась здесь навсегда: спала под портиком, не пила и не ела, довела бы себя до смерти, думая о Роберто. Прочие чувства и желания не имели для меня в тот миг никакого значения.
Я услышала, что меня зовут: это была Виттория. Она принялась назойливо меня удерживать, но потом сдалась и объяснила, как вернуться на виа Сан-Джакомо-деи-Капри: на метро доедешь до пьяцца Амедео, там сядешь на фуникулер, потом от пьяцца Ванвителли дорога тебе известна. Увидев, что я словно оторопела (“Что такое? Ты не поняла?”), она предложила отвезти меня домой на машине, хотя и собиралась на обед к Маргерите. Я вежливо отказалась; тогда она снова принялась сюсюкать со мной на диалекте, гладить по голове, хватать за руку, пару раз она даже чмокнула меня в щеку влажными губами, и я вновь убедилась, что передо мной не мстительная фурия, а несчастная одинокая женщина, которой хочется, чтобы ее любили, и которая была ко мне сейчас особенно расположена, потому что благодаря мне предстала в выгодном свете перед Роберто. “Ты молодец, — сказала она. — Я изучаю это, читаю то, молодец-молодец”. Я чувствовала себя виноватой перед ней не меньше, чем был виноват мой отец, и захотела исправиться: порывшись в кармане, я достала браслет и протянула ей.
— Я не хотела тебе его отдавать, — объяснила я, — мне казалось, что он мой, но на самом деле он твой, он должен быть у тебя и больше ни у кого.
Виттория подобного не ожидала, она взглянула на браслет с заметной неприязнью, словно это змея или дурной знак.
— Нет, я его тебе подарила, главное, что ты меня любишь.
— Возьми.
В конце концов она неохотно взяла браслет, но на руку не надела. Она положила его в сумочку и стояла рядом со мной, тиская меня, смеясь и напевая, пока не приехал автобус. Я села в него с таким чувством, будто каждым своим шагом ставлю точку, будто я неожиданно оказалась в своей новой истории, в своей новой жизни.
Я проехала несколько минут, сидя у окошка, когда услышала настойчивые гудки. На полосе обгона я увидела спортивный автомобиль Розарио. Коррадо бешено махал руками и кричал: “Выходи, Джанни, иди сюда”. Значит, они где-то прятались и терпеливо ждали меня, воображая, что я готова исполнить любое их желание. Я глядела на них с симпатией, сейчас, когда они мчались, подставляя лица ветру, они казались мне милыми и совершенно обыкновенными. Розарио вел машину и одновременно помахивал рукой, показывая, чтобы я выходила. Коррадо орал: “Мы будем ждать тебя на следующей остановке, поехали развлекаться”. Он глядел на меня так, словно приказывал, надеясь, что я послушаюсь. Поскольку я улыбалась с отсутствующим видом и не отвечала, Розарио тоже поднял глаза, чтобы понять, как я намерена поступить. Глядя на него, я помотала головой и беззвучно сказала: “Я уже не могу”.
Тогда автомобиль рванулся вперед и быстро обогнал мой автобус.
3
Мама удивилась, что поездка в Казерту оказалась такой короткой. “Как же так, ты уже вернулась? — проговорила она вяло. — Случилось что-то плохое? Ты с кем-то повздорила?” Я могла промолчать, запереться, как обычно, у себя в комнате, врубить музыку на полную громкость, читать и читать об утраченном времени, да о чем угодно, но я этого не сделала. Без лишних слов я призналась ей, что ездила не в Казерту, а к Виттории. Увидев, что мама побледнела от разочарования, я сделала то, что не делала уже несколько лет: села к ней на колени, обвила руками шею и стала тихонько целовать ее в глаза. Мама сопротивлялась. Она сказала, что я уже большая и тяжелая, стала бранить меня за то, что я ей соврала, что я так оделась, так вульгарно накрасилась, но при этом своими худыми руками она обнимала меня за талию. Потом мама спросила про Витторию:
— Она сделала что-то, что тебя напугало?
— Нет.
— Ты нервничаешь.
— Все нормально.
— У тебя холодные руки, ты вспотела. Точно ничего не случилось?
— Точно-точно.
Мама удивилась; она тревожилась и в то же время была довольна — или я просто плохо разобралась в маминых чувствах (радость, удивление, беспокойство) и додумала ее реакцию. О Роберто я не упомянула, я чувствовала, что не найду правильных слов и буду сама себе противна. Но я объяснила маме, что мне понравились беседы в церкви.
— Каждое воскресенье, — сказала я, — священник приглашает своих друзей, которые рассказывают что-нибудь интересное, в глубине центрального нефа ставят стол, потом устраивают обсуждение.
— И что же они обсуждают?
— Сейчас я не смогу тебе пересказать.
— Вот видишь, ты нервничаешь.
Я не нервничала, а, скорее, пребывала в приятном возбуждении, которое не прошло, даже когда мама, смущаясь, сказала мне, что несколько дней назад совершенно случайно встретила Мариано и, зная, что я уезжаю в Казерту, пригласила его зайти после обеда выпить кофе.
Но и эта новость не испортила мне настроение. Я спросила:
— Ты хочешь попробовать с Мариано?
— Да ты что!
— Неужели у вас совсем не получается говорить правду?
— Джованна, клянусь, это и есть правда: между нами ничего нет и никогда не было. Но поскольку твой отец опять с ним общается, почему бы и мне его не повидать?
Известие об отце мне не понравилось. Мама спокойно объяснила, что это случилось недавно, бывшие друзья встретились, когда Мариано заехал навестить дочерей, и ради девочек они с моим отцом вежливо побеседовали. Я фыркнула:
— Раз отец возобновил отношения с другом, которого предал, почему бы ему не прислушаться к голосу совести и не возобновить отношения с родной сестрой?
— Потому что Мариано воспитанный человек, а Виттория нет.
— Глупости. Просто Мариано преподает в университете, отцу рядом с ним приятно, он чувствует себя важным, а с Витторией он чувствует себя тем, кто он на самом деле.
— Ты хоть понимаешь, что говоришь о своем отце?
— Да.
— Тогда прекрати.
— Я говорю то, что думаю.
Я ушла в свою комнату и стала размышлять о Роберто. С ним меня познакомила Виттория. Он принадлежал к миру тети, а не к миру моих родителей. Виттория общалась с ним, ценила его, она одобрила — а то и устроила! — их союз с Джулианой. Это делало ее в моих глазах более отзывчивой и умной, чем люди, с которыми всю жизнь общались родители — прежде всего Мариано и Костанца. Нервничая, я закрылась в ванной, тщательно смыла косметику, надела джинсы и белую блузку. Что бы сказал Роберто, если бы я поведала ему о наших семейных делах, о поступках родителей, о восстановлении старой, разрушенной дружбы? Громко зазвонил домофон — я даже вздрогнула. Несколько минут — и до меня долетел голос Мариано, потом — голос мамы; я надеялась, что она не заставит меня к ним присоединиться. Она этого не сделала, я села за уроки, но избежать встречи было невозможно: вдруг я услышала, как она зовет: “Джованна, выйди поздороваться с Мариано”. Я вздохнула, захлопнула книгу и пошла.
Меня поразило, насколько исхудал отец Анджелы и Иды, в этом он мог поспорить с моей мамой. Сначала мне стало его жалко, но жалость быстро испарилась. Мне не нравился его веселый взгляд, немедленно остановившийся на моей груди, подобно взглядам Коррадо и Розарио, хотя на этот раз грудь была прикрыта рубашкой.
— Как ты выросла! — воскликнул он радостно, а потом обнял и расцеловал меня в обе щеки.
— Хочешь конфетку? Это Мариано принес.
Я отказалась, сославшись на то, что мне надо заниматься.
— Я знаю, тебе надо догонять свой класс, — сказал Мариано.
Я кивнула и тихо проговорила: “Ну, я пошла”. Прежде чем выйти из комнаты, я снова почувствовала на себе его взгляд, мне стало стыдно. Я подумала, что Роберто глядел мне только в глаза.
4
Я скоро поняла, что со мной произошло: я влюбилась с первого взгляда. Я много читала о подобной любви, но — не знаю почему — сама не называла так свое чувство. Я предпочитала считать, что Роберто — его лицо, его голос, его ладони, сжимающие мою ладонь, — это чудесное утешение после полных переживаний дней и ночей. Конечно, мне хотелось снова с ним встретиться, но после первого потрясения — незабываемого мгновения, когда, увидев его, я поняла, что он мне очень, очень нужен, — я обрела спокойный, трезвый взгляд. Роберто был взрослым, а я еще девочкой. Роберто любил другую — очень красивую и очень хорошую. Роберто был недоступен, он жил в Милане, я ничего не знала о его интересах. Единственной, кто нас связывал, была Виттория, но с Витторией было непросто, не говоря уж о том, что любая попытка встретиться с тетей причинила бы боль моей маме. В общем, дни шли, а я так и не понимала, что делать. Потом я решила, что все же имею право жить своей жизнью, не беспокоясь ежесекундно о реакции родителей: ведь они-то о моей ничуть не беспокоились. Я не выдержала и как-то раз, оставшись дома одна, позвонила тете. Я жалела, что отказалась от приглашения на обед, что не воспользовалась удачным случаем, и хотела осторожно выведать, когда мне можно снова навестить тетю, но так, чтобы непременно встретиться с Роберто. Я не сомневалась, что Виттория обрадуется мне после того, как я вернула браслет, но она не дала мне и слова сказать. От нее я узнала, что на следующий день после истории с поездкой в Казерту мама позвонила ей и своим тихим голосом сказала, что Виттории следует оставить меня в покое, что мы с ней вообще не должны были больше видеться. Из-за этого Виттория была сама не своя. Она принялась оскорблять мою маму, крикнула, что подкараулит ее у дома и зарежет, проорала: “Почему она позволяет себе говорить, что я делаю все, чтобы украсть тебя у нее? Ведь это вы сделали мою жизнь бессмысленной, вы, твой отец, твоя мать и ты, раз решила, что достаточно вернуть мне браслет — и все станет, как прежде!” Она крикнула еще: “Если ты за родителей, больше мне не звони, понятно?!” Наговорила напоследок кучу гадостей про брата и невестку и бросила трубку.
Я попыталась перезвонить, чтобы объяснить, что я на ее стороне, что я очень сердита на маму из-за того звонка, но она не отвечала. Мне стало грустно, в это мгновение я нуждалась в ее поддержке, я испугалась, что без нее никогда больше не увижу Роберто. Однако время шло: сначала я была страшно огорчена, потом принялась упорно размышлять. Роберто казался мне похожим на далекую гору — голубое пятно, ограниченное четкими линиями. Вероятно, говорила я себе, никто в Пасконе не видел его в тот день так ясно, как я. Он родился в этом районе, вырос там, они с Тонино дружили с детства. Все ценили его как необыкновенный, сияющий фрагмент унылой общей мозаики, да и Джулиана, вероятно, влюбилась не в того, кем он являлся на самом деле: у них были общие корни, но он выделялся как человек, который, появившись на свет в вонючей Промышленной зоне, получил образование в Милане и сумел отличиться. Вот только, убеждала я саму себя, качества, за которые в Пасконе все его любят, мешают увидеть его по-настоящему, понять, насколько он не похож на других. С Роберто нельзя обращаться как с обычным способным человеком, Роберто нужно беречь. Например, на месте Джулианы я бы сделала что угодно, чтобы он не пришел на обед к ней домой, я бы не позволила Виттории, Маргерите и Коррадо навредить ему, повлиять на то, почему он ее выбрал. Я бы не пускала его в этот мирок, я бы сказала: “Давай убежим, я перееду к тебе в Милан”. Но Джулиана, по-моему, не понимала, насколько ей повезло. А вот я, если у меня получится хоть немножко с ним подружиться, не заставлю его терять время с моей мамой, хотя она куда более презентабельный человек, чем Виттория или Маргерита. А главное — я постараюсь, чтобы он никогда не встретился с моим отцом. Исходящая от Роберто сила требует бережного отношения, иначе она быстро иссякнет, и я чувствую, что сумею о нем позаботиться. Да, стать ему подругой, не более, доказать, что где-то во мне скрыты нужные ему качества, пусть даже сама я о них не подозреваю.
5
В то время я начала думать, что раз внешне я некрасива, я могу стать красивой внутренне. Но как? Я уже поняла, что характер у меня не сахар, что я делаю и говорю гадости. Если у меня и были хорошие качества, я их намеренно подавляла, чтобы не чувствовать себя кисейной барышней из хорошей семьи. Мне казалось, что я нащупала путь к спасению, но у меня не получалось по нему идти, а может, я и вовсе не заслуживала спасения.
И вот как-то днем, совершенно случайно, как раз когда я пребывала в подобном настроении, я встретила дона Джакомо, настоятеля церкви в Пасконе. Не помню, почему я оказалась на пьяцца Ванвителли, я шла, думая о своем, и почти налетела на него. “Джаннина!” — воскликнул он. Когда я его увидела, площадь и дома вокруг исчезли, я вновь оказалась в церкви, я сидела рядом с Витторией, а Роберто стоял у стола. Когда все вернулось на свои места, я обрадовалась, что священник меня узнал, вспомнил, как меня зовут. Я была так счастлива, что обняла его, словно ровесника, с которым ходила еще в начальную школу. Но потом смутилась, стала обращаться к нему на “вы”, он попросил говорить “ты”. Он шел на фуникулер в Монтесанто и предложил его проводить; я с места в карьер, слишком бурно, принялась восхищаться тем, что видела в церкви.
— А когда Роберто будет снова у вас выступать? — спросила я.
— Тебе понравилось?
— Да.
— Видела, что ему удается отыскивать в Евангелии?
Я ничего такого не заметила — да и что я знала о Евангелии? — у меня в памяти отпечатался только Роберто. Но я все равно закивала и тихо сказала: — Никто из учителей не умеет так увлекательно рассказывать, я снова приду его послушать.
Он помрачнел, только теперь я заметила, что, хотя это был прежний дон Джакомо, что-то в нем изменилось: цвет лица у него был нездоровый, глаза покраснели.
— Роберто больше не придет, — сказал он, — и мы больше не будем устраивать в церкви подобные встречи.
Я очень расстроилась.
— Кому-то не понравилось?
— Моему начальству и некоторым прихожанам.
Я была разочарована и сказала с раздражением:
— Но разве твой начальник не Господь Бог?
— Да, но погоду определяют его подчиненные.
— А ты обратись прямо к нему.
Дон Джакомо взмахнул рукой, словно отмеряя огромное расстояние, и я заметила у него на пальцах, на тыльной стороне ладони и даже на запястье лиловые пятна.
— Господь очень далеко, — сказал он с улыбкой.
— А как же молитва?
— Я слаб; вероятно, я молюсь, потому что это моя профессия. А ты? Ты молишься, даже если не веришь в Него?
— Да.
— Помогает?
— Нет. Это как магия, которая в конце концов перестает работать.
Дон Джакомо замолчал. Я поняла, что ляпнула что-то не то, мне захотелось извиниться.
— Иногда единственное, что мне приходит в голову, — пробормотала я, — это попросить прощения.
— За что? С тобой этот день стал поистине чудесным, хорошо, что я тебя встретил.
Он снова взглянул на правую руку, словно там скрывался секрет.
— Тебе нездоровится? — спросила я.
— Я иду от своего приятеля, врача, который принимает здесь, на виа Кербакер. Я просто не выдержал.
— Не выдержал чего?
— Когда тебя заставляют делать то, чего тебе делать не хочется, но ты повинуешься, с головой становится плохо, да и со всем остальным тоже.
— Разве повиновение — это такая кожная болезнь?
Он растерянно взглянул на меня, улыбнулся:
— Пожалуй, так и есть, это такая кожная болезнь. А ты — отличное лекарство. Не меняйся, всегда говори то, что приходит в голову. Вот поболтаю с тобой еще пару раз — и мне полегчает.
Я выпалила:
— А мне что делать, чтобы полегчало?
Священник ответил:
— Избавься от гордыни, она нас все время подстерегает.
— А еще?