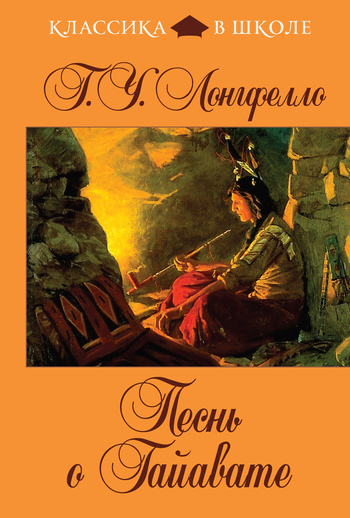Опоздавшие к лету (сборник) Лазарчук Андрей

наискось полный пламени
лава раскаленная лава там
бунтарей и благ день гнева
до костей и кровь кровь
полная железа осталась
неподвижно парить в вере
и синь озер
взъяренная
обитатели рая
МЕРТ
Солнце клонилось к вершинам истонченно-высоких сосен, длинной шпалерой выстроившихся вдоль старой имперской дороги. Туда же, к тем же соснам, катил фургон, запряженный четверкой разномастных лошадок. Аннабель дремала на сложенном ввосьмеро ковре. Ей было холодно и неуютно в новом обличии. Стареющая акробатка с вялым лицом, жилистыми ногами, сухой, как солома, волосней и похожими на пустые мешочки грудями. Жонглер и клоун Берт спал, лежа на животе и уткнув лицо в скрещенные руки. Генерал превратился в огромного — гора мускулов — горбуна-негра, а улан стал человеком-змеей, тонким, гибким, способным завязаться узлом. С новыми личинами они получили новые имена, новые характеры и даже новые воспоминания — все было учтено.
Они бежали из Кикоя, охваченного волнениями. Деревенский маг Дило по прозвищу Чернотел сплотил вокруг себя несколько тысяч фанатиков, которые повырезали гарнизоны в главном городе провинции, Хтооге, и двух городах поменьше: Сапре и Альше. Не дожидаясь, когда гнев гернотов обрушится на мятежников, все незаинтересованные люди побежали из Кикоя. Позади, по слухам, начинались эпидемии, пожары, необъяснимые умертвия и выход из земли чудовищ. Бродячие циркачи стремились к торговому городу Эствель, где скоро будет ярмарка и можно будет заработать. А денег надо много, потому что одни звери съедают столько, что можно прокормить двадцать человек…
Зверей было четыре: горный лев и львица, усмиренные и послушные, серый худой медведь, умеющий все, и удав. Аннабель испытывала неловкость перед зверьми — слишком уж суровая шутка обрушилась на ни в чем не повинных настоящих циркачей. Успокаивало совесть одно: так циркачи оказывались в гораздо большей безопасности, чем в людском своем обличии.
Имена от них перешли захватчикам: Аннабель звалась Стеллою, Берт — Адамом, генерал — Пальмером, а улан — Иппотропом. С именами перешли привычки и мелкие давние отношения…
— Ты мошной впредь не тряси, — дребезжащим тенорком ввинчивал Иппотроп Пальмеру, и тот согласно кивал пегой головой. — А то вишь какой ще-едрый. За общий-то счет. Хошь чего — меня спроси или вон Стеллу. Мы — понимаем. А ты, дурак здоровый, — не понимаешь.
— Подумаешь, чего я там переплатил — три монеты. Пить хотелось, вот и все. А дешевле он не давал…— оправдывался Пальмер за провинность недельной давности.
— Вот, говоришь, три монеты. А на эти три монеты, глядишь…
— Тпру-у-у, черти! — лениво сказал Пальмер, и мерный рокот окованных железом колес по щебенке мгновенно смолк. Стелла приподнялась на локте. Сворачивая с имперской дороги, к ним направлялись два десятка всадников…
19. ЛОТ
В дверь постучали.
— Заходите, — сказал Лот.
— Не спите еще? — На пороге стоял Меестерс. — Если хотите спать, говорите, не стесняйтесь.
— Хочу, но все равно не усну, — сказал Лот.
— То же самое и у меня, — вздохнул Меестерс. — Вы не думайте, я не буду надоедать вам каждый вечер. Это у меня просто на новых людей тяга. Привыкну — перестану замечать. Устали сегодня?
— Да. Перегруз получился. Слишком много фактажа.
— Зато теперь вы, наверное, все понимаете.
— Пока еще ничего не понимаю. Не обработал.
— А-а… Вам не холодно, кстати?
— Жарко. Но если хотите, выключите.
— Нет-нет, что вы. Пришел в гости и распоряжается…
— Я просто люблю прохладу. Зимой сплю с открытым окном.
— Это я уже знаю. Я о вас, наверное, вообще все знаю. Вас это не смущает?
— Пожалуй, нет. Особо стыдных вещей я за собой не помню.
— Это, наверное, неплохо — не помнить о себе стыдных вещей…
Я, к сожалению, никогда не смогу испытать такого чувства. За сорок лет работы накопилось всякое. Иногда мне странно, что я все еще жив.
Лот сочувственно кашлянул. Интересно, зачем он пришел, подумалось ему. Просто излить душу? Или еще раз прощупать? Или ненавязчиво внушить что-нибудь, или расположить к себе?.. Или без цели? Он с сомнением посмотрел на Меестерса. Вряд ли такие люди делают хоть что-нибудь без цели, — даже снимая пушинку с рукава, просчитывают — на автопилоте — сорок три варианта возможных последствий…
Меестерс понял этот взгляд по-своему.
— Я догадываюсь, что вас беспокоит. Внезапное доверие, да? Это так не по-нашему, против всяческих традиций… Ну, допустим даже, что вы агент. Все равно чей. Хотя, мне представляется, вы именно тот, кем назвались: санитарный врач, прошедший в свое время Каперскую зону и в своих исследованиях глубоко проникший в суть проблемы. В самостоятельных исследованиях. Подчеркиваю. Так вот, даже если вы агент, скажем, Конторы, или Корпуса, или иностранной разведки, или инопланетной… Нам это не то что не страшно — мы это приветствовали бы. Потому что нам противостоит нечто такое, что требует слияния сил. Но вы, к сожалению, не агент… И крысиные гонки продолжатся. И мы будем вцепляться друг другу в глотки — в стремлении не допустить противника к финишу первым, а еще лучше — не допустить вообще. Хотя и лабиринт построен не нами, и несемся мы по нему не по собственной воле, и что нас ждет на финише — не догадываемся…
— Зачем же меня держали в подвале? Проверяли? Если вам все равно — кто?
Меестерс помолчал. Похоже было, что простой вопрос поставил его в тупик.
— Все религии, вы знаете, построены на борьбе добра со злом, — заговорил он другим, безразличным, уставшим голосом. — Две трансцендентные силы, Бог и Дьявол. Непрерывная борьба. Ад и рай, наслаждение и страдание. Я как грубый материалист произвожу все из нейрофизиологии, из центров поощрения и наказания. Их взаимодействие проецируется на внешний мир, и в результате — все вышеперечисленное в миллиардах оттенков. И вот мне, грубому материалисту, приходится допускать существование во внешнем мире каких-то подобных… я не знаю, как сказать? Центров? Они не имеют локализации. Короче, чего-то аналогичного по функциям… нет, тоже вру. Допустим, существуют и Бог, и Дьявол, но ни тот, ни другой не есть добро и зло в чистом виде, они вообще внеморальны, внеоценочны, у них есть какие-то свои интересы, своя борьба, людей они используют в этой борьбе, но сами люди им глубоко безразличны… Причем и Бог, и Дьявол существуют самодовлеюще, но — лишь в сознании людей. Как описание процессов реального мира. И вот эти процессы становятся все более интенсивными, более сложными, запутанными — и тут в них начинает вмешиваться человек… Вы еще не отключились?
— Нет, — сказал Лот.
— Это вмешательство странно, не вполне самостоятельно и абсолютно нерационально. Человек выступает ни на чьей стороне — и даже не на своей, что парадоксально лишь на первый взгляд. Он вообще пока не догадывается, что ввязался в чью-то борьбу.
— И все-таки — при чем тут я?
— Были подозрения, что вы действуете не по своей воле. Если позволите, я не стану говорить, откуда они взялись.
— Так. Ну, и?..
— Не подтвердились.
— А, понял. Вы меня исследовали, пока я спал. Помню, были такие странные сны…
— Знаете, Лот, вы удивительно уравновешенный человек. Я удивлен.
— Нет, — сказал Лот. — Я нервный и неуверенный в себе тип. Мне стоит больших усилий держаться так, как я держусь.
— Все равно. У вас здорово получается. Хотите, я доскажу, что начал? Немного осталось.
— Хочу.
— Вы сегодня увидели все, что можно увидеть. Многого, конечно, не поняли — не спец. Ничего. Понимаете, это все частности. А в целом — мы пытаемся разобраться в той самой борьбе Бога и Дьявола. Выяснить цели, средства, механизмы. Понять наш интерес. Суметь защититься. Если успеем, конечно…
— Бог и Дьявол…— Лот произнес слова медленно, пробуя языком. — Как я понял, вы употребляете эти термины не в метафорическом смысле?
— Нет. Именно как термины. С другой стороны, вы понимаете, весь наш мир — это одна большая метафора…
— И — обладающие теми способностями, которые им приписывает молва?
— В части власти над живой природой — да.
— Всемогущество?
— Практическое всемогущество. Может быть, имеющее границы — но я этих границ не знаю.
— Всеведение?
— Абсолютное.
— Как насчет всеблагости?
— Я бы сказал — всебезразличие.
— С обеих сторон?
— Может быть, есть какие-то оттенки отношений. Но, опять же, я их не знаю.
— Так… А человек?
— Человек становится почти всеведущ и готовится к всемогуществу. Думаю, это вы уже поняли.
— Но подождите. Бог и Дьявол — они существуют в сознании человека или в окружающем мире?
— А какая разница? Где вы проведете границу? Как отличите одно от другого?
— Да, действительно…— вяло сказал Лот. — Вы правы.
— Я, например, вообще не знаю, существует ли что-нибудь в окружающем мире. Может быть, мы с вами — два слизняка, заползших на один валун… а все вот это вокруг и все, что с нами было и будет, — лишь запятая в нашем разговоре…
— Это вы-то, профессор, — грубый материалист?
— При всем при этом — да. Знаете, Лот, вот вы поработаете немного с мозгом — станете сомневаться вообще во всем. Внезапно окажется, что в любом мировоззрении опереться можно только на собственное невежество. Кстати, можно нескромный вопрос?
— Попробуйте.
— Я помню, в восьмидесятые годы, когда вы учились, в моде были галлюциногены. Я думаю, и вы пробовали их. Не можете ли вспомнить, что именно вам привиделось?
— Нет, — резко сказал Лот. — Не могу.
— Понятно. Значит, все помните, но говорить не хотите. Потому что это было страшно, и с тех пор вы этой химии на нюх не выносите. Хотя если услышать описание ваших видений от постороннего человека — покажется простеньким и невинным. Вам казалось, что вы приросли спиной к другому человеку и вынуждены подстраиваться под его движения. Спина к спине. Такие сиамские близнецы. И, в сущности, это все. Я прав?
— Да, — без голоса сказал Лот. — Откуда?..
— Нас тут таких — почти сорок человек. После Каперской зоны. У всех — одно и то же. Так что появление ваше здесь было неслучайным. Поразмыслите над этим.
— Да… Я… постараюсь…
— Спокойной ночи. Если хотите — в шкафчике снотворное. Будить вас завтра не станут.
Меестерс вышел. Лот лежал без движения, ошеломленный услышанным. Ника, в панике позвал он и прислушался к ответу. Сухой звук — как от щелчка по спичечной коробке. Ника… Он уже знал, что ничто не отзовется.
20. МИКК
— Ладно, — сказал Ноэль, бросая на стол еще одну полоску распечатки. Их уже много лежало на столе, и некоторые должны были бы уже съехать на пол, но цеплялись друг за друга и пока не падали. — Механику этого дела мы поняли. Пусть кто-нибудь объяснит мне, в чем его смысл.
Микк взял последнюю бумажку, подержал перед глазами, положил обратно. В принципе то же самое: слева — «Ника Буковчан, 23 года, БОМЖ/03, временное УЛ №709830, социальное страхование —, медицинское страхование —. ИСО 02/3. Обращение в файл 16.08.04, повод: неотложная мед. помощь. ДС: фобический шок IV. ОП: Ш-Г мод. Амб.»
Справа: "ВОССТАНОВЛЕНО: Ника Андерсен, урожд. Буковчан, 23 года, проживает: Альбаст, ул. Цепная, д. 144. Муж Грегори П.Андерсен, 30 лет, водитель. Род занятий: швея.
Социальное страхование Ф-XII, медицинское страхование «НПН» № 23098167. ИСО 00/0.
Обращение в файл: 16.08.04. Повод: неотложная мед. помощь. DS: фобический шок IV. ОП: Ш-Г мод. Госп."
Но, конечно, и здесь никакого «госп» не было: возиться с бродяжкой без страховки! Промыли мозги, поставили на крылечко и наладили пинка… гуманисты херовы. Неужели нельзя хотя бы по внешнему виду отличить приличную замужнюю даму от бродяжки? Или доверие к официальной информации оказывается сильнее здравого смысла? И те, которые переписывали файл: видно же, что вранье. Ну, не может быть такого, чтобы в файл бродяжки обращались только один раз. Ее что, ни разу не задерживали? А откуда тогда индекс социальной опасности «02/3»? А, господа?
— Почему, интересно, они одним имена меняют, а другим — нет? — тупо спросил Кипрос.
Нет ничего важней, чем это выяснить, с внезапным раздражением подумал Микк.
— Наверное, в зависимости от того, кого они ожидают… ну, кто будет искать, — сказал Ноэль.
Он соображает, а я — уже нет, понял Микк. Вслух он сказал:
— Агнессу не трогали, потому что есть Флора. Флора приходит и требует: дайте мне тетушку. Они говорят: вот тетушка. Такого-то ушла и не вернулась. А здесь…
Он замолчал и стал рыться в бумагах. Наконец нашел то, что вспомнилось и перебило рассуждения.
— Это ее муж, — сказал он. — Вот: вставлено, что шестого августа погиб в автокатастрофе… Наверное, пошел ее искать…
— Или она — его, — тихо сказал Ноэль.
— Ребята…— прошептал Кипрос. — Ребята… Что это — все — значит?..
— Тебе сказать? — голос Ноэля едва звучал. — Или уже знаешь сам?
— Но почему? За что?
Ноэль пожал плечами. Посмотрел на Микка — будто ждал, что тот подскажет. И Кипрос стал жадно смотреть на Микка — как иудей на мессию.
— Тебе они как сказали? — как бы не замечая этих взглядов, спросил Микк. — Сами с тобой свяжутся или ты должен к ним?..
— Я — к ним… должен…— Кип сглотнул. — Причем не в участок, а в какое-то бюро по розыску… Вокзальная, семь…
— Нет там никакого бюро, — сказал Микк. — Это я точно знаю.
— Хотят, значит, чтобы сами приходили…— покачал головой Ноэль. — Барствуют, значит…
— Слушай, но ведь уже не те времена…— начал Кип, наткнулся на взгляд Ноэля и замолчал.
Нет логики, подумал Микк. Нет логики ни в чем, и в том, о чем думает Ноэль, тоже нет логики. Хотя в это — в то, о чем он думает, — страшно легко поверить. Хотя и нет логики. Но для веры логика не нужна. Для веры нужно только желание поверить. Хотя, с другой стороны, логика — это вроде гениальности тех стихов, которые сочиняешь во сне. Они гениальны, пока снятся. Как велосипед, который не падает на ходу. Ты просыпаешься — и гениальность исчезает. Остаются нелепые строчки. И что-то подобное происходит с логикой. Только я не пойму что…
— Вокзальная, семь, — протянул Ноэль, делая пассы над пультом.
Засветился маленький плоский монитор, на нем возникла схема города: кварталы, видимые сверху и немного сбоку. Все чуть утрировано и поэтому легко узнается. Тут же обозначился — будто на него лег солнечный луч — двухэтажный домик с маленьким садиком, задами выходящий на полосу отчуждения железной дороги. Потом над домиком будто образовалась увеличительная линза: он стал больше и приблизился; окружающие его дома и кварталы сдвинулись к границам экрана, спрессовались, но из поля зрения не исчезли. Ноэль пробормотал что-то; пальцы его мелькали. Схему опутали разноцветные нити, но ни одна из них не касалась этого дома. Потом он наконец оторвался от пульта.
— Домик не просто так, — Ноэль растянул губы будто бы в улыбке. — Не подступиться. Ладно, парни, мы его прокачаем… Микк посмотрел на Кипроса. Кип был бледен. На лысом черепе, на лбу стремительно росли прозрачные бородавки пота. Не сходи с ума, мысленно закричал ему Микк, но Кипрос уже разлепил губы и сказал:
— Я… туда…
— Что? — обернулся Ноэль.
— Пойду…
— Ты?..
— Прикроете. — Он встал.
— Не валяй дурака, — сказал Ноэль. — Шесть часов утра.
— Это несерьезно, — сказал Микк.
— Да как тебе сказать…— Ноэль с сомнением смотрел на Кипроса. — Не зная броду — конечно… А вот если зная…
— Мы не доделали по крайней мере еще одно дело, — сказал Микк. — Напомню: мы решили быть методичными.
— А, твоя яма…— Ноэль вздохнул. — Может, вы вдвоем съездите?
— Вдвоем мы уже к Деду ездили, — сказал Микк. — Это будет перебор.
— Ладно, — сказал Ноэль. — Я с вами Джиллину отправлю. Он парень способный, хоть и молодой.
Джиллина неохотно передал свой участок Вито и, проверив оружие, пошел к машине. Микк, подчиняясь какому-то странному импульсу, вынул свой «таурус», картинно прокрутил барабан и сунул револьвер за пояс. Ему тут же стало неловко. И вдруг захотелось увидеть Флору. Но для этого надо подняться на второй этаж… а люди ждут. Все равно она спит.
Было как-то уж слишком светло. Казалось, кроме солнца, сюда посылают свои лучи невидимые прожектора. Мореные плашки, которыми была обшита стена, казались белыми. Шляпки латунных гвоздей сияли. Ломко и призрачно стояла густая полувысохшая трава.
— Вы сюда близко не подходите, — сказал Микк Джиллине, подавая ему револьвер. — Стойте вон там, на углу. Если с нами что-то…
— Вы уже говорили, — кивнул Джиллина.
— Ну, так и делайте как говорили, — внезапно раздражаясь, сказал Микк. — Делайте как говорили, не заставляйте повторять…
Яму прикрывал фанерный лист, грязный, в каких-то потеках — совершенно чужеродный этому ухоженному садику и пряничному домику; даже вынутую землю покойный Ланком ссыпал в мешки для мусора; три мешка стояли у ворот и один, неполный, — здесь, приваленный к стене. Микк взялся за край листа и вдруг понял, что не может его поднять, — и не потому, что лист тяжел, какая тяжесть в старой фанере… просто не может, и всё. И тогда, обманывая себя, он потянул лист к себе, будто стаскивал с кровати одеяло… Свет рухнул в открывшуюся яму и закружился пыльными вихрями.
— Я спущусь, — сказал он Кипросу. — А ты смотри сверху.
— Это твое? — спросил Кипрос, показывая рукой на оставленные в яме инструменты: лопату, лом, ножовку… Все было так, как в прошлый раз, когда Микк пришел и почти сразу начал пилить… нет, ножовки тут не было, ножовку он принес с собой. А кто в таком случае закрыл яму? Впрочем, это был бесполезный вопрос: на него некому отвечать…
— Да, мое…
В стенку ямы он позавчера — или когда? — господи, как все перепуталось — сегодня двадцатое… уже двадцать первое — а на часах? — тоже двадцать первое — действительно, позавчера — забил два толстых кола: ступени. По ним легко было спуститься и легко выбраться. Он сел на край ямы, поставив ноги на верхний кол. На миг что-то сместилось, ему показалось, что он сидит над разрытой могилой. Потом он понял: просто боится спускаться. Кто-то внутри него кричал от страха. Холод зрел в животе. Лопата, лом и ножовка внизу образовывали знак ловушки — этакий усложненный сыр для мышеловок. Не пойду… Он уже спускался — неловко. И в этой неловкости злился на Кипроса — за то, что тот видит.
В яме стоял утрированный запах пыли. Так могло бы пахнуть в архиве — когда перетряхивают… Он вспомнил: точно так пахло у Деда, когда они втроем искали нужную папку. Да, и Деда, пожалуй, надо навестить…
Микк поднял ножовку. Полотно было в тончайших продольных царапинах, алмазная пудра местами стерлась до клея. А ведь я ставил новое полотно… или только собирался поставить новое? Так вот и дурят нашего брата… Он хорошо помнил, что ставил, но червячок сомнения остался. А пилил я… вот здесь и здесь. На «корне», растущем из дна ямы, в этих местах были кольцеобразные утолщения. Микк примерился, потом поднял голову, посмотрел на Кипроса. Кип стоял на краю ямы, уперев руки в колени. Какого черта, в отчаянии подумал Микк, мы все равно никогда не поймем… Он был уверен, что все бесполезно. Кипрос смотрел на него, и Микк ободряюще кивнул ему.
Он помнил, что «корень» был крепче стали, и решительно поднес к нему пилу, и полотно, почти не встретив сопротивления, прошло насквозь, Микк отдернул руки и отшатнулся — «корень» от места разреза то ли осыпался, то ли оплывал, как чрезвычайно быстро сгорающая свеча, тончайшая пыль текла вниз, клубясь, и через несколько секунд ничего, кроме плавающей в воздухе плотной светящейся завесы, не осталось. Микк чихнул несколько раз, потом натянул рубашку на лицо, оставив одни глаза, и присел. На дно ямы свет не падал, и видно здесь было лучше. Там, где «корень» выходил из земли, зияло отверстие сантиметров двадцати в диаметре. Из него несильно, без напора, шел воздух; Микк, не дыша, помня о том, что было в прошлый раз, наклонился над ним и несколько секунд всматривался в темноту. Сначала не было видно ничего, а потом вдруг — глаза поймали фокус — темнота рассыпалась множеством далеких огней, и больше всего это было похоже на вид ночного города с высоты… Вставай, прикипел, похлопал его по плечу Малашонок, и он встал и отошел к стене, пропуская Малашонка и идущих следом Петюка и Фому Андреевича и пытаясь осмыслить, перевести на язык слов то, что он увидел в скважине. Не верь подземным звездам, категорично говорил Куц, а Леонида Яновна говорила иначе: подземные звезды смущают мысли. Пусть так. Прошли Дим Димыч с Танькой. Что он в ней нашел, подумал Пашка, стерва ведь. Обидно, хороший человек пропадет… Замыкал отряд Архипов. Ну, пойдем, сказал он Пашке. Что, опять в скважину глядел? Пашка кивнул. Высмотрел что? Кажется, нет, неуверенно сказал Пашка. Не знаю… Ему не хотелось говорить, что звезды все отчетливее складываются в знак Зверя… Недолгое прозрение, посетившее его тогда, когда Леонида Яновна накладывала защиту, ушло, оставив лишь память о себе — память о божественном состоянии, в котором весь мир стал книгой, написанной простым языком, а на каждый заданный вопрос тут же возникал выросший из самого вопроса ответ. Пашка шел и старался не замечать охватившего его горя утраты. Ему разрешили полетать — полтора часа, — а потом отняли крылья. Тогда, в прозрении, он знал, зачем и почему они идут, что это за подземные ходы и что произойдет, если они не придут вовремя в нужное место. Теперь он этого не мог бы объяснить другому, но себе — прежнему — он верил. Они должны дойти и, дойдя, стоять насмерть — и это единственный шанс уцелеть тем, кто остался еще наверху… и это «наверху» касается, кажется, не только жителей города… тут он не был уверен.
Поросший светящимся мохом переход оборвался кромешной тьмой. Отряд сгрудился и чего-то ждал. Видны были только одинаковые — подпоясанные ватники — спины да несколько автоматов, висящих по-охотничьи, стволами вниз.
Архипов обнял его за плечо и легонько потряс, и Пашка понял: они пришли на место. Только теперь он услышал — скорее, не ушами, а всем лицом — далекий рокот: будто медленно-медленно проворачивалась громадная бетономешалка.
21. ПЕТЕР МИЛЛЕ
Он выбрался из-под дневного света, как из-под мягких невидимых глыб: в поту, с одышкой и сердцебиением. Дневной сон был мукой — увы, неизбежной. Без него ни глаза, ни голова не выдерживали обязательных трех часов над тетрадью. А так… сейчас… Постанывая от привычной боли в затекших икрах, он встал и потащился под душ. Тепловатая водичка с железным привкусом все-таки освежала. Плохо, но освежала. Кроме того — ритуал. Обязательный двукратный ежедневный. Флаг «Умираю, но не сдаюсь».
Оркестр играет мазурку…
Сравнение ему понравилось. Не вытираясь, он накинул халат и пошлепал на кухню. В холодильнике было пиво. «Черный бархат», три бутылки. Он не помнил, когда и как покупал его, но это было почти неважно. После приступа неуправляемой паники — когда вдруг понял, что не запоминает абсолютно ничего из того, что происходит с ним за порогом дома, — он старался принимать все как должное. Да, может быть, там, снаружи, он и сам точно такой, как те, кого он видит сейчас из окна: монотонно бредущие по прямой кукольные люди. Никто ни с кем не раскланивается, не озирается по сторонам, не совершает каких-то странных, но человеческих поступков: скажем, не снимает ботинок и не начинает вытряхивать из него камешек… скрупулюс… В бинокль видны лица: одинаково озабоченные и в то же время бессмысленные. Бессмысленная целеустремленность — вот так это можно обозначить. Неужели и у него такое же лицо, когда он там?.. Тем более следует оставаться человеком все остальное время. Вернее — все оставшееся время.
Похоже на то, что его весьма мало.
Потому — нужно ли ломать голову над тем, что, выходя из квартиры, он тут же входит в нее обратно — до полусмерти уставший, потный, грязный, дрожащий. Час, а когда и больше часа уходит только на то, чтобы прийти в себя. Правда, результатом таких вылазок оказываются хлеб, сосиски и сыр — почему-то всегда одного и того же нелюбимого сорта: «Адмирал». Недели две назад вдруг появилась коробка трубочного табака, и теперь вечерами он обязательно выкуривал трубочку-другую. Табак был страшно дорогой, вирджинский «Глэдстон», и удивительно, что он сумел раскачать себя на такую покупку. Начав курить после двадцатилетнего перерыва, он испытал небывалый душевный подъем — будто эти двадцать лет испарились, ничего после себя не оставив, и ему не семьдесят девять, а — еще нет шестидесяти… Когда кончается время, даже воздух становится сладким, даже слюна, даже скрип половиц оборачивается музыкой, даже простые мысли вдруг обретают платиновый блеск… Лишь когда кончается время, можно наконец понять, что земная жизнь не в счет, хотя она — все, и что рай и ад неразделимы и даже неразличимы, если смотреть в упор.
Бокал пива и ломтик мягкого сыра с розовыми крапинками креветочного мяса… Что еще надо для полного счастья? И тетрадь. Четыреста листов отличной нежно-палевой бумаги в деликатную розовую линеечку. Обложка из натуральной тисненой кожи табачного цвета. Зеленовато-серая бумажная наклейка в углу, и по ней каллиграфически: «МЫСЛИ, ПРИШЕДШИЕ В ГОЛОВУ СЛИШКОМ ПОЗДНО». Не лень же было выводить…
"Пророк Илия и жрецы Ваала. Он один, их — четыреста пятьдесят.
Соревнования: чей бог быстрее разведет костер? Ваал сплоховал. Тогда Илия приказал стоящим вокруг: схватить их! Жрецов схватили, Илия отвел их на берег реки и всех заколол, Божий человек. Ученик его, Елисей, благословил в одном городе источники, и вода в них стала хорошей. Уходя из города, он встретил детей, которые крикнули ему: плешивый! Елисей воззвал к Господу, и тогда из леса вышли две медведицы и разорвали сорок два ребенка. Это что — всемилость? Иисус на фоне своего родителя выглядит настолько добрее и человечнее, что верить в его божественное происхождение просто не хочется. И история с распятием темна до полной непроницаемости. Схвачен, торопливо судим с нарушением всех и всяческих процессуальных норм (чего стоит одно только ночное заседание синедриона!) и осужден на немедленную смерть — не для того ли все провернуто так быстро и вопиюще противозаконно, чтобы успеть к Пасхе — чтобы заменить на кресте другого Иисуса, Иисуса Варавву, Иисуса-"сына-Отца"?
Бедный отец Виталий. Наверное, мои замечания и вопросики стоили ему нескольких лет жизни. Но ведь он сам приходил, и высиживал за полночь — значит, было у него ко мне какое-то долгое дело. И обнял он меня, прощаясь, и даже прослезился — со мной за компанию. Он же как-то — по-моему, накануне мятежа — сказал: иногда ему кажется, что Страшный Суд уже начался. Мы просто не замечаем этого, потому что все, что так естественно происходит вокруг, и есть Страшный Суд. Сказал же Павел: мы не умрем, а изменимся. И вот мы изменились настолько, что Страшный Суд для нас стал средой обитания… Он напомнил мне профессора Смолячека, который в Академии вел курс философии. Вот ведь учили нас: в Технической академии во время войны читали основы философии. Я потом рассказывал — не верили. Или говорили: на что тратили драгоценное время! А мне кажется — это был один из важнейших курсов. Благодаря ему все стало очень сложным, и я — и не только я — с меньшими душевными травмами воспринимали последующее. Так вот, Смолячек рассказал историю о том, как апостол Петр сидел в камере смертников, ожидая казни за богохульство. Камера была заперта, а кроме того, Петр был прикован цепью к двум стражникам. И вот в ночь накануне казни дверь открылась и вошел ангел. Петр подумал, что это ему снится, и отнесся к появлению ангела спокойно. Ангел сказал: встань. Петр встал, цепи упали. Ангел вывел его из тюрьмы мимо спящих часовых и исчез. И тогда Петр понял, что все это наяву, и побежал в дом матери Марка. Там он и рассказал эту историю. Итак, с абсолютно равными основаниями можно считать, что Петра действительно вывел ангел Господень; или кто-то из высокопоставленных сочувствующих вывел его, а историю об ангеле Петр рассказал с какой-то целью: может быть, для придания авторитета себе или делу, а может быть, и в те времена в подполье не жаловали тех, у кого есть друзья-тюремщики. Или, наконец, можно считать, что Петру приснился и ангел, и все последующие события его жизни, и его смерть, и дальнейшая история человечества, и все, происходящее сейчас, и мы здесь, рассуждающие черт знает о чем, — все это лишь снится Петру, лежащему на грязной соломе на полу тюремной камеры меж двух сторожей, а тем временем какой-то плотник приколачивает перекладину к невысокому кресту…"
Он перевернул несколько страниц.
«Принято считать, что поступки людей, их поведение вообще — должно быть „хорошим“, „правильным“, „умным“. Иначе — рациональным. К поступкам людей подход настолько же утилитарный, как к глиняным горшкам. Вместо искусства поступка воспитывается ремесло, даже индустрия поступка, и никто не видит в этом насилия над природой человека. В искусстве же полезность — вообще не критерий, а красота, оригинальность, неповторимость — более чем критерии. И если мы начнем оценивать человеческие поступки, пользуясь критериями искусства, то увидим: в этой сфере царит жесточайший гнет, бесчинствует цензура, духовная и светская, и все, что не соответствует канону, подвергается гонению и уничтожению. Но даже в такой атмосфере — а может быть, по закону парадокса, благодаря этой атмосфере, — случаются поступки, по своей красоте и бесполезности превосходящие величайшие произведения искусства. Если допустить, что человечество в целом имеет какую-то цель, то ведь ясно, что эта цель — не строительство новой тысячи заводов, прорывание длинных и глубоких канав поперек материка и полеты к Луне и прочим небесным телам (хотя именно эти полеты достаточно неутилитарны, чтобы приблизиться к тому, о чем я хочу сказать). Так вот: не цель ли человечества — свершение неимоверно красивых и абсолютно бесполезных поступков? Или такой поступок уже был совершен, существование человечества оправдано, а теперь оно живет по инерции, не имея ни цели, ни смысла существования? Может быть, вся история цивилизации — это лишь прелюдия к оркестру, играющему вальсы Штрауса на палубе тонущего „Титаника“?»
Еще несколько страниц.
«С ужасающей отчетливостью вспомнился Юнгман. Потом это прошло, но несколько часов я буквально находился в его обществе, причем воспринимая все неимоверно интенсивно. Похоже было на то, что в памяти моей случился какой-то пробой, выбило все предохранители — никогда раньше такого не происходило. Вспомнилась его теория о машине, создавшей и продолжающей создавать человека, приспосабливая его для своих нужд. Интересно, что ни тот я, который это слушал, ни я сегодняшний не нашли бы возражений — даже если бы и хотели. Получается…»
Чистый лист. Перо оставляет тонкий черный след. «Перечитал „Смерть клоуна“ Леона Эндрю. По первочтении, сразу после войны, вещь произвела на меня потрясающее впечатление. Казалось, это ключ ко всем загадкам обыденности. Впрочем, он так и не повернулся в скважине до конца… И вот теперь — еще раз, чтобы проверить себя. Тогда это казалось глубокой философской метафорой, позволяющей проникнуть на „обратную сторону“ личности: Ормелы, истинные носители разума, живущие в сознании людей, способные сменять своих „носителей“, как всадник сменяет лошадей; симпатии и конфликты между ними приводят к сложнейшим и трагическим коллизиям людей; Ормелам люди почти неинтересны, поскольку для них они просты и примитивны, как проста и примитивна клоунская маска и клоунская роль для Орландо. Но когда Орландо проникает в тайну существования Ормелов, те обращают на него внимание… Да, тогда это казалось метафорой. А сейчас мне это кажется недосказанным пророчеством. Интересная деталь: Орландо, вырвавшись ненадолго из-под власти Ормелов, начинает видеть мир таким, каков он есть, и это повергает его в отчаяние. И в отчаянии он принимается делать то, от чего раньше его удерживала надежда, и в какой-то момент, задумавшись, понимает, что счастлив. А в видении мира, которое обрел Орландо, есть, помимо всего, такая странность: в течении времени возникают паузы, лакуны, процессы на это время останавливаются, у людей события не запечатлеваются в памяти, и лишь Ормелы не видят существенной разницы между нормальным ходом времени и этими лакунами. Нужны ли комментарии? Кто-то же отключает мою память, едва я переступаю порог. И, может быть, не только тогда. Позавчера я обнаружил папку с документами по лихорадке Вильсона и ее последствиям на столе — хотя совершенно не представляю, какого черта я ее вообще тревожил. Тема закрыта. Если я прав, заниматься этим дальше бессмысленно, если не прав — тем более бессмысленно. Пожалуй, даже наоборот. Более бессмысленно — если прав». Петер отложил ручку и откинулся на спинку кресла, отдыхая. И вдруг неожиданно для себя подумал: а когда? Ясно, что скоро, — но «скоро» может быть и десять лет… Сосчитать нельзя — а почувствовать? Он закрыл глаза.
Осень — ударило в сердце. Эта осень.
Осталось… Почти ничего не осталось.
Эта — последняя — осень.
Он открыл глаза и посмотрел, как впервые, на свою руку. Пальцы дрожали.
Значит, правда.
Осень.
Горький дым…
Не без труда он набил трубку, но раскурил — с первой попытки.
"Иногда я испытываю почти панический страх перед зеркалом. Интересно, кого именно я боюсь там увидеть? Наверное, так и не узнаю.
Найдя папку, вспомнил о Кипросе: ему это, может быть, показалось бы интересным. Вспомнил с ноткой раздражения: засранец, совсем забыл старика, — и вдруг испытал острое чувство неловкости, будто на улице повстречал знакомого и не узнал его, и лишь потом, отойдя, сообразил… Так что, может быть, ему я ее и показывал? Попробовал телефон: все по-прежнему. Попадаю куда угодно, кроме того места, которое мне требуется. Точно так же и мне звонит кто угодно, кроме тех, кому я нужен. И это, похоже, в порядке вещей.
Потерял Вильденбратена. Не пойму, куда мог деться огромный, ин квадро, томина девятьсот второго года издания: кожаный переплет, цветные, переложенные калькой иллюстрации, бархатная ленточка, золотой обрез… Печать: «Библиотека коммерции советника Иоганна Милле». Библиотека дедушки была знаменита, попала даже в энциклопедию. Ничего не осталось. Но, собственно, чему удивляться?
По каким-то ассоциациям вспомнились «Солдаты Вавилона»: «Но стража Нимрода в проклятую ночь не сдвинулась с мест. Лишь юный один безбородый…» — и так далее. Солдаты Вавилона окаменели на своих постах, поскольку их не могли сменить — они не понимали офицеров. У классика — все. А я докопался — молодой был и упрямый — до той легенды, на которую он ссылается. Оказывается, после смешения языков ослабевший Вавилон осадили враги. И солдаты, переставшие понимать офицеров, понимать друг друга, — отбили их, потому что знали каждый свою задачу и свое место на стене…
И позволили разноязыким людям рассеяться по свету. Вообще с Вавилонской башней масса неясностей. Почему Бог изобретает такой экзотический способ, чтобы сорвать строительство: ведь хватило бы, скажем, прямого обращения или небольшого землетрясения? Кроме того, уж Богу-то известно, что кирпичное строение можно довести метров до трехсот максимум. Что-то во всем этом есть весьма странное. Для того чтобы рассеяться по земле, людям понадобилось построить башню. То есть — собраться огромным числом на маленьком пятачке. Выбиваться там из сил, производя тяжелейшую работу. Монотонным, засасывающим, бесконечным трудом достигать высоких степеней отрешения. Конечно, строители не догадываются, что именно они делают. И вряд ли до конца понимает сам Нимрод. Но ведь название Вавилон происходит от Баб-илу, что значит: Врата Бога. А Чжуан-Цзы писал: «Врата Господни — это несуществование». Впрочем, сопоставление всяческих высказываний древних и великих может завести куда угодно.
Однако слишком уж много Вавилонских башен разбросано в нашей истории. Создается впечатление, что вся она — всего лишь история строительства одной огромной башни. Причем сама башня — лишь способ достичь несуществования.
Правда, иногда мне кажется, что все окружающее меня сейчас и окружавшее в прошлом, происходившее и происходящее — это просто очень громкий шум, непонятно от чего исходящий. Даже не так: я знаю, что знаю, от чего он исходит, но знание это заперто во мне, и ключ в скважине не поворачивается до конца. Может быть, с этим и связана боязнь зеркал?"
22. НИКА, ИЛИ СТЕЛЛА
Они давно так не работали — по четыре представления в день. Но зрители шли, и грех было упускать их. Адам пришел в себя, но был еще очень слаб, горяч и временами заговаривался. Стелла кормила его с ложечки и придерживала, когда он сидел на горшке. Иппотроп ворчал, что это она во всем виновата: нужна она, такая, солдатам, когда у них по лагерям молодых блядёшек — как блох; а если бы и сунули раз-другой — не рассыпалась бы, что, девочка, что ли, в первый, что ли, раз — тогда вон, с серыми монахами, могла, не орала, а тут — как резать будто ее собрались… Она и сама знала, что виновата.
Городок по имени Куртц был переполнен людьми. Слились два потока: селян, приехавших на ярмарку, и беженцев из Кикоя. Лишь на второй день им удалось найти крышу над головой: хозяин гостиницы «Красный лев» пустил их в просторную, но абсолютно пустую угловую комнату с двумя узкими бойницеподобными окнами. За это сверх программы Стелла и Пальмер каждый вечер бесплатно показывали небольшой номер в гостиничном трактире. От усталости она стала вглядываться в лица — чего никогда не делала раньше. Цирковых детей учили презирать публику, и эту науку она освоила не менее успешно, чем акробатические трюки. Никто из сидевших вокруг не мог того, что могла она… А теперь — зачем-то смотрела исподтишка и не могла понять… У публики были лица детей. Счастливых или обиженных, сытых или полуголодных — но детей. И в трактире сидели бородатые пьяные дети. Они легко смеялись и ссорились по пустякам. Они были очень слабы и болезненно доверчивы, хотя казались себе могучими и хитрыми. Она поняла это, тревожащее ее подспудно уже давно, когда на одно из представлений заглянули два гернота. Кажется, это были юноша и девушка, хотя судить, естественно, было трудно. Узор на лбу показывал, что живут они в истинном обличии первый год. Тем не менее они выглядели мудрыми добрыми королями в толпе восторженных малышей. Стелла сама испытала умиление и радость, вдохнув исходящий от них тончайший аромат, — и тут на мгновение вспомнила, кто она в действительности и зачем находится здесь. Но даже это не заставило ее отвести жадный взгляд от прекрасных одухотворенных лиц с глазами, похожими на глаза святых угодников… Потом это прошло, и она с брезгливым удивлением спрашивала себя, что такого прекрасного можно рассмотреть в малоподвижных голубоватых масках?..
После этого посещения Иппотроп впал в мрачность, разговаривать не хотел и работал лишь один номер: борьбу с удавом. Похоже, ему самому доставляло какое-то извращенное удовольствие выскальзывать из могучих колец, доводя змея до бешенства. Борьба у них шла всерьез.
Так прошла неделя.
Чужое нервное присутствие внутри не доставляло беспокойства:
Стелла будто бы несла в кулаке неразумную птичку, которую следовало защитить от котов. Иногда она задерживалась у клетки с горными львами. Наверное, их следует продать: дрессировщик Бигл пропал где-то в круговерти Кикоя… Но что-то удерживало ее от быстрых решений.
На восьмой день Адам вышел во двор гостиницы. Стелла поддерживала его под руку, и он не отстранялся — но просто потому, что ее прикосновение было ему приятно. Шел пятый час дня, кончилось второе дневное представление, и впереди ждало вечернее, самое долгое и тяжелое. По двору сновали какие-то люди, из конюшни слышалось возбужденное ржание. Пахло горячей кухней и лошадьми. Мальчишки лет шести-семи деятельно тузили друг дружку у забора. Собаки в разнообразнейших позах валялись в пыли и чахлой серой траве.
— Мух нет, — сказал вдруг Адам.
— Что? — не поняла Стелла.
— Куда делись мухи? Их же было…
— Не знаю…— удивленно покрутила головой Стелла. Мух действительно не было.
Неприятное — смычком по ногтю — ощущение возникло и тут же растаяло в груди. С мухами действительно было что-то связано, из той, бывшей, ненастоящей жизни. Какое-то предупреждение… или сигнал?
— Надо уезжать, — сказал Адам. — Ехать дальше. Засиделись.
— Да, — сказала Стелла. — Раз ты здоров, то можно ехать. Завтра чтобы…
— Я не помню — про мух, — в голосе Адама прозвучало отчаяние. — У меня будто дырка в мозгах и ветер в дырке…— Он посмотрел на Стеллу, наклонился и заглянул ей в глаза. — Скажи — ты помнишь?
— Что-то помню, — пробормотала Стелла. — Неопасное что-то…
— Повелители мух, — вдруг прошептал страшным шепотом Адам; глаза у него расширились и стали как у гернота: огромные и блестящие. — Приближаются Повелители мух… Странный вибрирующий гул произвели эти слова. Земля слегка качнулась под ногами и повернулась немного — со всем, что на ней было. И по всему, что было на земле, прошла мгновенная рябь, и на миг все покрылось трещинами, и в этих трещинах проступило что-то другое, чего не успел увидеть глаз и охватить разум, — а потом трещины затянулись и все стало как было: чересчур яркой, четкой, подробной и законченной картинкой, раскрашенным картоном, еще пахнущим сырой гуашью…
Если уходить, то немедленно — бросая все, верхами… и тем самым выдав себя. Или положиться на маскировку — и тогда держаться до конца. Равновесное положение… Нет — Адам не доскачет. Решено.
— Утром, — повторила она. Адам с тоской смотрел на нее.
23. ТОУН АЛЕКСАНДР ДЖАЛЛАВ
— Расслабься, Бо, — сказал Джаллав. — Ты не в строю. Ну-ка, расстегни мундир… Зоунн сморщился, потом улыбнулся.
— Так уже лучше, — похвалил Джаллав. — Напомню, господа: в этом кабинете и в этом кругу — на «ты» и без званий.
— Как-то это против того, что…— Зоунн запнулся, — ты говорил на Круге.
— Круг Кругу рознь, — сказал Джаллав. — Ладно, ближе к делу.
Бо, что это за херня произошла с Ксименом?
— Спонтанное возвращение, — пожал плечами Зоунн. — Теоретически возможно. Правда, раньше не наблюдалось.
— Вот именно. Притом — через слой.
— Нет, Алек, не через. Вав — ближайший…
— Я оговорился. Через воплощение.
— Ну, мы мало что знаем о природе спонтанных перебросов.
— Ты не находишь, что с Ксименом вообще происходит что-то странное?
— Нахожу. Но пока не могу сказать, что именно.