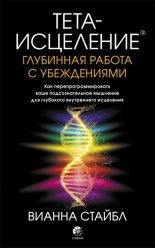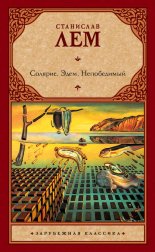На изломе алого Логвин Янина
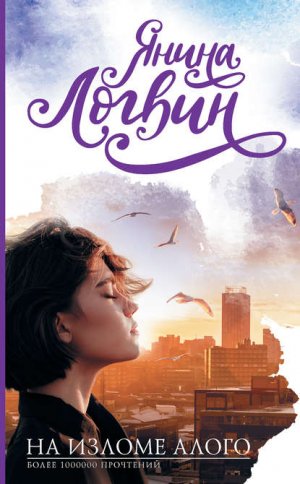
– Привет, я Карина! А ты Игнат, я знаю!
– Ну, привет, Карина. Меня все знают. Выпить хочешь?
– Хочу. А ты со всеми такой милый? – интересуется незнакомка, и я в который раз изумляюсь: где их учат задавать такие тупые вопросы. Главное, как под копирку.
– Нет, – отвечаю, на самом деле даже не стараясь выглядеть честным, но ей плевать. Темноволосой Карине нравится, что происходит, и это главное. – Только с тобой.
Улыбнуться девчонке получается широко, и Белый с пониманием отпускает смешок.
– Слышала? Так что тебе нереально повезло, детка, – подмигивает моей новой подруге. – Не упусти свой шанс!
Вечер. Роковый драйв. Музыка. В стороне от переполненного бара колышется огромное живое танцполе. Лицо Карины близко, глаза горят понятным обещанием, и мне приходится в который раз напомнить себе, что для всех я молодая талантливая сволочь, которой повезло родиться со смазливой внешностью, и у которой отсутствуют принципы. Это нравится народу, это заводит – моя роль плохиша. Об этом я заявляю в своих песнях, а значит, все должно соответствовать модному имиджу будущей рок-звезды.
Упускать шанс девчонка не собирается и вместе с нами, захватив подруг, едет в клуб, а потом и на квартиру к Беленко, где мы с парнями часто ночуем после репетиций, хотя к этому позднему времени я так от нее устаю, что больше не пытаюсь казаться вежливым.
В руке банка пива, во рту сигарета, свет приглушен, а голова бездумно откинута на мягкую спинку кресла. На соседнем диване пыхтит Литяга, усердно вдавливая в него девчонку. Из второй спальни тоже доносится возня и смех. Я чувствую, как чужие руки касаются моей голой груди, гладят плечи и шею. Все еще незнакомка, девчонка-кошка забирается на мои бедра, запускает пальцы в волосы, и тянется губами к лицу…
– Ты мне нравишься, Игнат. Очень.
– Послушай, Кира…
Она не обижается. Они все не обижаются. Поправляет с кокетливым упреком:
– Я Карина.
– Какая разница. Тебе не пора домой, Карина? Мама с папой не ждут?
Она смеется. Опустив голову, целует меня в подбородок, подбираясь к губам. Забирает изо рта сигарету, чтобы, затянувшись, оставить ее в тонких пальцах.
– Очень смешно! Мои мама с папой давно уже спят в кроватке! Мне двадцать один, я взрослая девочка и сама решаю, где мне быть ночью и с кем. М-м-м, – опускает ресницы, заставляя взгляд тлеть, – ты понимаешь, о чем я?
Понимаю ли я? Еще как. Ногти с вызовом царапают кожу, спускаясь по телу ниже. Учащенное дыхание горячит щеку. Черт, мы сегодня все заведены до предела, и обещание проходит током по позвоночнику, ударяя горячей волной в пах. Но это быстро пройдет, лицо смажется и не останется ничего, даже имени.
Я даю ей погладить себя через джинсы. Это моя расплата за вечер. Все, что я готов дать. Не себе, ей.
– Ты офигенный, Игнат, – она ластится ко мне, трется о пах бедрами. Хрипло шепчет у лица: – И такой твердый.
– Чему ты удивляешься, детка? – тонкая усмешка растягивает губы. – Я живой.
– Ты хочешь меня, мне это нравится.
А вот с этим сложнее. Я пытаюсь представить на ее месте Альку и не могу. Черт, насколько бы легче оказалась моя жизнь, если бы мог. Мог! От досады руки сжимаются в кулаки вместе с моим гребаным сердцем.
Я останавливаю ее в миллиметре от своих губ, отбираю сигарету и затягиваюсь. Стаскиваю растерянную девчонку с себя за руку. Встаю, подхватываю со стола банку с пивом и ухожу, чтобы навсегда забыть о ней, бросив сквозь зубы вместо прощания:
– Хочу. Хочу, твою мать! Но не тебя. Прости.
Уже практически рассвет. Ночь для нас затянулась, и я стою в кухне у окна, наблюдая, как на улице постепенно светлеют сумерки, еще не прогоняя, но вспугивая тени. В эту ночь мне уже не уснуть, не дают мысли. Остается вот так стоять и смотреть на город, в котором где-то живет она. Та, кого не может забыть сердце, и по ком тоскует душа.
Александра. Алька. Алый… Я помню ее взгляд, запах кожи и каждый изгиб стройного тела. Я помню звук голоса и звонкий смех, хотя слышал его так давно. Я живу только тем, что когда-нибудь вновь услышу, как она смеется и зовет меня. Почувствую прикосновение рук. Больше ничего в этой жизни не стоит моих усилий.
Я курю в одиночестве, почти не ощущая время, когда заходит Белый и недовольно сопит за спиной. Открывает холодильник, пьет…
– Ну, давай уже, Ренат, – не выдерживаю. – Говори, а то подавишься.
И тут же бутылка минералки со стуком опускается на стол.
– Какого черта, Игнат! Я не понимаю. Ты снова прогнал девчонку, с которой был. Сколько можно себя гасить?
– Я не был с ней.
– Да плевать! Ты знаешь, о чем я. Мы договаривались и все рассчитали. Все идет как по маслу! Клубы, тусовки, девочки. О нас говорят…
– Значит, не все.
Я оборачиваюсь и смотрю на друга – он неожиданно серьезен, даже желваки натянуты, что редко случается с Беленко. А мне казалось, что он еще не скоро выйдет из спальни.
– Игнат, это глупо. Вы же были детьми. Тебя ломает, я чувствую. Ладно школа, но сейчас? Когда-то же надо ее забыть.
Это его не касается. Никого не касается, и я признаюсь:
– Иногда я жалею, что ты обо мне столько знаешь.
Он усмехается – не зло, скорее с досадой.
– Не только о тебе. Она живет с каким-то стариком, я слышал от Маршавиной. И судя по всему, ей до фонаря, есть ты в этом городе или нет. Здесь скоро любая девчонка будет твоей, только позови, так ей-то чего не хватает?
– Лучше заткнись, Белый.
Но Рената не остановить.
– И не подумаю! Я же как лучше хочу, дурак! Ты мой друг, перед нами весь мир, ты же сам говорил, что мы все сможем!
– Сможем. Я и не отказываюсь от своих слов, но мой мир оставь мне! Ты знаешь меня, но не знаешь, что он для меня значит! – говорю с чувством.
У Белого вырывается смешок. Должно быть, я кажусь ему последним идиотом.
– Да что он может значить, Савин?! Ты еще вспомни, как вы за ручки держались в школе и вздрочни со слезой! Не ты у нее первый, не ты последний, парень. А этот мужик богат и стар. И нет у него никого, чтобы судно вынести и капиталы посчитать. Идеальная комбинация. Вся академия гудит, что они любовники, но против бывшего ректора не попрешь. Это все понимают.
– Белый…
– А что? Я правду говорю! Пока эта расчетливая сука кувыркается со старым хером, ты здесь трахнуть никого не можешь, как последний монах…
Ударить получается сильно, и Ренат, заткнувшись на полуслове, врезается в стену. Я жду ответ, мне хочется, чтобы он ответил, тело мгновенно наливается сталью, но Белый молчит, и тогда говорю я.
– Я был ее первым и буду последним. Запомни это, если хочешь остаться мне другом. Я не шучу.
Беленко встает и проводит кулаком по губам. Не порывается драться, хотя силы у нас равны. Жестко утирает рот полотенцем и бросает его, измазанное в крови, в меня.
– Ладно, Игнат, как скажешь. Хочешь страдать, страдай. Хрен с тобой! Но для всех ты фронтмен группы Suspense и долбанный секс-символ. Ты сам придумал этот расклад, так смотри не облажайся.
– Не волнуйся, я помню.
-13-
POV Сашка
Заказ на аэрографию от Волкова пришел срочный, и я три дня провожу в его гараже, расписывая дорогой черный «Додж» черепами и языками пламени. С некоторого времени я выросла как художник, появился спрос на мою работу, и Волков скрепя сердце вынужден стать щедрее. Этот жадный лис знает счет каждой копейке и навешивает ценник со скидкой на любого человека, но у него нет художника лучше меня, и оказалось, что он способен договариваться. Теперь за моей спиной стоит мастерство Генриха, рисунок заметно выиграл, а значит, и к ценнику уверенно прибавился ноль. На самом деле не так много, но получается платить за отцовскую квартиру и кое-что оставить себе, а это уже немало. Многого я от жизни никогда и не требовала.
Я никогда не страдала излишней разговорчивостью, но люди по своей сути любопытны, и к Волкову дошли слухи о моем богатом покровителе, вот только обсуждать свою жизнь я ни с кем не собиралась, и слухи все еще оставались слухами, которые он шутки ради то и дело проверял на достоверность, когда оказывался поблизости. К счастью, это случалось нечасто.
– Саша, так бы сразу и сказала, что тебе нужна квартира в центре, и что ты хочешь учиться. Я бы подсуетился. Вместе и придумали бы что-нибудь. Я всегда знал, что ты разумная девочка.
– Дядя Коля, меня все устраивает, не говорите глупости.
Но глупости он никогда не говорил, и всегда взвешивал свои решения. Я тоже. Его предложение не понравилось мне еще тогда, когда мне было семнадцать, и ему пришлось с этим считаться. Я действительно не была настолько глупой, чтобы списать все на счет его порядочности. Нет. Никто не знал наверняка, что случилось с Шевцовым, слухи вокруг ходили разные, а он побаивался моего отца, они все побаивались. Но я уважала его за то, что он когда-то не отвернулся и дал мне возможность заработать на хлеб. Поэтому поворачивалась и, вытирая руки от краски о ненужную ветошь или рабочий комбинезон, говорила его молоденькой любовнице:
– Юля, привет. Отлично выглядишь.
– Да, – расплывалась та в улыбке. С обожанием прижималась к мужчине, поправляя на себе короткую юбочку, и брезгливо косилась на мой респиратор в пол-лица. – Спасибо, Саша, ты тоже.
Что ж, такой комплимент я принять могла, как и смех Волкова, обращенный на девчонку, – рокочущий и полный едкой насмешки. Хозяина развлекала его «ручная собачка», а впрочем, едва ли Юленька что-либо в этом смехе замечала. Особенно в момент, когда Николай расстегивал для нее кошелек.
– Саша, это и правда ты все сама нарисовала? А на моей новой машинке сможешь? Даже мой портрет? Ой, я хочу, как у Риты Стиль из «Инстаграм». Чтобы крылья, мосты и я вся в цветах сакуры! Николай, правда, будет красиво?
И Волков снова громко смеялся, а я отворачивалась и возвращалась к работе.
Генрих же Соломонович смеялся тихо, очень интеллигентно и только тогда, когда был чем-то крайне доволен. Мы оба оказались с ним сдержанными, немногословными (если это не касалось вопросов искусства) и одинокими людьми, и как-то так получилось, что быстро привыкли друг к другу, почувствовав какую-то странную связь. Не то родственную, не то дружескую, но определенно заботливого и уважительного толка. Нам было спокойно вместе, ему нравилось со мной работать, он не жалел своего времени, и я, как могла и чем могла, платила ему за внимание. За человеческое тепло, так неожиданно ворвавшееся в продолжительную зиму моей жизни. Оказавшееся не призрачной сказкой и миражом, а теплым, уютным огнем родственной души. Подарком, к которому я, не сразу, но все-таки потянулась, чтобы согреться.
Я еще долго отказывалась оставаться на ночь в его огромной квартире, готовила ужин и убегала безлюдными поздними улицами домой, потому что дня не хватало, и было невозможно оторваться от зрелища, когда Генрих Соломонович сидел за мольбертом и рисовал. Я могла наблюдать за его работой часами, чувствуя себя счастливой участницей настоящего таинства, приобщенным адептом, по чьей-то доброй воле допущенным перенимать опыт и совершенствовать собственный рисунок у талантливого мастера. Художника, чье имя и работы украшали лучшие частные галереи страны. А может, и не только.
Однажды мы оба стояли за мольбертами, я рисовала штормовое море, высокие утесы и чаек, и так увлеклась, что не заметила, как осталась одна. На пороге своей мастерской Генрих Соломонович показался уже глубокой ночью, в глухо застегнутой на все пуговицы пижаме, со встрепанными волосами и, довольно посмеиваясь, сказал, что сегодняшней ночью он меня точно никуда не отпустит. Тем более что за окном метель, транспорт давно не ходит, а спешить мне не к кому. Что рисунок подождет, что чай остывает, и что он догадался, как холодно в моем доме.
– В этой большой квартире слишком много места для меня одного. Оставайся, Саша. Завтра выходной, у меня встреча с бывшими студентами, так что мастерская на весь день в твоем полном распоряжении – я хочу уже к вечеру увидеть результат.
Другие бы назвали его милым человеком, но я чувствовала за его улыбкой что-то еще, что-то очень простое и приземленное, которому, конечно, есть название, если его знать. Немногословные, иногда мы много говорили, а после у меня что-то скреблось в душе и ломалось, от силы незаметных на первый взгляд добрых слов, которые он всегда находил. Если бы слезы могли пролиться из глаз, они бы обязательно пролились от понимания, что в моем мире есть такой человек и мне посчастливилось его встретить.
В такие минуты я разрешала себе думать об Игнате. Еще не мечтать, но чувствовать что-то очень похожее на надежду. Что все получится, и когда-нибудь я смогу оказаться достойной его.
Теперь мы стали старше, и, кажется, я поверила, что мой мир может быть другим.
Я вернулась из гаража Волкова поздно, закончив заказ, и упала без сил. Утром проснулась рано, помня, что сегодня воскресное утро, и я должна для Генриха Соломоновича сходить на рынок. Днем я собралась уехать на неделю к тетке в деревню и не хотела оставить старика голодным.
06:00
Часы показывают раннее утро, когда я встаю, принимаю душ и, не высушив как следует волосы, выскакиваю на улицу из квартиры художника. Захлопнув за собой парадную дверь, бегу мимо какого-то парня, присевшего на лавочку во дворе… И вдруг, споткнувшись, останавливаюсь. Оборачиваюсь, не сразу решившись изумленно выдохнуть:
– Игнат?
Он сидит, ссутулившись, сунув руки в карманы джинсов, и в упор смотрит на меня – неожиданно чужой в это раннее утро и заметно повзрослевший. Мятая футболка обтягивает широкие плечи, длинная челка упала на глаза, но я все равно вижу его взгляд – злой и какой-то странно-блестящий, словно его изнутри сжигает лихорадка.
Он не говорит мне «Привет». Вместо этого, вдруг усмехается и грубовато бросает:
– Иди, Шевцова, куда шла. Не обращай внимания. Я здесь часто бываю, ты просто время для прогулки выбрала неудачное.
Я угадываю в нем какое-то непонятное напряжение и вместе с тем опустошенность.
– Савин, – догадываюсь, – ты что… пьян?
Мне надо бы уйти, но я так давно не смотрела в эти синие глаза, что вдруг пугаюсь больной темноты в них и подхожу ближе.
– Не знаю, – он смотрит на меня. – Не чувствую. Может, и пьян. Какая, к черту, разница?
– И дома не ночевал, да? – замечаю следы усталости на лице.
– А ты? Можно подумать, что ты дома ночевала. Или теперь твой дом здесь?
Нет, не здесь, но он знает, что я не стану отвечать, и кивает с кривой усмешкой, отчего на щеке появляется ямочка. Он стал красивым парнем – Игнат Савин.
– Правильно, не объясняй, Шевцова. Нам обоим все равно, ведь так? Если сейчас скажу, что всю ночь трахался, ты порадуешься за меня?
Это как ледяная полынья или зона арктического холода, в которую окунаешься с головой, теряя способность двигаться и говорить. Даже понимать.
– Ну, чего молчишь, Чайка?
Слова даются с трудом и получаются резкими.
– Может, и порадуюсь.
– Ищу вот себе хорошую девушку, пробую. Может, распробую, а? Как считаешь? Они все такие сговорчивые и хотят быть рядом, не то что ты.
Это больно. Неожиданно больно, но ведь он прав: нам обоим должно быть все равно. Так почему на деле получается иначе. Не могу представить его с другой.
Горло тугое, словно не мое, и язык немой.
– Дурак.
Он соглашается, скользнув по мне усталым взглядом.
– Точно. Вот и я считаю, что дурак.
– Зачем тогда пришел?
Игнат встает со скамейки и подходит ближе. Не спрашивая разрешения, обнимает меня одной рукой, крепко прижимая к себе. Я чувствую запах алкоголя, пота и сигарет, и какого-то неуловимого безумства из смеси отчаяния и силы. Я чувствую тепло своего Пуха, мужское тепло и закрываю глаза. Он – моя слабость, мой сон, в котором я хочу остаться.
– Пришел сказать, что нет никого лучше тебя, Алый.
Он негрубо сжимает пальцы на моем затылке:
– Ты покрасила волосы. Теперь ты блондинка и точно хочешь моей смерти.
– Это всего лишь эксперимент, к тому же корни уже давно отросли. Что, так плохо?
– Когда-нибудь у тебя будут длинные волосы каштанового цвета. И я сам буду тебя заплетать.
– Шутишь? Я терпеть не могу длинные. И тем более косы.
– Ничего, для меня отрастишь.
– Савин, – я сама не знаю, почему, но вдруг улыбаюсь. – Ты сегодня сошел с ума?
В какой-то миг я действительно в это верю, но он серьезен.
– Не сегодня, – признается, – давно. Я знаю, что еще не время, но скоро заберу тебя домой. Тогда никто не посмеет ничего о тебе сказать, никто.
– Он – мой учитель. И хороший человек, поверь.
– Верю.
Горячее дыхание шевелит висок и как-то легко на душе в это солнечное утро, как будто и страхов нет. А может быть, их действительно нет?
– Мне нужно идти, Игнат. И тебе пора.
– А если…
– Нет. Если у меня получится, я сама к тебе приду, – внезапно для себя обещаю. – А пока – не приходи сюда, пожалуйста, это тяжело для меня.
Он отпускает руки и смотрит в глаза. Мы оба смотрим. Через секунду он уйдет, оставив меня провожать его взглядом – когда-то пухлого улыбчивого мальчишку, превратившегося в высокого красивого парня, имя которого уже у многих на устах – да, я знаю. Как и понимаю, что этому имени не нужна моя история. Но прежде отчаянно выдохнет:
– Только не люби никого, Алька! Не люби!
– Майка?
– Привет, Чайка!
Моя подруга сидит на той же лавочке, где неделю назад сидел Игнат, закинув ногу на ногу, и болтает ступней, – такая же непринужденная и ветреная, как всегда. На ней короткая юбка, летняя джинсовая куртка и босоножки с тонкими каблучками. Концы темных волос на этот раз выкрашены в лиловый цвет, а глаза спрятаны за солнцезащитными очками, но я, конечно же, сразу ее узнаю.
– Майка, неужели ты?!
Я возвращаюсь от тетки с рюкзаком полным нехитрых гостинцев и пакетом картошки в руках и очень удивляюсь тому, что вижу ее возле дома Вишневского, и тому, что она нашла меня.
Она спрыгивает со скамейки и лезет обниматься. Я тоже рада ее видеть, но в руке тяжелая поклажа, и я прошу ее, отставляя сумку в сторону:
– Подожди, Майка, уронишь! Лучше скажи: где ты была? Куда пропала? Я же тебя сто лет не видела! И телефон не отвечал!
– Где была, там меня уже нет! – весело отвечает она. – В разных местах, Сань. Поверь, тебе лучше не знать! А телефоны у меня никогда не задерживались, ты же помнишь.
– Да, помню. – И это действительно так. В редких случаях получалось ее найти.
– Ну, а ты как? – она отступает на шаг, чтобы рассмотреть меня, и одобрительно кивает: – Вижу, мясца немного нарастила на кости, смотреть приятно. Я тут узнала, что ты себе старичка с квартирой и статусом отхватила? – смеется. – Молодец, давно пора. Я тебе сколько раз говорила, что голод не мужик, ночами не согреет и шмотки не купит. Пользоваться надо юностью и красотой, пока они чего-то стоят, а не слюной давиться. Так неужели послушалась?
– Нет, – я мотаю головой. Какая глупость! – Все не так, Майка!
– Ой, да ладно! – отмахивается подруга. – Не мое это дело, Санька, можешь не объяснять. Лучше скажи: твой старикан что, и правда известный художник? Богатый и одинокий? И любит тебя до беспамятства, так, что квартиру готов отписать?
– Да с чего ты взяла? – изумляюсь. – Бред! Конечно же нет! Кто тебе такую глупость сказал?
– Все говорят. Я от Артурчика Чвырева слышала, а он от Волкова, что ты зазналась. Но лично я за тебя рада, Санька. Нет, правда! Вот такой хрен им всем, а не Чайка! Пусть подавятся!
– Слушай, – она как-то дергано оглядывается. Натянуто улыбаясь, поправляет длинные волосы и что-то меня настораживает, смущает в ломких движениях ее пальцев, которые живут своей жизнью. – Может, пригласишь в гости? Я тебя два часа на скамейке караулю – жарко, пить хочется.
Я напрягаюсь. Это сложно. Мне еще никого не приходилось приводить в дом Генриха Соломоновича. Я знаю, что он не будет против такого моего своеволия, однако слишком много в его квартире искушения для девчонки, которая ворует, как дышит.
Она чувствует мои сомнения и ластится лисой, прижимаясь к боку.
– Да ладно тебе, Чаечка. Ну, правда же, пить хочется. Сушит, сил нет! Я попью и уйду, честное слово! Неужели ты по мне не соскучилась хоть немножко? Черт, – восклицает, – когда я ловлю ее за руку и ставлю перед собой. Потянувшись к лицу, медленно снимаю с нее очки, утыкаясь взглядом в воспаленные покрасневшие белки глаз и расширенные зрачки, которые не реагируют на яркое солнце.
– Майка…
Она вырывается. Спрашивает с раздражением, поправляя на плече сумочку:
– Что?! Мне уйти? Ну давай, скажи. Плевать я на все хотела!
Господи, я столько раз просила ее покончить с наркотиками, а теперь вижу, что она увязла еще больше. Это что-то посерьезнее дури, это амфетамин или Винт*. И, судя по всему, она давно сидит на нем. Только сейчас замечаю заострившиеся скулы и бледность кожи. Синяки под глазами, которые кажутся практически черными.
– Нет, постой, – я никогда не могла от нее отвернуться. – Конечно нет! Подожди, я оставлю сумки, и мы пойдем ко мне домой. Я куплю тебе воды, и поесть куплю…
Не знаю, если бы я тогда так и поступила, остались бы мы прежними? Может быть. Однако не все дороги мы выбираем сами, иногда судьба решает за нас. Из широкого подъезда показался Генрих Соломонович, который куда-то уезжал, и, обрадовавшись мне, пригласил подругу в наш дом.
Художник всегда хотел, чтобы я чувствовала себя комфортно в его квартире. Никого иного смысла в слова «наш дом» он не вкладывал, но Майка рассудила по-своему и мило улыбнулась мужчине. Она умела быть до черта обаятельной.
– Спасибо, я тронута вашим вниманием! – произнесла фразу из какого-то фильма, пожимая профессору руку, и добавила: – Я обожаю вашу Сашеньку!
– Какой милый старикан, – хихикнула через пару минут ему вслед. – И такой красивый, с тростью, пахнет весь, ну точно лорд из кино! Нет, правда, Сань, а он очень даже импозантный! Я правильно сказала?
– Правильно. Только прекрати сочинять, Зудина. Говорю же, нет ничего. Он мой учитель, а я просто помогаю ему по дому.
– Зашибись! Охренеть! Вот это да! И ты живешь во всем этом богатстве?! Не верю! – она, воскликнув, расставила руки и закружилась по гостиной, когда мы очутились в квартире Вишневского. – Это же рай! Картины, паркет, а мебель какая. Ой, что это? – подлетела к скульптуре греческой богини Афродиты, заметив ее в красивой нише. – Я такой в жизни не видела! Как в музее! Ой, а сколько здесь комнат? – оглянулась. – Этому дому наверняка лет сто, вон какие потолки высоченные! Да я бы деду за такое барахло не только тело отдала, но и душу…
– Майка, только ничего не трогай. Если что-нибудь стащишь – не прощу!
– Да ты что, Сашка! Никогда!
– Майка…
– Оно само, – девчонка виновато покосилась на собственный карман и, пожав плечами, достала из него костяную пузатую фигурку, запонки и вернула на секретер.
– И вторую положи, где взяла.
– Сань, да он и не заметит! Перестань!
– Положи, Зудина, я не шучу.
– Ты серьезно, что ли? Да этих цацек здесь до хрена, ну, не считает же он их каждый день? Да они вообще все похожи!
– Еще как серьезно, Майка. Обязательно заметит. И это не цацки. Это – японские нэцкэ, фигурки из слоновой кости. Генрих их сорок лет по всему миру собирает. Я даже и близко не могу оценить стоимость коллекции, хотя столько раз протирала с них пыль, но он ею очень дорожит. За одной из последних фигурок он в прошлом году специально летал на аукцион в Цюрих.
– Надо же, – подруга округляет глаза. Удивляется искренне: – В Цюрих? С ума сойти! А с виду такая фигня. Я точно такие же у вьетнамцев на рынке видела. А если подменить?
Я качаю головой. Майка неисправима.
– Забудь и даже не думай! – беру ее за руку. – Пошли лучше на кухню чай пить! Я от тетки творог привезла и сметану домашнюю. Хочешь?
– Спрашиваешь! Ой, а это что? Какие странные вазочки…
С Майкой пришлось трудно, но я старалась с нее глаз не спускать. Она тарахтела без умолку и хохотала, но смех казался натянутым, без прежней легкости и отчасти неживым, и это было совсем на нее не похоже.
Нормальных чашек – со сколами и трещинками, к которым мы привыкли – в доме Генриха никогда не водилось. Еще со времени жизни его родителей – один фарфор. Майка тут же попробовала его на зуб.
– А ешли отколется? Он же тонюсенький, как бумага. Тьфу! И я люблю большими кружками чай дуть, а не такими мензурками. Блин, Сашка, вот кто бы мог подумать, что ты будешь жить, как королева! – она снова оглядывается. – Сань, между вами действительно, что ли, того? Серьезные отношения? Не похоже, чтобы старик тебя здесь за прислугу держал.
– Снова ты за свое, Майка. Это все не мое, пойми уже. Он хороший человек, и это главное. Мне такой еще не встречался.
– Ну и что? Я тоже хорошая. Все мы хорошие, когда нам что-то от кого-то нужно. Я лучше знаю жизнь, чем ты.
Похоже, в данный момент подругу не переубедить, и я больше не пытаюсь.
– Пойдем, лучше покажу тебе кое-что.
Мы проводим в мастерской больше часа. Я показываю Майке картины Генриха и свои рисунки. Сначала ей интересно, но интерес быстро гаснет. Между миром искусства и девушкой лежит огромная пропасть. Ее внезапно кидает в пот, и я с беспокойством кладу ее на кровать. Пытаюсь дать лекарство, Вишневский астматик и в доме целая аптечка подручных средств скорой помощи, но Майка очень скоро убегает, сославшись на дела.
– Только не учи меня жить, Санька, – неловко смеется на прощанье, когда я пытаюсь, наверно, в сотый раз достучаться до ее сознания. Прячет, когда-то хитрые, а сейчас пустые глаза за солнцезащитными очками. – Поздно.
Она поворачивается и громко стучит каблучками по асфальту, уходя от меня, чтобы, возможно, снова надолго пропасть. А я и сама понимаю, что поздно.
Летние каникулы для многих студентов – беззаботное время. А для меня это время, когда я должна себе заработать на учебу и краски, на зимние вещи и на оплату квартиры. В академии одна из сокурсниц берет заказ расписать детскую спальню в дачном коттедже, и мы компанией из трех девчонок едем за город и работаем над иллюстрациями из сказок несколько дней. В пятницу в академию приезжает с мастер-классом известный художник-авангардист из Рима, и я обещаю Вишневскому обязательно быть.
– Здравствуйте, Генрих Соломонович! Я вернулась.
Я вхожу в квартиру художника уставшая, но довольная, сбрасываю рюкзак у стены, и замечаю его стоящим у окна в своем кабинете.
– Здравствуй, Саша.
Он оборачивается и садится за стол. Сутулит спину, вздыхает и смыкает ладони в пальцах, не поднимая взгляд.
Странная встреча. Я замираю на пороге комнаты. Это немного эгоистично, но я привыкла, что он ждет меня. Приветливо улыбается, и мы пьем чай. Я сделала несколько снимков своей работы и мне не терпится показать ему, но, похоже, мужчине не до моих желаний.
– Что случилось? – растерянно задаю вопрос, потому что по голосу Генриха Соломоновича – глухому и просевшему, понимаю: что-то определенно произошло.
Вишневский произносит не сразу, а только вдохнув лекарство из аэрозольного баллончика и сделав несколько глубоких вдохов.
– Камеры в подъезде показали, что в квартире никого не было, – говорит негромко, словно сам себе. – Никто из посторонних людей не взламывал замок и не проникал сюда в наше отсутствие, я сам посмотрел. Квартира под надежной сигнализацией уже много лет и попасть в нее с улицы практически невозможно.
– Что? – я все еще не понимаю, в чем дело, и о чем он говорит, но в груди внезапно просыпается дурное предчувствие, а на висках выступает испарина. – Чт-то?
– Послушай, Саша, – он смотрит на меня, но этот взгляд совершенно потухший, – я верю, что это не ты, но мне нужна твоя помощь. Это память об отце и деде. Семейная реликвия – пусть у меня и нет семьи. Мне это дорого и сейчас я чувствую себя так, словно у меня отняли часть души.
Мое горло деревенеет, а в жилах стынет кровь. Это ведь не то, о чем я думаю? Нет, нет, не может быть! Мне еще никогда в жизни не было так страшно, как сейчас. Как будто отрезало ноги. Не от физического страха, а от внезапно открывшегося понимания, что, кажется… Я распахиваю глаза от ужаса. Кажется, я подвела человека и навсегда потеряла его доверие.
– Что пропало? – спрашиваю немыми губами.
– Орден Святого апостола Андрея Первозванного – косой крест из серебра с золочением на золотой орденской цепи. Он принадлежал моему прадеду по материнской линии, князю Девятову, и был ему жалован царем. А еще монеты. Золотые. Старой царской чеканки. Очень дорогие.
– Вы… еще не заявляли о пропаже в полицию?
– Нет, – взгляд голубых глаз буравит насквозь, – сначала я хотел поговорить с тобой.
Это как пощечина, а может, даже хуже. Он сомневается. По спине ползет холодный, липкий пот и, наверняка, мое обещание тоже звучит глухо, а еще жалко, потому что я полностью осознаю свою вину.
– Я все верну вам, Генрих Соломонович. Все. Еще не знаю, как, но, клянусь, верну!
Как побитая собака пячусь к дверям, наскоро бросаю вещи в сумку и, конечно, едва ли слышу, как он взволновано кричит мне вслед:
– Нет, Саша! Не смей с этим разбираться сама!
-14-
В моей квартире все по-старому, пахнет одиночеством и ветошью. Льняные занавески на окнах окончательно выцвели, обои поблекли, и даже картина фантастического Мельбурна уже не смотрится яркой и необычной, как раньше.
Я не включаю в прихожей свет. Роняю сумку у стены, прохожу в отцовскую спальню и опускаюсь на его кровать. Раскинув руки, смотрю в потолок, где с пыльной пластмассовой люстры свисают длинные нити паутины. А кажется, что совсем недавно я убирала их. Но нет. Вот они снова здесь – еще тоньше и цепче, чем прежде.
Я смотрю на паутину долго и бесцельно, слушая мерный шаг механизма настенных часов, в тишине собственного дома ожидая наступления вечера.
Тик-так. Тик-так. Вот интересно, если бы время можно было обратить вспять, настроить на обратный ход, выиграло бы от этого человечество? Определенно, да. Тогда бы некоторым людям вообще не стоило рождаться.
Я собираюсь быстро, надев джинсы и куртку, убрав волосы в хвост, покидаю квартиру. Сунув руки в карманы, иду за толпой в подземку – хотя знаю, что почти наверняка не найду здесь Майку. Не сейчас, когда она только что так жирно разжилась. Но мне нужна информация, и я рассчитываю ее получить.
В городе час пик и мне приходится проехать две ветки, прежде чем я замечаю его – мальчишку лет двенадцати, в широкой, теплой не по погоде толстовке и затертой бейсболке, худого и неряшливого, но вполне себе обычного, суетливо поглядывающего по сторонам. Он запрыгивает в вагон в последний момент, но я успеваю скользнуть за ним. Так же ловко протискиваюсь между пассажирами, и прячу глаза, когда он оглядывается. Вижу, как наконец замирает за парой немолодых людей, судя по улыбкам, всерьез увлеченных разговором друг с другом.
Это его хлеб и его мир, знакомый с детства, и пацан работает практически виртуозно, чуть больше других пошатываясь от хода поезда и поглядывая со скучающим видом в окно. Когда-то я так же выследила Майку. Я догадываюсь, что он достиг цели по тому, как осторожно ходит его локоть, едва заметно изменяя положение руки, и как напрягается линия обветренных губ. Приоткрытый рот смыкается, взгляд цепляется за точку на стекле, и глазами становятся руки.
В момент воровства вор никогда не смотрит по сторонам, только до и сразу же после.
– Куда, пацан? А поговорить? – я не даю ему отступить, тесно зажимаю между собой и парочкой. – Упс! – склоняюсь к уху, крепко обхватив под грудью, подбиваю ногу коленом, смещая опору. От пацана пахнет клеем и какой-то синтетической пищевой дрянью, имитирующей запах мяса. Наверняка, давился сухой вермишелью из пакета, засыпая приправу прямо в рот – догадываюсь, и успокаиваю воришку тычком в бок, когда он пытается освободиться. – Тихо, не рыпайся!
У пацана под кофтой два бумажника и телефон. Быстро сработал. Ему хватило минуты, чтобы обставить этих двоих. Я продолжаю его ощупывать, и он теряется, соображая, как действовать. Совершенно точно ему не закричать, не сорваться с места и не убежать. И добро не сбросить – я не дам.
– Стой спокойно, пацан, пока я добрая и трачу на тебя время, – говорю жестко. – Бумажник жирный, так что тебе повезло, – шепчу на ухо. – В нем наверняка полно налички. У бабы банковские карты, тухлый номер, а вот телефон отличный, так что вопить она будет громко. Может, даже рожу исполосует сгоряча. Мужик мне тоже нравится, сбежать не даст. Бить не станет, а вот в детдом вернуться придется. И ментам своих сдать. Я видела, с кем ты работаешь.