Огненный перст Акунин Борис
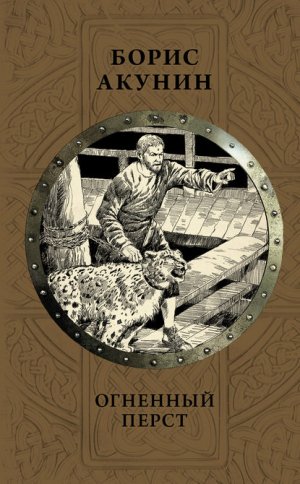
С беспокойством Ингварь покосился на Добрыню. Тот насторожился, тоже не сводил глаз с Бориса. Тот из красного стал белым, потом пошел пятнами. Один только отец Мавсима, не понимая разговора (он по-половецки не знал), увлеченно грыз баранью кость да причмокивал от удовольствия.
Вдруг Борис запрокинул голову и расхохотался.
– Полно тебе старое поминать, Сатопа! Сгоряча чего не бывает. Выпей лучше доброго меда.
Половец довольно оскалился. Стал пить из чаши, а Борис поманил пальцем – от двери подбежал Шкурята, с оплывшей от Добрыниных побоев рожей. Послушал, что шепчет князь. Вздрогнул. Шепотом же переспросил.
– Делай, что велено. – Борис толкнул его кулаком в лоб. – Хорош медок, Сатопа? У вас в Улагае такого нету. Дай-ка я тебя сам попотчую.
Он поднялся, обошел вокруг стола, сел рядом с половцем.
– У нас, как и у вас, большая честь, когда князь из своего рога, собственной рукой поит. На-ко вот. – Налил до самых краев, поднес Сатопе ко рту. – Хлебай-хлебай, до дна. Я держать буду.
Усмехнувшись, куренной начал пить – очень медленно, чтобы князю подольше сидеть в неудобной позе, извернувшемуся.
Откуда-то донесся истошный вопль, но сразу пресекся. За ним еще один, тоже короткий.
Добрыня резко повернулся к окну, Ингварь – к двери. Оторвался от рога и Сатопа.
– Что это? – спросил он, вытирая мокрые губы.
– Это смерть твоя, собака! – Взметнув из-под стола руку, Борис ударил половца ножом в подвздошье. Сшиб с лавки на пол, прижал коленом грудь. – Твои ланганы мертвы. Сдохни и ты!
Ингварь с Добрыней вскочили, потрясенные.
Скользящим движением Борис отрезал раненому кончик носа и сунул в разинутый, хрипящий рот.
– На-ко, просморкайся!
И много раз, бессчетно, стал бить ножом куда придется. Во все стороны полетели красные брызги. Половец уже лежал не шевелясь, а Борис всё бил и бил. Насилу Ингварь и Путятич его оттащили.
Вырываясь, брат бессвязно кричал:
– После Адрианопольской битвы… когда я, как куль… как куль связанный лежал… Он, гад, подошел, сапогом пнул… А потом из ноздри на меня сморкнулся! Хан Сатопу нарочно сюда прислал! Мне в оскорбление! Напасть хочет!
– Да почему напасть? – Ингварь тоже закричал, отчаянно. – Он проверить хотел, лад у нас с тобой или нет. Коли дружно живем – нечего нас и трогать! А теперь что? Война! Да какая! Без пощады, дотла!
Борис не слушал:
– Не прощу… С одним псом поквитался. Но и Тагызу не спущу. Он меня на пиру ниже куренных и кошевых сажал, с простыми ланганами! Потешался! Пускай теперь похохочет!
Раздался странный прерывистый звук. Это икал протопоп, застывший с раскрытым ртом, из которого свисал кус баранины.
Настроения у Бориса менялись быстро. Только что трясся от лютой ярости, а тут покатился со смеху.
– Ой, Мавсима-то… Зев разинул! Прикрой, ворона залетит!
Поп выплюнул мясо, бухнулся на колени, забормотал молитву. На Бориса он не смотрел.
– Господи, что ж теперь будет… – тоскливо пробормотал Ингварь и попятился – к сапогу, словно змея, подбиралась струйка крови.
– Война будет, – пожал плечами Борис. – Или мы их, или они нас. Это как Бог рассудит.
Добрыня глядел на него с ненавистью.
– Бог судит за тех, у кого копьев больше. Тагыз созовет все свои курени, кликнет на помощь других ханов. Куда нам против такой силы?
– А мы не станем ждать. Первые нападем. Врасплох. – Борис, нагнувшись, вытер нож и окровавленные пальцы об одежду мертвеца. – Тагыз в Византии большую добычу взял. Вся наша будет.
– Нападем?! – не поверил своим ушам Ингварь. – На половцев?! Да ты не пьян ли? Отобрал у меня стол, отобрал невесту, но губить отчину и людей я тебе не дозволю! Не будет мне за то от Бога прощения.
Борис недобро усмехнулся.
– Ишь, как запел. Не дозволишь? Сказал князь воевать – будете воевать. Так испокон веку заведено.
– Испокон веку заведено не так. – Добрыня встал рядом с Ингварем. Ростом и статью он не уступал Борису. – Идти в поход иль нет – решать дружине. Как воины приговорят.
Борис и боярин оба набычились, каждый держал руку на рукояти меча – вот-вот затеют рубиться. Но князь засмеялся, стукнул Добрыню по плечу.
– Ты прав, старый. Пускай дружина решит. Коли не захотят – я с такими овцами и сам в поход не пойду. Собери всех в гриднице. Пускай только мертвяков оттуда вынесут и пол песком присыплют. Можешь пока дружину против меня и моей правды поуговаривать. Пользуйся.
Добрыня, метнув взгляд на Ингваря, вышел. Борис же, подойдя к кладущему земные поклоны протопопу, шутливо спросил:
– Ну, отче, какую ты мне назначишь епитимью за убиение язычника?
Мавсима, распрямившись и в последний раз сотворив крестное знамение, тихо ответил:
– Ты – князь, пастух над людьми. Коли грешен – за твой грех все стадо расплатится. Коли прав – Господь спасет и тебя, и люди твоя. А с души твоей спросит после.
– Вот это правильный поп! – смеясь воскликнул Борис.
Про ужасы брани
В гриднице пахло свежей кровью. Под ногами хрустел песок, сквозь который проступали темные пятна. Четверть часа назад здесь прирезали шестерых половецких ланганов.
Свиристельские дружинники давно уже не воевали, давно никого не убивали, поэтому лица у всех были хмурые, бледные. Каждый понимал, что расплата за смерть ханских посланцев будет страшной.
Князья вошли вместе, но Ингварь нарочно отворачивал лицо, чтобы показать людям: он брату не потатчик и свершившееся окаянство осуждает. Правда, на младшего князя никто и не смотрел. Воины пытливо, выжидательно уставились на старшего.
Борис оглядел собравшихся, тронул закрученные усы. Усмехнулся.
– Вижу, Путятич с вами уже потолковал. Боитесь идти на половцев? Что ж, говори, Добрыня. Как нам после того, что тут вышло, без войны обойтись? А я послушаю.
Он сел у стены, скрестил руки на груди.
Добрыня вышел на середину.
– Надо вот как. Увезти мертвых на берег, подальше от города. Бросить у воды. Порубить новгородскими топорами, а один топор, сломав, положить рядом. Будто бы послов посекли ушкуйники разбойные. Тагыз знает, что новгородцы у нас озоруют. Заплатим половцам за недогляд гривен двести или триста. Возьмем еще в рост, после как-нибудь отдадим. Если хан захочет мстить Новгороду, пообещаем пойти вместе с половцами. Но он навряд ли захочет – больно далек путь… Перед погаными виниться будет тяжко. Но воевать с ними нам нельзя.
Многие, особенно из старых дружинников, с боярином согласились. Молодые молчали – ждали, что скажет Борис.
Тот поднялся. Неспешно походил по зале, поочередно глядя в лицо каждому.
– Эка дрожите-то. Будто листы под ветром. Воины – и войны боитесь? Рыба, воды боящаяся, и волк, леса бегущий, – на что они? Эй, Шкурята! Покажи, кто ланганов кончал! Пусть вперед выйдут.
К Борису протиснулись человек пятнадцать, все молодые – из тех кто вечно ходил за Борисом и жадно слушал его рассказы.
– А ну встаньте в ряд. Преклоните правое колено. И ты, Шкурята.
Князь вынул из ножен меч. Коснулся клинком Шкурятиного плеча.
– Жалую тебя, честной муж, родовым именем и знаком. Отныне будешь зваться рытарем.
То же самое он проделал с остальными и повторил точно такие же слова.
– Теперь поднимитесь. Вы – первые свиристельские рытари. Возьмем у поганых добычу – велю вам выковать серебряные шпоры. Прочие знайте: кто отличится в походе, получит такую же честь. И двойную долю от добычи. А добычи мы возьмем много. Я, пока в плену сидел, насмотрелся, сколько Тагыз-хан у греков добра награбил. Там и злато, и серебро, и ткани узорчатые…
Он начал расписывать, какие богатства привезли в свой Улагай половцы из Византии. Ингварь смотрел на воинов, каждого из которых знал с детства, и ему казалось, что он видит их впервые. У дружинников разгорались глаза, к лицам приливала кровь – и дело было не в алчности или не только в ней. Когда Борис заговорил о сладости победы, о великой славе, которую обретут те, кто одолеет поганых, молодые начали одобрительно шуметь, да и старые закивали.
Боярин, перебив Бориса, крикнул:
– А будет ли победа? Откуда? Сколько нас и сколько их? Что рты разинули, дураки? Это вам в степи лежать, воронов кормить!
– Может, и так, – легко согласился Борис. – Воинская судьба – она такая. Но, по-моему, лучше полечь со славой, чем идти к поганым на поклон. Ладно, соколы. Всё уж сказано. Решайте. Кто за то, чтобы в степь идти – подымай кверху кулак.
Лес сжатых кулаков поднялся над русыми, светлыми, черноволосыми, седыми головами. Нечего было и считать.
– Вот тебе ответ, Добрыня. – Борис снисходительно оглянулся на боярина. – Дружину сам поведу. Дорогу к Улагаю я хорошо знаю, было у меня время всё там высмотреть. Клюква, ты позаботься о припасе в дорогу. Чтоб у моих соколов ни в чем нужды не было. Завтра на рассвете выступаем.
– Эх, князь, князь, – горько шепнул бледному Ингварю боярин. – Говорил я тебе. Не уберег ты отчину. Быть Свиристелю пусту…
Что можно было за короткое время сделать – всё было сделано.
Городские ворота Ингварь велел запереть. Кто чужой приедет – пускать, но из Свиристеля не выпускать никого. Весть об убийстве половецких послов надо было держать в тайне.
Вечером Борис пображничал со своими «рытарями», но недолго – отправил всех спать, сказавши, что рано утром идти в поход, и завалился сам.
Ингварь же с Добрыней всю ночь были на ногах. Готовили припас, проверяли конскую сбрую и оружие. Отправили надежных, неболтливых гонцов по деревням – приказать ополченцам, чтобы шли к крепости Локоть, там-де будет военное учение.
Замысел у Бориса был простой: собрать всю силу, сколько есть, и скорым шагом, налегке, без обоза, идти прямо на Улагай, где ханская ставка. Взять врага врасплох.
Тагызова орда поделена на десяток куреней, разбросана по степи на сотни верст. Каждый курень состоит из кошей, родов с собственным кочевьем. Готовясь к войне, хан собирает рать неделю или две. Под его бунчук встают до полутора тысяч всадников. Если же ударить нежданно, Тагыз останется только со своей ближней дружиной и с обитателями Улагая, который и не город вовсе, а стойбище, куда сгоняют на зиму скот, а ныне, в конце лета, людей там мало.
Важно еще вот что. Даже завидев врага, Тагыз уйти в степь не сможет – иначе придется бросить византийскую добычу, которая за неимением теремов и складов хранится у половцев в повозках, под охраной. Расчет Бориса строился на том, чтоб скрытно подойти к Улагаю как можно ближе. А там – как сложится.
Если получится с одного удара сокрушить хана – и победа, и добыча будут со свиристельцами. Устоит Тагыз – уже назавтра начнут подходить ближние курени, и тогда никто из русских домой не вернется. Все до единого сложат головы, а Свиристель останется без защитников, потому что Борис брал с собой всех, до последнего человека: двадцать конных и сорок пеших дружинников, восемьдесят воинов из Локотя, даже сотню копейных мужиков ополчения.
– Иль орлами кружить, или воронов кормить, – беспечно сказал он брату.
С утра Борис сидел на своем огромном Роланде свежий, праздничный. Покрикивал на дружинников, заряжал их своим задором.
С первыми лучами солнца двинулись.
Впереди – Борис, за ним конные, потом пешие. Сзади – малый обоз, необременительный. Всю ночь – Добрыня придумал – плотники с кузнецами делали двухколесные тележки, которые можно цеплять к крупу. Двадцать тягловых лошадей тянули эти легкие повозки, груженные съестным запасом, доспехами, оружием. Дружинники шагали налегке, в одних рубахах – быстро.
Но в Локоте пришлось задержаться и ждать ополченцев. Те собирались к крепости весь остаток дня, до поздней ночи.
– Ты принимай людей, – сказал Ингварь брату. – Я поеду вперед. Завтра свидимся.
– Поедешь? Куда это?
– К Юрию Забродскому. Нам через его земли идти. Договориться надо.
– Скажи ему: вздумает Тагыза упредить – пожалеет. – Борис погрозил кулаком. – Да построже с ним.
– Скажу, – коротко ответил Ингварь.
Он не был уверен, что из поездки выйдет прок, но попробовать стоило.
Князь Юрий рванул на себе ворот, словно перестало хватать воздуха.
– Убили? Сатопу с ланганами?
Желтое складчатое лицо все задрожало, маленькие глаза за припухшими веками будто провалились, сделались двумя дырьями.
От многолетней близости к Степи забродчане изрядно ополовечились. Стали черноволосыми и скуластыми. Здесь было в обычае приводить невест из орды, а бабы после каждого набега рожали узкоглазых детишек. Юрий по виду был чистый половец, только что говорил по-русски, да под рубахой виднелся шнур от креста.
– Да. И ныне идем разорить Улагай, – сказал Ингварь, изображая спокойную уверенность. – К полудню мой брат Борис с войском будут здесь, в Забродске.
Юрьев город, а верней сказать городец, стоял на крутом холме, окруженный крепкой стеной. Подниматься и спускаться по вьющейся вокруг склона дороге было долго и неудобно, но забродские, когда строили, об удобстве не думали. При их суровой жизни заботиться надо было только об обороне.
Каждый раз, идя на Русь, поганые следовали этой дорогой. Бывало, что и черниговские Ольговичи, собрав силу, шли воевать Степь – для Забродья это было немногим лучше. Потому здешние князья всегда присоединялись к нападающему: половцы идут – к половцам, русские – к русским. Лишь тем до сих пор кое-как и держались.
– Кто идет из других князей? – спросил Юрий, часто помигивая. – Велика ли рать?
– Только мы. – Ингварь растянул губы в улыбке, надеясь, что она получилась победительной. Врать не имело смысла – Юрий скоро сам увидит. – Но Борис дружину поставил наново, обучил рытарскому бою. Не устоит Тагыз. Мы его врасплох возьмем.
– Какому бою? – переспросил Юрий.
– Рытарскому. Так крестоносцы с сарацинами неверными бьются и поражений не знают.
Не помогла самодовольная улыбка, и уверенный тон не помог.
– Коли вы одни идете, не могу я вас через свои земли пустить. – Забродец замахал руками. – Мне потом за это орда всю отчину пожжет. И не думай, и не проси!
– Разве я тебя прошу? – еще шире ухмыльнулся Ингварь. – Борис уже по твоей земле идет. Часа через три будет под стенами. А у тебя в Забродске, я видел, только малая дружина. Прочие все на половецком рубеже. Соглашайся добром, иначе твой город пожжет не Тагыз, а мой брат. Нынче же.
Юрий ощерил желтые, кривые зубы.
– А ты-то? Ты-то, князь свиристельский, здесь! Если твои сунутся, тебе конец!
Пожав плечами, Ингварь сказал:
– Я теперь не князь. Борис вернулся, меня отставил. Тебе про то твои лазутчики, верно, уже донесли. – Он наклонился вперед, ухмылку убрал и заговорил проникновенно, доверительно. – Я ведь, Юрий, к тебе не грозиться приехал, а по-братски. Муж ты мудрый, рассуди сам. Пройти через Забродье ты нам помешать не можешь – только себе хуже сделаешь. Нас немного, победить Тагыза нам будет трудно. Если мы в Степи все поляжем, придется тебе – прав ты – перед половцами ответ держать: пошто пропустил? А теперь возьми и по-другому взгляни. Кому из князей от Тагыза больше всего горя? Тебе. А кому будет главная выгода, если Тагыза не станет? Опять тебе. Раньше ты по своей слабости о том и не мечтал. Но вместе, нежданным ударом, мы хана в Улагае голеньким возьмем! Не успеют курени ему подмогу прислать. Скажи, велика ль твоя дружина?
– Сорок конных, девяносто пеших, – тихо ответил забродский князь. Он слушал, сдвинув редкие брови, почти не дыша.
– Да нас двести сорок! Это же сила! У Тагыза в ставке всего сотня ланганов и в городке сколько-то беспанцырной черни. Вместе мы их сокрушим! Подумай, Юрий Глебович, как твоя отчина заживет, если половцы хвост подожмут. А сколько возьмем добычи! Ты слыхал, как богато Тагыз на Царьград сходил?
Долго еще Ингварь толковал с Юрием. Взывал к разуму, пугал Борисовым гневом, манил прибытками и выгодами.
В конце концов убедил. Правда и то, что деваться забродцам было некуда. Или к одному лагерю прибиться, или к другому. Половцы были далеко, а свиристельцы – у ворот.
Ударили по рукам. Сладились.
Вот теперь, с забродской дружиной, из похода, пожалуй, мог выйти прок. Если очень сильно повезет.
Дикое поле начиналось сразу за пограничной рекой Смертью, которая называлась этим страшным именем с незапамятных времен, когда еще никаких половцев не было и по бесконечной равнине бродили другие хищники, печенеги. Их прогнал мудрый Ярослав, великий прапрапрадед, и после этого целых тридцать лет Русь жила спокойно, не ожидая с востока напасти. Про те блаженные, сытые годы можно прочесть в летописях, но верилось с трудом: как это возможно, чтобы за Смерть-рекой не ходили грозовые тучи, не рокотали громы, не посверкивали молнии?
Во времена прапрадеда Святослава из неведомых глубин Степи налетела новая саранча и с тех пор всё терзает, терзает русскую землю, насланная за грехи и распри неразумных потомков Ярослава. Иногда, редко, им удавалось меж собой договориться, собрать союзную силу – и тогда орды отступали, но такого давно уже не случалось. В недавние годы галицкий князь Роман, орел высоколетящий, ходил на половцев с большой ратью, южнее здешних мест, но курени поднялись и ушли, растаяли в бескрайних просторах. Мощный кулак рассек пустоту. Чести от того похода обрелось немного, добычи – и того меньше. Трудно воевать с врагом, у которого нет ни настоящих городов, ни деревень, ни пашен. Будто на тучу комарья машешь мечом.
Борис был прав в одном: ударить малой силой, пусть немощно, но зато быстро – только так можно досадить степным кровососам.
Шли хоть и споро, но без спешки – только в темное время. Пересекли Смерть-реку после заката, всю ночь двигались не останавливаясь, а перед рассветом спрятались в балке. Костров не разводили, оружием не звенели, морды коням обмотали тряпьем, чтоб не ржали. По краям оврага залегли дозорные.
Весной или в начале лета на свежей зелени от копыт и колес остался бы след, но на исходе августа трава лежала желтая, сухая, мертвая, а голые места, где песок, войско обходило стороной. Путь указывали забродские проводники – они знали здесь каждую пядь.
Первый переход и первая дневка получились удачными. Половцы врага не заметили.
На следующую ночь было то же: шли скоро и бесшумно, без отдыха. Отмахали верст сорок. В предутренних сумерках затаились в двух соседних балках – слева свиристельцы, справа забродцы. Еще бы один ночной бросок, а там и до Улагая рукой подать.
Дружинники с ополченцами расположились по тенистой стороне оврага. Солнце, поднимаясь в небо, палило всё жарче, а воды было мало – только та, которую привезли в кожаных бурдюках. Зато еды хватало. В двухколесных тележках лежало тысяча двести пайков, пятидневный запас на двести сорок человек. Ингварь сам придумал: быстро, удобно. В мешочке вяленая говядина, сухари, репа, морковь.
Жуя тугой лоскут мяса, Ингварь поднялся по склону. Там, притаившись в буйном ковыле, сидел Борис, всматривался вдаль.
– Ты? – коротко обернулся он. – Что-то у забродцев шумно…
В самом деле, из соседней балки, до которой было шагов триста, доносились голоса. Лязгнуло железо, кто-то громко выругался.
– Союзнички косоглазые… – процедил Борис. – Одно название что русские. Я чего опасаюсь. Когда мы с Тагызом сойдемся, не ударит нам Юрий в бок иль в спину?
– Может. Если битва неладно пойдет…
– Гляди! – вскрикнул брат.
Из оврага, в котором сидели забродские, скачком вылетел всадник на низкорослой половецкой лошади. Наметом понесся в эту сторону.
Солнце светило в глаза – больно смотреть. Ингварь вскинул к бровям ладонь.
Это был Юрий.
Борис крякнул:
– Эх! Что ж он, собака, явью скачет, по открытому?!
Забродский князь разглядел братьев за ковылем, осадил коня. В седле он сидел по-степняцки: одна нога согнута в колене, лежит поперек холки.
– Заметили! – крикнул он. – Двое каких-то! Рысью ушли, не догнать. Теперь таиться нечего. Трубите в рог, свиристельские! Напрямки к Улагаю пойдем! Поспешать надо.
Как действовать на такой случай, было заранее сговорено. Все конные, полсотни забродских и двадцать свиристельских, погнали вперед – обложить Улагай, чтоб Тагыз-хан не поспел увезти в дальнюю степь обоз с добром. С всадниками ушли Борис и Юрий. Ингварь с Добрыней и забродский боярин Тучка повели пешее войско, скорым шагом, но не выматывая. Пройти оставалось верст сорок или сорок пять.
Привычные к военному ходу дружинники двигались быстро и уставали мало, но ополченцы скоро начали задыхаться, растягиваться длинной вереницей. Поэтому Добрыня велел делать остановки. Через три часа устроили первый привал. Отшагали еще два часа – пообедали. Здесь опытный Путятич дал людям поспать до заката, не стал томить самым тяжким, предвечерним зноем. Зато потом, по прохладе пошли легко и до рассвета остановились только однажды, возле чудом не пересохшей речки – попить и освежиться.
Несколько раз во тьме стучали копыта. Однажды над головами просвистело несколько стрел, но никого не задело. Близко кружили половецкие разъезды. Колонна сбилась плотней. Нужду, кому приспичит, справляли не отходя в сторону – боялись.
А когда небо на востоке побледнело, из сизой мглы навстречу выплыл огромный всадник – Борис. С ним Шкурята еще несколько рытарей.
– Всё готово. Только вас и ждали! – весело объявил брат. – Ну, орлы-соколы, будет нынче потеха! Попался Тагыз! Возьмем, никуда не денется!
Послушав брата и оглядевшись на местности, Ингварь понял, что не больно-то Тагыз и попался, а «взять» его будет ох нелегко.
Захватить Улагай врасплох не получилось. Хан не успел скрыться в степи, но изготовиться к обороне времени у него хватило.
Отсидеться в городе ему было нельзя – ни стен, ни валов половцы не ставили, но неподалеку возвышался большой курган с плоской, выровненной веками и ветрами верхушкой. Там и засел Тагыз, поставив повозки кольцом, а лошадей отогнав прочь.
Воинов у хана было немного: сотня отборных ланганов и еще сколько-то улагайских жителей. Остальные половцы, прихватив баб с ребятишками и забрав скот, ушли. Город стоял пустой, но кому он нужен? Кибитки да глинобитные лачуги, брать там было нечего.
А вот в повозках, которые Тагыз не захотел бросить даже ради собственного спасения, по словам Бориса, хранились несметные сокровища. На телегах стояли мощные самострелы, бившие на пятьсот шагов, а если подойти еще ближе, половцы начинали стрелять из луков так густо, что рябило в глазах.
На военном совете, в котором участвовали три князя и два боярина, говорил всё больше Борис. Остальные слушали.
– Медлить нельзя, – рубил он воздух ребром ладони. – Курган надобно взять не поздней полудня, не то подойдет ближний курень, что кочует в тридцати верстах к югу, и ударит по нам с тыла. На то у Тагыза и расчет – отсидеться до подмоги. В ханской охране сотня латных дружинников. Простых нунганов, может, против того вдвое, но они бескольчужные и хороши только стрелы пускать, в сече от них проку мало. Нам бы внутрь кольца прорваться, а там покрошим их мечами и топорами, переколем копьями.
– Так навалимся разом, и дело с концом, – сказал Ингварь. Он поглядел на недальний холм и подумал, что это, пожалуй, не очень страшно: в толпе, толкаясь плечами, с криком, побежать всем вместе – сначала по полю, потом по некрутому склону. А дальше, Борис говорит, уже просто будет.
– «Навалимся», – передразнил брат. – Если мы поведем наступление кучей, они тоже все на одну сторону соберутся. Как начнут стрелами сыпать – за минуту тыщи три выпустят. На каждого из нас почти что по десять штук придется. Нет, тут хитрей надо. Мы встанем с четырех сторон, чтоб Тагыз своих по всему кругу расставил. Пехота бежит медленно, потому начнем конницей. Взлетим наверх с разгона – ахнуть не успеют. У поганых, поглядите, телеги не вплотную стоят. Через зазоры и врубимся. А тем временем пешие подоспеют. Конницей тоже ударим не в одном месте, а в двух. Я с юга. Ты, Юрий, с севера. Свиристельскую пешую дружину и ополчение Добрыня и Ингварь с востока поведут. Твой Тучка забродских копейщиков – с запада.
Юрий Забродский, поразмыслив, предложил:
– Твои конники лучше моих закованы. Идите вы первыми. А как лучники с моей стороны на вашу побегут, тут и я двину.
Борис спорить не стал:
– Пусть так. Тебе за курганом будет не видно, когда мы пойдем, так я в рог протрублю. Выжди минуту-другую – и вперед. А вы, – он поглядел на Добрыню и Тучку, – бегите со своими, как только я второй раз протрублю, уже от самых телег. Я впереди всех буду! – гордо молвил Борис.
«Какой он ни есть, а не отнимешь – герой, – подумал про брата Ингварь. – Вот и выходит, что Трыщан – он, а не я. И нечего мне на Ирину за неверность досадовать…»
Мысль была горькая. За ней последовала другая, тоже невеселая, но странно утешительная. А хорошо бы нынче голову сложить. На что такая жизнь – без Ирины? Хоть вспоминать будет: был такой незадачный витязь, любил всем сердцем, да сложил голову за отечество. И ей будет не стыдно, что вышла замуж за другого. Мертвым не изменяют…
– Сговорились? – потер ладони Борис. – Тогда расходитесь по сторонам, расставляйте своих. Ныне буду в броню наряжаться. Это час, не меньше. Помни же, Юрий: пойдешь, когда я вот так протрублю.
Он снял с пояса гнутый, не русского вида рог, поднес к губам. Раздался высокий, протяжный звук, от которого у Ингваря тоскливо сжалось сердце.
– Ну, брат, обнимемся, – сказал Борис – но не Ингварю, а Юрию. – Поклянемся друг дружке, что либо добудем славу и богатство, либо в землю ляжем.
– Это да, – согласился забродский князь, кряхтя в могучих объятьях.
– Гляди, Путятич, не промедли. И ты, Тучка, тоже, – погрозил Борис пальцем боярам. – Мы, конные, долго без вас наверху не удержимся. Шкурята! Роланда заковали? Латы мои разложили?
И зашагал прочь, на Ингваря даже не взглянув. Ушли и забродские.
– Что Борисов замысел, Добрыня? – спросил Ингварь. – Правда, хорош?
Боярин качнул головой.
– Больно мудрен. В бою чем проще, тем лучше. Ан ладно. Как выйдет, так и выйдет. Пойдем, княже, и мы снаряжаться.
В свои доспехи, не такие тяжелые, как у брата, Ингварь обрядился быстро. Отцовская кольчуга, слишком широкая, висела и звякала. Пришлось насовать внутрь тряпья. Добрыня сказал, что так еще лучше: если сильно пущенная стрела пробьет чешую, до тела не достанет. Шлем только был тесноват – не слетел бы. Пришлось обмотаться поперек лба белой лентой.
– А вот это зря, – не одобрил Путятич. – Лучше сними. Издали видно, что князь. Лучники будут по белому целить.
Протянул Ингварь руку к ленте, но стало стыдно.
– Я и есть князь. Чего мне прятаться?
Воины лежали в траве, готовые к бою: впереди сто двадцать дружинников, которые пойдут первыми, прикрыв ополченцев, у которых ни щитов, ни кольчуг.
Поп Мавсима ходил меж рядов, махал кропилом, брызгал во все стороны святой водой.
– …А кому нынче помереть, не бойтесь, – гудел он. – За честную воинскую смерть Бог все грехи простит. На том свете лучше, чем на этом.
С кем бы попрощаться, думал Ингварь. Выходило, что не с кем. С Ириной бы, но она далеко. С воинами нельзя – нечего людей зря пугать, хватит с них протопопова увещевания.
Разве с Васильком?
Пошел назад, где в овражке, с тягловыми лошадьми, был привязан буланый.
– Прости, друже, что обижал, плеткой охаживал. Видишь, иду в бой пеший. Может, не свидимся, – сказал Ингварь, обнимая теплую конскую морду. Василько косил глазом и шумно вздыхал, будто понимал.
А больше делать было нечего. Только ждать. Очень уж долго собирался Борис. Или это время тянулось так медленно?
– Вернись к людям, – позвал сверху Добрыня. – И не кисни. Улыбайся, гляди кочетом, шутки шути. Ты – князь, на тебя смотрят.
Вот и дело нашлось. Стал ходить взад-вперед, растягивать губы до самых ушей. С шутками только не получилось – ничего такого на ум не шло. Держался всё больше около мужиков, которым, конечно, было страшней, чем дружинникам.
Говорил нескладное:
– Ничего, ничего… Вместе… Как-нибудь… Что уж, раз дошли… Надо.
Добрыня шикнул:
– Молчи лучше. Так ходи.
…Вот поодаль, с южной стороны от кургана, шагах в двухстах, выехал на пустое место огромный стальной всадник на таком же стальном коне. Поднял копье, что-то неразборчивое задорное прокричал. К нему съехались конные. Ох, немного. Отсюда посмотреть – малая кучка.
Но грянул заливистый хохот, от которого заволновались, завскидывались кони. Борис повысил голос, и теперь стали слышны слова:
– За мной, братие, клином! Я их взрежу, как нож масло!
Красиво запрокинул голову, протрубил в рог. Потом опустил забрало, тронул коня шпорами, наставил копье.
Поскакал!
Два десятка верховых пристроились сзади, словно выводок утят за уткой, но вскоре начали отставать – Роланд шел ходко, всё больше набирал скорость. Высокая сухая трава стелилась под копыта, в стороны летели черные комья земли.
– Изгото-о-овсь! – тонким (самому слышно, что неприятным) голосом завопил Ингварь. Сзади загремело железо, воины поднялись, сгрудились, но он не обернулся, смотрел лишь на поле.
Небо над атакующим отрядом почернело от крошечных черточек. Лучники метили в переднего всадника. Стрелы дробно цокали, ударяясь о панцирь коня, о латы князя – и не причиняли никакого ущерба.
Вот Борис уже начал подниматься по склону, совсем немного замедлив бег.
Вокруг Ингваря орали, колотили мечами по щитам дружинники, и сам он тоже кричал.
– Что же Юрий? – оглянулся на Добрыню. – Минута прошла, пора!
Забродская конница, сбившаяся в плотную стаю с противоположной от Бориса, северной стороны, не трогалась с места.
– Юрий не пойдет, пока наверху не начнется сеча, – ответил боярин и охнул, словно от боли. За спиной у неуязвимого всадника упал вместе с конем кто-то из дружинников – не все стрелы летели только в Бориса. – Никак Стеньшу Волошца свалили…
– Тогда давай мы! – Ингварь всё смотрел на брата, бывшего уже на середине подъема. – Пособим!
– Людей зря положим. Видишь, с нашей стороны сколько было стрелков, столько и осталось.
С кургана донесся гулкий, раскатистый звук – брякнула тетива одного из больших самострелов. Прежде они бездействовали. Ждали, пока конники приблизятся, чтобы бить наверняка.
Роланд поднялся на дыбы, на мгновение-другое застыл так, со вскинутыми копытами. Повалился на бок, подмял всадника.
– А-а-а! – прокатился по рядам горестный вопль.
– Доспех коню пробило! – выдохнул Добрыня. – Конец Борису. Сам не поднимется!
Конные дружинники мчались на помощь князю, но теперь с холма били уже не по головному всаднику, а по ним. Один кувырком полетел из седла, другой закачался, выронил меч и щит, двоих скинули раненые лошади… Остальные, так и не добравшись до Бориса, начали поворачивать обратно. Еще один упал вместе с конем. И еще. И еще.
Атака захлебнулась и рассыпалась. Уцелевшие во весь опор мчались обратно, а вслед им свистели бесчисленные стрелы. Юрий Забродский со своей полусотней стоял там же, где был.
Борис копошился на земле, пытаясь выбраться из-под коня.
– Добрыня, веди людей! Так на так пропадать! – крикнул Ингварь. – Скорее, брат гибнет!






