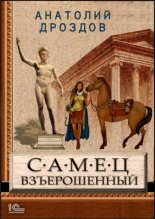Диктатор Снегов Сергей

— Плёнка меня не опровергнет. Слушай меня, а не плёнку.
Я сделал усилие, чтобы не дать вырваться негодованию. Гамов временами впадал в ярость. Нечто похожее могло произойти и со мной.
— В школах Корины есть забавный обычай, Елена. Учитель за проступок ученика может его высечь в классе, но потом должен получить у попечителя школ официальное подтверждение порки. И вот однажды учитель с огорчением сказал ученику: «Питер, я на прошлой неделе вздул тебя за нехорошие слова. Наказание не утверждено, так что можешь считать себя несеченным. Но поскольку твой проступок остаётся, то в следующий раз, когда нужно будет тебя пороть за другую вину, я добавлю к новым розгам и эти, неутвержденные, и высеку вдвойне!»
— Не понимаю, что ты хочешь этим сказать.
— Только то, что сказал. Ты безжалостно выпорола меня словами, а теперь просишь считать порку как бы не бывшей.
Она опять прижала пальцы к вискам.
— Не так, Андрей, совсем не так! Я не отрекаюсь от тех слов о ненависти. И если бы создалась та страшная ситуация, что была в тюрьме, я снова и снова повторила бы их без колебаний. Те слова были, всё так. Но тебе я их не говорила. Они были адресованы другому человеку.
— В тюрьме был один я!..
— Нет! Тебя не было! Был изменивший родине государственный деятель, был предатель, променявший честь на деньги, благородство на мечту об единоличной власти, был актёр, мастерски разыгравший комедию, гениальный фигляр в отвратительной маске. К ним, предателю и актёру, я обращала слова ненависти, не к тебе!
— На мне была маска, но под маской оставался я.
— Я видела лишь маску, а не тебя. Я забыла о тебе, такой была маска! Актёр гениально разыграл свою роль, я ненавидела того, кого он играл. Зритель негодует, когда видит злодея на сцене, но, встретив актёра на улице, он с уважением, с благодарностью за игру кланяется, а не кидается на него. Почему ты требуешь от меня другого отношения, чем актёр от зрителя? Ты разыгрывал роль преступника — и великой твоей неудачей, человеческой и государственной, было бы, если бы я не поверила. Ты не простил бы самому себе, если бы не убедил меня, что ты негодяй. Зачем же теперь укоряешь меня за то, что ты сам самозабвенно внушал мне? Я поверила твоей игре, поддалась твоему внушению! Себя вини, себя, не меня!
У неё снова перехватило дух, она замолкла. У меня не было защиты ни от её слов, ни от молящих глаз, ни от страстного голоса, вторгающегося в глубь души. Я не мог опровергнуть ни одного её слова. Я только сказал:
— Логика, Елена! Всё так стройно в словах… А чувства? А та любовь, которая связывала нас двоих в одно целое?
— Любовь, ты сказал? Ты сомневаешься в моей любви? А что ты знаешь о моих чувствах после казни? О том, как я рыдала дома, как целовала подушку, на которой лежала твоя голова, как в ярости била её кулаками, потому что это была голова предателя? О том, как я ненавидела себя за то, что любила тебя, как в неистовстве мечтала отомстить тебе, уже не существующему, за то, что ты был мне так бесконечно дорог и так осквернил моё поклонение перед тобой, самой себе отомстить, памяти нашей любви отомстить, так горько было вспоминать, что она была, наша любовь! Я думала о самоубийстве, вот так я приняла твои признания в тюрьме, твою публичную казнь. Мерой моих страданий измерь мою любовь к тебе — это единственная мера, Андрей! Всё остальное — ложь!
Она опустилась на колени, обхватила руками мои ноги, прижалась лицом к моим коленям. Я хотел оттолкнуть её, но она не разжала рук.
— А когда я увидела тебя на экране, Андрей, что было со мной, ты знаешь? Я думала, что умру от радости, что ты жив, что все эти предательства и казни лишь страшный кошмар. Я повалилась на пол и рыдала. Я целовала ковёр, как будто то был не ковёр, а ты сам, твоё лицо, твои руки. Боже мой, боже мой, как я была счастлива, как бесконечно счастлива! Как бесконечно благодарна тебе за то, что ты не совершал преступлений, что ты чист и честен, как был раньше, как был всегда, как будешь всегда, ибо иным ты и не можешь быть. А всё иное о тебе — лишь ужасный сон, наваждение злых демонов политики!
— И тогда ты раскаялась, что говорила мне при расставании те страшные слова о ненависти, ведь так? — Я ещё думал, что вымученной иронией смогу отстраниться от её признаний.
— Нет! — закричала она, вскакивая. — Не было этого! Не раскаивалась и никогда не раскаюсь! Той маске, которую я хлестала ненавистью, я говорила искренно. И рыдала от счастья я не потому, что раскаялась, а потому, что ты отделился от своей ужасной маски, что ты жив, истинный, прежний, неизменный, что я снова могу любить тебя, гордиться тобой. Гордиться собой, что выпало мне такое счастье — любить тебя, поклоняться тебе!
Она всё же не справилась с нервами. Она стояла передо мной и плакала, закрыв лицо руками. Меня терзало отчаяние. Я сам был готов зарыдать, кричать и ругаться, а ещё лучше схватиться бы с кем-нибудь в дикой драке — кулаками и зубами. Ещё никогда я так не любил Елену, как любил её сейчас. И ещё никогда между нами не было такого барьера, такой стены непонимания и ошибок. Я готов был биться головой в эту непроницаемую стену отчуждения, но голова не могла пробить её, требовались слова, только я не находил таких слов. Я был иной, чем всегда думал о себе. Я чувствовал, что если она не перестанет плакать, я сам упаду перед ней на колени и буду губами пить её слёзы, и просить прощения, и обещать всё, что она пожелает. И с ужасом понимал, что делать этого нельзя, так бы мог сделать я прежний — тот человек, каким я ныне стал и какого ещё не понимал в себе, ни ей, ни себе потом не простит такой слабости.
— Садись, Елена! — приказал я. — Не нужно противостояний. Поговорим спокойно.
— Поговорим спокойно, — покорно повторила она и села. В ней совершилась перемена. Она слишком много сил отдала борьбе с тем невидимым барьером, что останавливал меня. Она тоже чувствовала его и тоже не имела сил преодолеть. А я не знал, о чём говорить. Всё, что я мог сказать, было мало в сравнении с тем единственно важным, о чём говорила она.
Я ухватился за подвернувшуюся мысль.
— Ты хотела мне отомстить, да? Памяти моей отомстить, ибо я уже не существовал, ты думала так…
— Ах, это! — сказала она устало. — Да, хотела. Памяти о нашей любви отомстить, вот такое было желание.
— Как же ты намеревалась мстить?
— Ну, как? У женщины есть только один путь. Изменить тебе, предать тебя, как ты изменил и предал…
— Стать подругой Гамова? — спросил я прямо.
Я знал, что она лгать не умеет. Всё же какую-то минуту она колебалась, прежде чем ответить так же прямо, как спрашивал я.
— Думала и об этом. Возможно, и стала бы его подругой, если бы он проявил склонность. Но он дал понять, что я ему не нужна. Он не отделял меня от всех остальных женщин — и ко всем был одинаково равнодушен.
— Он старался ввести тебя в правительство, приблизить к себе…
— Как пешку в политической игре. Я это поняла ещё до того, как тебя казнили. Ты ревновал, я видела это. Я не разубеждала тебя, мне была приятна твоя ревность.
— Ты могла отомстить с другими мужчинами.
— Андрей! — в её голосе снова зазвенели слёзы. — У тебя есть право бичевать меня за те слова при прощании, хотя виноват в них ты сам, твой обман, твоя игра, такая игра, что и теперь — вспомню — сердце останавливается. Но зачем меня унижать? Всё же ты — это ты… Даже вымышленное тобой предательство… Оно было твоего масштаба… Да, с Гамовым я могла бы тебе изменить в те дни исступления. Он не захотел… Но других мужчин я бы сама не захотела — даже ради самой яростной мести. У меня нет дороги от тебя, Андрей. Одной навсегда остаться — да, могу. Сама уйти — нет, никогда!
Мы помолчали. Я старался не смотреть на неё. Я знал, что глаза её полны слёз и она сдерживается, чтобы они не хлынули. Видеть это было свыше моих сил. Я сказал:
— Поговорили, Елена… Чего ты хочешь?
— Хочу, чтобы ты вернулся ко мне, чтобы простил мне оскорбления, брошенные актёру в твоём облике… Вот чего я хочу! — И добавила с горечью: — А ты этого не хочешь.
— Неправда! — Дрожь сводила мне руки. — Я хочу того же, что и ты. Ты сказала: вернуться, стереть недоразумения и ошибки… Давай изменим последовательность. Подари мне время, чтобы стёрлись во мне и твои, и мои ошибки. И тогда я вернусь. В наш общий дом вернусь. Повторю твои же слова: у меня нет пути от тебя, Елена!
Она порывисто схватила руками мои плечи, поцеловала меня в щёку и молча вышла.
Я не поднялся из кресла, только смотрел ей вслед. Я был так истерзан, словно меня били палками. Вдруг засветился экран. На экране возник Павел — он хмуро всматривался в меня. Я ничего ему не сказал, он ничего не спросил. Экран погас.
9
Гамов созвал Ядро. Проблем накопилось много, одна требовала немедленного решения. Флория волновалась. Недавно в ней с восторгом встретили армию Вакселя, а наших отступавших солдат кое-где исподтишка импульсировали. Пеано требовал от тыловых властей свободных дорог для войск, в мятежной Флории, крае болотистом и лесистом, обеспечить надёжность было непросто.
— Прищепа, докладывайте обстановку у флоров, — предложил я.
Доклад не утешал. Флоры никогда не дружили с латанами, ещё меньше приязни они испытывают к патинам. Этот замкнутый народец ревниво дорожит своей особостью, с презрением отвергает всё чужое. Хмурые флоры незаурядны — талантливые поэты, художники, архитекторы, в последние годы появились неплохие учёные и инженеры, в воинской храбрости тоже не из последних. Но все достоинства флоров стираются перед их нетерпимостью к другим нациям, несовместимостью с теми, кто волей истории внедрился в поры их общества. Раньше это были патины — и распри доходили до войны. Сейчас это латаны — и вражда перенесена на них. Маруцзян пытался ослабить недовольство флоров большими подачками из государственного бюджета. Доход флоров мизерен, земля скудна и её не хватает, нет своего угля, нефти, газов, металлических руд, хлопка и прочего. Только трудолюбие флоров поддерживает их существование, но до бюджетных подачек Маруцзяна скудость была типична — деревянные лачуги, cвечи, примитивные орудия труда, примитивные больницы, кустарные мастерские. Сейчас Флория, пожалуй, самый благоустроенный регион страны, но доброты к латанам государственная щедрость не добавила, даже наоборот. Раньше они просто недолюбливали латанов, сейчас исполнены к ним пренебрежения — вот, мол, как мы живём, а как вы живёте? Ибо мы не чета вам! Не благодарность, а высокомерие — такие черты порождены у флоров щедротами Маруцзяна. Возможны нападения на дороги, диверсии в городах. Во Флорию нужно ввести охранные войска, чтобы сохранить спокойствие.
— Флоры — самая малочисленная народность в государстве, — сказал Аркадий Гонсалес. — Почему бы нам не переселить их всех куда-нибудь вглубь, а сюда передвинуть верное население? А после войны разрешить возвращение на родные глины и пески.
— Побойтесь бога, Гонсалес, если не истории, которая вам не простит такого самоуправства. Вы не боитесь? — воскликнул Пустовойт. — Выселять целый народ! И без серьёзных причин!
— А что к нам недоброжелательны, это не причина?
— У меня к вам тоже нет доброжелательства, Гонсалес. Достаточно, чтобы вы меня арестовали и выслали?
— Вы восстания не поднимаете, министр Милосердия. А они могут разжечь восстание.
— Могут сделать — не значит — «сделают». Ежели бы да кабы, да во рту бы росли грибы… Охранные войска защитят дороги, это их работа. А если прохожие бросают на наших солдат недружественные взгляды — переживём. Возражаю против переселения флоров.
Слово взял я.
— Недобрые взгляды не страшны, вы правы, Пустовойт. Но в них историческая несправедливость. И она беспокоит меня не меньше, чем спокойствие на коммуникациях. Ведь мы ведём эту войну во имя восстановления справедливости во всём человечестве. Мы объявили себя гонителями неправды, карателями зла, всемирными рыцарями справедливости. Я верно толкую вашу политическую программу, диктатор?
— Хорошая формула — рыцарь справедливости. — Гамов с интересом ждал продолжения.
А я говорил о том, что не только отдельные люди эксплуатируют чужой труд и талант, приписывают себе чужие успехи и находки, но и целые народы не чужды такого захватничества. И если между людьми единственная мера справедливости — оценивать каждого по его заслугам, то и для государств нужно внедрить этот принцип: каждый стоит того, чего он реально стоит. Сами флоры должны установить для себя, что они заслуживают реально, а что приписывают себе из бахвальства и высокомерия.
Готлиб Бар не удержался от насмешки:
— Ценник подвигов на войне уже ввели, ценник преступлений используем в судах, теперь введём ценник стоимости народов и государств. Я правильно понял, Семипалов?
— Совершенно правильно, — опроверг я его иронию. — Я предлагаю предоставить Флории быть полностью самой собой.
Джон Вудворт высоко поднял брови.
— Предоставить Флории государственную независимость?
— Именно это — вывести Флорию из состава нашего государства.
— Навеки потерять Флорию?
— Не навеки, а на то время, какое понадобится флорам, чтобы понять, что их высокомерие держится на даровой помощи всего государства. На время, за какое они сумеют разобраться в своей реальной величине. А для этого Флории предоставляется независимость и нейтралитет в схватке мировых держав. Зато всё, что флоры захотят приобрести вне своих границ, они должны оплачивать своими товарами. Так как их окружаем мы и Патина, в которой наши войска, то практически только мы сможем продать им всё, в чём они нуждаются, — уголь, нефть, металлы, шерсть, хлопок, лес, энерговоду для электростанций, даже хлеб, ибо его у них не хватает. Цены на их и наши товары установим на уровне среднемировых. И если Флория не впадёт быстро в прежнюю бедность, если все в ней не поймут, что высокомерие их создаётся не собственным их преимуществом перед нами, а нашим доброхотством, то, значит, я ничего не понимаю в политике. Они запросятся обратно в нашу государственную семью, уверен в этом.
— Во Флории проживает много латанов, — сказал Пустовойт. — Флоры захотят выместить на них падение своего благосостояния.
— Согласен — захотят выместить… Что ж, предложим латанам срочно покинуть Флорию. И наоборот, всех флоров из других регионов страны вернём на родину. И выдадим компенсацию за оставленное имущество: при переселении продемонстрируем щедрость и благородство. Тем унизительней будет отрезвление для этого небольшого, но зазнавшегося народа. — Я повернулся к Гамову. — Диктатор, я заговорил вашими словами — высокомерие наказывается унижением, а не арестами, тем более не казнями, а казней не избежать, если мы останемся во Флории и произойдут диверсии на магистралях. Флория невелика, военные маршруты проложим в обход её.
— Хороший план, Семипалов! — сказал Гамов. — Ваше мнение, Вудворт?
— Я подчиняюсь, — сухо ответил министр внешних сношений. Все согласились, что изоляцию Флории надо ввести без промедления, а для того выпустить манифест, честно объясняющий, почему возникла необходимость в таких переменах.
— В освобождённой Патине чертовски сложное положение, — так начал своё новое сообщение Павел Прищепа. — Страна расколота на враждующие группы. Вилькомир Торба, лидер максималистов, в бегах, ещё не разыскан. Усилилась партия оптиматов, из друзей нашего Константина Фагусты. Взаимная борьба, уличные схватки, речи, речи, речи… Одновременно пустые магазины и остановившиеся заводы. В нынешней Патине есть один хозяин — слово. Гневное, воинственное, безумное, рычащее, свистящее — на улицах, в комнатах, в бывших концертных залах, на все вкусы и все чувства. Но точного смысла не установить. У самых опытных разведчиков заходит ум за разум. Слова заменяют мысли, а не выражают их.
— Но ведь есть же у враждующих максималистов и оптиматов программа. У нас Фагуста очень отличался от Маруцзяна.
— Программа персонифицируется в лицах, а не в идеях. Одни орут: «Да здравствует Торба!», а другие: «Слава Понсию Маркварду!», третьи: «Люда Милошевская — наша мать!» Мои люди часто спрашивают, а к чему призывают, скажем, Понсий Марквард или Вилькомир Торба? Их сторонники отвечают: «Чтобы было хорошо, вот к чему зовут!», а противники столь же однозначно ревут: «К чёрту их, дерьмо — вот их программа!»
— Вилькомира мы знаем, он нам крови попортил. А кто такие Марквард и Милошевская? Ориентироваться на этих двух, как на врагов нашего врага?
— Марквард и Милошевская нам ещё больше крови попортят. Надо ориентироваться на себя, а всех остальных терпеть, а не поддерживать.
— Плохая программа, полковник Прищепа! Хоть Патина и завоёванная страна, но война ещё продолжается. Без искренней поддержки будет трудно.
Павел только пожал плечами.
— Милошевскую называют матерью. Она старуха? — спросил Гамов.
— Молодая женщина, и красоты иконной! Пианистка — и выдающаяся. Но характера — на дюжину злых старух. Когда она выступает на митинге, вражеские ораторы потихоньку сбегают: вдруг покажет на кого пальцем — ведь накинутся!
— Будем разбираться на месте, — сказал Гамов. — Мне, Семипалову, Прищепе, Исиро надо появиться в Лайне, столице Патины. Хорошо бы прихватить с собой и Константина Фагусту. Его связи с оптиматами Патины будут полезны.
— Едем завтра, — сказал я.
В Лайну мы прибыли в полдень. Всё утро ехали по местам, где некогда попали в окружение и откуда с такими муками вырывались. Но я почти не узнавал этих мест, хотя думал, что никогда их не забуду. Уже после нас по этим холмам и равнинам прополз миллионолапый, тысячеголовый дракон большой войны — и всё перемешал, перекорёжил, повалил и вздыбил. Только Барту я узнал, тот крутой бережок, где смонтировал свои тяжёлые электроорудия — остатки брустверов промелькнули в окне вагона. Но воспоминание, даже воскрешённое в своей яркости, показалось мне сценой из иного мира и иной жизни. «Быстро старишься!» — вслух сказал я себе.
В гостинице мой номер был рядом с номером Гамова. Я зашёл к нему. У Гамова сидел Прищепа.
— Вечером заседание с оптиматами, — сказал Прищепа. — Исиро готовит экран на главной площади, чтобы транслировать переговоры на толпу. На площади уже собираются.
— Митингуют? — Гамов насмешливо улыбнулся.
— Ждут нашего слова. Народ шебутной, но, в общем, умный. Понимают, что реальное дело делаем мы.
По дороге в зал заседаний меня перехватил Фагуста. Он кривил лицо и страшно потрясал чудовищной шевелюрой.
— Поздравляю, Семипалов! — выпалил он. — Исиро передал мне возмутительный манифест относительно Флории. Подписан Гамовым и Вудвортом, но, сказал Исиро, это увесистое полено вашей рубки.
Я холодно отпарировал:
— Полено? Моей рубки? Может, объяснитесь по-человечески?
— Не смешите, Семипалов! Разве можно по-человечески объяснить нечеловеческие поступки? Раньше вы наказывали отдельных людей, теперь караете целые народы. Разрешите полюбопытствовать, заместитель диктатора: когда вы приметесь за всё человечество? Стоит ли тратить карательное вдохновение на крохотных людишек и маленькие народы, когда можно сразу жахнуть по всем головам в мире? Подумайте об этом!
— Благодарю за добрый совет, Фагуста. Но замечу, что вы потеряли так свойственную вам раньше проницательность. Мы уже давно идём походом на человечество. В смысле — воюем против многих отвратительных черт, свойственных всем людям, вам в особенности. Пожелайте нам успеха и в этой благородной войне.
— Я не такой дурак, чтобы торопить собственные похороны. Вы очень изменились после возникновения из недолгого небытия, Семипалов.
— Даже кратковременная казнь делает человека иным. Вы не проверяли это, Фагуста?
— К счастью, меня ещё не казнили! — буркнул он и отстал.
В зале заседания уже находились Прищепа и Пимен Георгиу, он тоже приехал в Патину. В зале стояли два стола, длинный и покороче. У короткого стола — его предназначали для Гамова — солдаты, среди них охранник Гамова Семён Сербин и бывший мой охранник Григорий Варелла. Варелла широко улыбнулся мне большим — на пол-лица — ртом, Сербин отвернулся — этот человек меня почему-то ненавидел, впрочем, и я его не выносил. На столе Гамова были смонтированы два экранчика, пульт с какими-то кнопками, другой пульт с лампочками. Я уселся рядом с Павлом за длинный стол. С другой стороны Павла разместился Пимен Георгиу — сжал старческое, преждевременно износившееся личико в умильный комочек и не отрывал мутновато-бесцветных глазок от разложенного на столе широкого блокнота. В зал вошёл Фагуста, направился к нам, но увидел, что придётся сидеть рядом с Георгиу, обошёл его и уселся рядом со мной. Пимена Георгиу он не терпел ещё больше, чем меня.
Появились оптиматы — Понсий Марквард и Людмила Милошевская, а с ними Омар Исиро. Наш министр информации в этот день взвалил на себя ещё и функции распорядителя торжества: указал оптиматам их места, даже отодвинул каждому стул — наверно, чтобы кто из своих не уселся на чужое место. Понсий, высокий, тощий, прямой — палку проглотил, — с массивным носом, мощным ртом и крохотными глазками без цвета и света, пропадавшими где-то в колодце глазниц, уселся напротив Павла. Я шепнул Павлу:
— Не рот, а пропасть. Из такой ямины могут исторгаться только громовые звуки.
— Ты недалёк от истины, — прошептал Павел и засмеялся.
Напротив меня села Милошевская. О ней я должен поговорить особо. Собственно, достаточно сказать о ней главное, и всё остальное окажется следствием. Главным в Людмиле Милошевской было то, что она необыкновенно красива. В этой оценке важно, что она красива и что красота эта необыкновенна. Если я скажу, что ещё никогда в своей жизни — ни в личных знакомствах, ни на экранах стерео — ещё не встречал столь красивых женщин, то это будет правдой, но не всей, только половинкой её. А полную правду составит то, что красота Милошевской была демонической. Ещё не разглядев её лица, только уловив, как она двигается, я уловил необычайность. Она была высока, стройна, линии её фигуры, вероятно, восхитили бы художника, пишущего красавиц. Такие женщины не просто ходят, а шествуют, величаво передвигают тело, выпрямив торс, отбросив изысканно голову над линией округлых плеч — каждого как бы приглашают полюбоваться собой: я хороша, не правда ли? А она вошла быстро, по-мужски протопала к столу и бесцеремонно отстранила шагавшего впереди Понсия Маркварда, тот даже качнулся, но не обернулся, видимо, привык к поведению своего коллеги по руководству оптиматами. Женщины, я уверен в этом, всегда знают, как выглядят, эта не думала о своём облике. Наверно, ей никогда не приходила в голову такая вздорная мысль — нравиться. И от этого одного она не могла не нравиться.
Я взглянул на её лицо и почувствовал, что мне хочется любоваться им. Всё было противоречиво в прекрасном лице — глубокие тёмные глаза не вязались с лохматой щетиной рыжих ресниц, слишком длинных, чтобы их счесть парикмахерской поделкой; на висках локоны путались с золотистой шёрсткой — ещё бы немного им быть подлинней, и можно сказать: «Женщина с бакенбардами»; такая же золотая поросль покрывала верхнюю губу, отчёркивая яркую малиновость — и тоже природную, а не парфюмерную — самих губ. Все стандарты женской красоты отвергало это лицо, таково было второе значение облика Людмилы Милошевской. Сказать только об отдельных чертах этого лица — значило признать, что оно чуть ли не уродливо. А всмотревшись, каждый видел лицо не просто красивое — прекрасное!
— Вам она нравится? — вдруг тихо спросил Фагуста.
— Не знаю, — честно признался я. — Пока скажу одно — поражён.
— Вот, вот — поражает, — хмуро проговорил Фагуста. — Внешность по характеру. Сколько я с ней натерпелся, когда приехала в Адан поднимать меня на восстание против Маруцзяна.
— Вы всё же не подняли восстания, несмотря на её чары.
— Подняли вы — и независимо от её чар. Я не сторонник восстаний. Даже против вас не разжигаю бунта, хотя временами — ох, надо! Я ведь оптимат, то есть ищу оптимальных, а не радикальных решений.
— Очень жаль.
— Чего жаль? Что не поднимаю бунта против вашей диктатуры?
— Именно это. Запалили бы вы бунт, засадили бы мы вас в тюрьму — и точка с вами! Пока же приходится читать ваши ядовитые статьи. От любой схватывает желудок.
Фагуста сказал очень серьёзно:
— Когда прохватит несварение мозгов, буду считать свою задачу выполненной.
Понсий Марквард, усевшись, запрокинул голову и упёрся глазами в лепной карниз над нашими головами, как бы показывая, что не собирается удостаивать нас вниманием. Мы четверо — я, Прищепа, Фагуста и Георгиу — его не интересовали. Он ждал Гамова. Мы лишь пешки в руках диктатора, он будет беседовать с ним, вот так говорила нам его надменная замкнутость. Только с Омаром Исиро он перекинулся несколькими словами — так хозяин иногда удостаивает слугу требованием справки и пустячного разъяснения.
Зато Милошевская внимательно оглядела нас всех. Она начала с конца, где сидел Пимен Георгиу — ничего не выражающий, равнодушный взгляд. На Павла она поглядела внимательней, знала, кто он в правительстве, — буду, буду с тобой считаться, вот так она сказала взглядом. А со мной она сразилась глазами. Не знаю, что выражало моё лицо, могло ли вообще что-либо выражать, я никогда не изучал себя в зеркале. Но Милошевская что-то увидела и вспыхнула. У неё озарились щёки, гневно блеснули глаза. Уверен, если бы в это мгновение можно было провести рукой по её голове, то ладонь обожгло бы снопом вылетевших электрических искр. И глазами, и всей охватившей её ощетиненностью она донесла до меня безмолвную информацию: «Ты враг, я это вижу, но погоди, я ещё с тобой поговорю!» Закончив молчаливую схватку со мной, она посмотрела на Фагусту и успокоила взгляд и лицо — глаза приугасли, а гневный румянец на щеках потускнел.
— И вы здесь, Фагуста? — сказала она мелодичным голосом — что-то вроде нежной мелодии кларнета при гуле отдалённых колоколов. — Пошли в слуги к новым господам, Константин? Верой и правдой?
— Как я служу новым господам моей страны, можете спросить у них, Людмила, — спокойно отразил её выпад Фагуста. — Особенно восхищён моей деятельностью заместитель диктатора генерал Семипалов. Он охотно расскажет о своём благорасположении ко мне.
Она снова перевела глаза на меня, сейчас во взгляде было сомнение — уловила иронию Фагусты. В зал вошёл Гамов и уселся за свой отдельный стол. Охранники отступили назад.
— Начнём обсуждение, — сказал Гамов. — Вы, друзья оптиматы, потребовали передать вам всю внутреннюю власть в стране. Вы согласны возобновить союз с Латанией, разорванный вашим бывшим президентом Вилькомиром Торбой. Вы предлагаете провести новую мобилизацию и сформировать для нас армию из трёх корпусов. Ваши предложения очень ценны, конечно, но, между прочим, мы можем претворить их в жизнь и без вас — приказами нашего командования. Зачем же нам делать ставку на вашу партию в раздираемой партийными распрями стране? Я хотел бы получить объяснение. Кто будет говорить?
Говорить пожелал Понсий Марквард. Он по-прежнему ни на кого из нас не обращал внимания, но смотрел уже не на лепной карниз, а на Гамова. Голоса не всегда отвечают облику, у Понсия Маркварда он отвечал — такой же надменный, замедленный, скрипучий, как будто в горле сидела палка и поскрипывала, когда он разевал рот. Со стороны могло показаться, что лидер оптиматов Патины отчитывает за что-то Гамова и предупреждает, что надо вести себя лучше. Выговоров не было, но предупреждение прозвучало. В Патине они, оптиматы, единственная реальная сила, и оккупационные власти жестоко просчитаются, если не учтут это. Он протягивает руку союза, берите эту дружескую руку.
Гамов с любопытством глядел на лидера оптиматов.
— Понсий, а как вы отнесётесь, если вдруг появится Вилькомир Торба, лидер ваших максималистов, и тоже предложит нам союз?
Понсий Марквард покривился, будто ему в рот попала муха.
— Он уже был с вами в союзе и изменил вам. Я решительно предостерегаю вас от неумного союза с эти ничтожеством.
— Неумного? Неумные действия нехороши, вы правы. Но всё-таки… Вдруг он объявится и попросит прощения? Как нам быть тогда?
— Немедленно арестовать! — резко бросила Милошевская.
— Арестуем. А дальше?
— Передать в наши руки! — отрубила она с решительностью, какую не всякий мужчина способен показать.
— Передадим. А дальше?
— Повесим его! — Понсий Марквард был ещё категоричней. Дальше разговор пошёл почти исключительно с ним, Милошевская только слушала, лишь гневными вспышками глаз поддерживая его требования.
— Хорошо — повесите… Попросите услуг нашего Чёрного суда?
— Судей, которые умеют выносить смертные приговоры, и у нас хватает. Намыленная петля давно тоскует по шее Торбы. Его надо было повесить лет пятнадцать назад, когда он только начинал свою карьеру. Это был бы дельный политический акт.
— Почему же не повесили его, раз была такая потребность?
Понсий Марквард раздражался — худые щёки побагровели, грохот в голосе стал басовитей.
— Меня удивляют ваши вопросы, диктатор! Чтобы повесить Торбу, надо было иметь власть. А ведь власть была у него.
— Между прочим, имея власть, он вас не вешал. Впрочем, это несущественно. Итак, чтобы вешать противников, нужно иметь власть. Но власти и сейчас у вас нет.
— Вы нам её вручите — значит, будем иметь. Это же просто!
— Очень просто! Раз передадим вам власть, значит, будете её иметь. Безупречное рассуждение! Итак, повесите Торбу, но предварительно надо доказать его вину. Какие преступления за ним числите?
— Многие, диктатор.
— Я бы хотел конкретней…
— Я же объяснил — многие. Расшифровываю: очень многие! А точный список его вин установит суд. Судей мы выберем квалифицированных.
— Вообразите себе такую ситуацию, Понсий Марквард. Вилькомир Торба на суде разнесёт в щепы все возведённые на него обвинения.
— И воображать не буду. Ненавижу воображение. Мы реальные политики. Если Торбу найдут, его повесят. Вам придётся с этим примириться.
— Что же, если уж придётся… Никто не хочет задать вопросы вождю оптиматов Понсию Маркварду?
Вопросы хотел задать я. Понсию Маркварду пришлось повернуться ко мне. Он сделал поворот с вызывающим недовольством.
— Где вы были, Марквард, когда Торба изменил нам, а Ваксель победным маршем продвигался по Патине?
— Меня допрашивают? Я думал, мы как равнозначные политики…
— Всё же я хотел бы получить ясный ответ.
Марквард возмущённо обернулся к Гамову. Гамов ласково сказал:
— Понсий, у нас задают любые вопросы и получают точные ответы.
Марквард с усилием сдерживал негодование.
— Семипалов, вы и сами понимаете, где я мог быть. Скрывался от ищеек Торбы и военных шпионов Вакселя.
— Зачем вы это делали, Марквард?
— И это вы знаете не хуже меня. Чтобы меня не схватили!
— Вы так боялись Торбы и солдат Вакселя?
— Солдат Вакселя вы тоже боялись и отступали перед ними.
— Зато потом разбили их. Сейчас свободно ходим по вашей стране.
— Я тоже свободно хожу по своей стране, генерал!
— Да, выползли из норы, где бесславно прятались.
Милошевская закричала:
— Протестую, диктатор! Генерал Семипалов переходит все границы!
— Согласен и с вами, как раньше соглашался с вашим другом Понсием, что обсуждение становится недопустимым, — вежливо произнёс Гамов. Если бы Милошевская лучше знала Гамова, она бы испугалась его грозной вежливости. — Разрешите задать и вам тот же вопрос, Людмила: и вы хотите повесить Вилькомира Торбу, если он попадёт вам в руки?
— Раньше надо его поймать, диктатор. Пока же ваша прославленная разведка…
— Отвечайте прямо! Допустим, случилось так, что Торба у вас в руках. Повесите вы его своими руками?
— Почему своими? Я пианистка, мои руки играют на клавишах рояля, а не свивают петли… Но за смертный приговор проголосую. Надо же решить в конце концов эту проклятую проблему, которая называется вождём максималистов Вилькомиром…
Гамов опять прервал её:
— С вами ясно. Полковник Прищепа, у вас всё в порядке?
— Конечно! Нажмите правую крайнюю кнопку на втором пульте.
Гамов поискал глазами нужную кнопку и нажал её. В зал вошли два конвоира, между ними двигался Вилькомир Торба. Я часто видел портреты президента Патины. У меня в памяти отложился образ импозантного, невысокого мужчины средних лет — холёное лицо, безукоризненный костюм, обаятельные манеры, хорошо поставленный — с шепелявинкой и грассинкой — голос. В общем, президент отлично исполненного образца. А в зал вошёл бродяга — небритый, исхудавший, в грязной одежде… Гамов приподнялся и вежливо проговорил:
— Приветствую вас, президент! Как вы чувствуете себя?
Вилькомир Торба дико озирался. Гамова он, похоже, узнал сразу — по портретам, естественно, — на меня и Прищепу поглядел с недоумением, а при взгляде на Маркварда и Милошевскую глаза его вспыхнули. Проигнорировав Гамова, он обратился прямо к ним:
— И вы здесь, голубчики? Думаете, что на коне? Далеко не ускачете, не дадут. А дадут, сами свалитесь в грязь. Вы, глупцы, не понимаете: ваше счастье всегда было в том, что вам не давали власти. — Только после такого выпада против своих политических противников он счёл возможным обратить внимание на нас: — Вы, вижу, Гамов — победитель кортезов и диктатор Латании? А свита на той стороне стола — ваши помощники? Отвечаю на ваш вопрос: чувствую себя отвратительно. Какие ещё вопросы? Задавайте скорей, пока не потерял сознания — третий день ничего не ем, второй день ничего не пью.
— В таком случае, вам надо подкрепиться, Торба, — участливо сказал Гамов. — Не хотите ли чаю и печенья?
— А также пива и колбасы, если не поскупитесь кормить узника.
Исиро что-то сказал одному из солдат, солдат ушёл. Исиро пододвинул президенту стул около Милошевской, Торба с громким вздохом облегчения опустился на него и вытянул ноги. Милошевская с возмущением отвернулась. Тот же солдат вошёл с подносом, на подносе стояла бутылка пива, колбаса, чай и печенье. Торба жадно осушил стакан пива и накинулся на колбасу. Мы молча смотрели, с какой энергией он поглощает еду. Павел с улыбкой прошептал мне:
— Интересный тип. Он ещё устроит нам спектакль.
Я догадывался, что спектакль уже начался, но не тот, какой бы мог устроить президент. Сценой руководил более опытный режиссёр. Торба опорожнил второй стакан, с сожалением повертел в руке пустую бутылку и сказал — голос, вначале хриплый, от еды и питья посвежел:
— Отличное пойло! Не думал, Гамов, что ваши министры способны так улучшить напитки. Моему сердечному другу Артуру Маруцзяну промышленность не удавалась. Впрочем, война удалась ещё меньше. Нельзя ли ещё пива?
— Нельзя. Вы опьянеете. А предстоит выяснять отношения с лидерами оптиматов. Да и с нами тоже.
Вилькомир Торба пренебрежительно махнул рукой.
— Какие отношения? Всё ясно без болтовни. Я бы их высек, если бы вернулся к власти. Они меня повесят, если вы дадите власть им. А вы со мной поступите, как пожелает ваша левая нога. Или правая? Не знаю пока, какая из ваших ног командная, хотя в подвале, где так долго прятался, предавался философским рассуждениям на тему ваших директивных ног. Но если пива нельзя, то можно ещё колбасы и чая?
Гамов засмеялся.
— Колбасы с чаем можно. И вы так заразительно жуёте, что и у меня разыгрался аппетит. Исиро, нельзя ли нам всем чаю с закуской? Перед трудным разговором неплохо подкрепиться.
Понсий Марквард поднялся. Его серое лицо побагровело от прилившей крови, в глубине глазниц зажглись злые огни.
— Диктатор, это нетерпимо! Объявляю вам торжественно, что с Вилькомиром Торбой я даже в некоем месте рядом не сяду, а вы заставляете нас вместе сидеть за столом.
Гамов кивнул, не стирая улыбки.
— В том месте нужно сидеть в одиночку, вы правы. Но поговорить придётся вместе. У меня нет времени беседовать с каждым особо. А за чаем — чего лучше? Учтите мои затруднения, Марквард, и держитесь спокойно.
Солдаты обносили нас чаем, каждый брал свой поднос. Понсий Марквард с отвращением отодвинул поднос на середину стола. Милошевская не отодвинула, но откинулась на спинку стула, она лучше Понсия поняла обстановку. Я заметил, что она дотронулась рукой до плеча Понсия, тот даже не обернулся — так внутренне кипел, что боялся выплеснуть ярость при любом движении.
Гамов ел почти с таким же аппетитом, как и Вилькомир Торба. Константин Фагуста в очередной раз продемонстрировал, что способен есть где угодно, что угодно и сколько дадут. Мы с Павлом выпили по стакану чая.
— Хорошо! — сказал Торба. — Мало, конечно, да ведь даровое. В том проклятом подвале, где я больше суток простоял на ногах между стояками отопления, я уже не надеялся, что когда-нибудь вкушу колбасы и печенья, да ещё с горячим чаем. Совершенно отчаялся.
— Отчаялись?
— А что ещё оставалось, кроме отчаяния? Уверен был, что вы уже передали власть остолопам оптиматам, а их солдаты отыщут меня и мигом прихлопнут. Ваших солдат я боялся меньше. Вы любите эффекты, а не только эффективность, даже глупые эффекты, лишь бы выглядели красочно.
— Какого же красочного эффекта вы ожидаете от меня? И даже заранее объявляете его глупым.
— А каким его объявлять? Предадите меня Чёрному суду, глупейшему учреждению, доложу вам, суд объявит меня изменником, что ещё глупее, а палачи бросят в яму с нечистотами, ваш любимый способ расправы, а что в нём умного? Вам так нравятся запахи выгребных ям, что вы неспособны отказать себе в таком удовольствии.
Понсий Марквард вообразил, что теперь можно без опасений взорваться.
— Вы слышите, диктатор? Этот негодяй осмеливается нападать на вас лично. Я настаиваю — немедленно в тюрьму его, а не угощать пивом и колбасой! А завтра пусть суд поставит последнюю точку в карьере этого…
— Садитесь! — приказал Гамов Маркварду. Не сомневаюсь, что злые насмешки Торбы больно задели Гамова, но он вёл свою линию, в ней было место и для издевательств над собой. А мне Вилькомир Торба начал нравиться. Этот человек не праздновал труса. Он понял, что расправы не избежать, и мольбами не отделывался от гибели, а в последний раз постарался ублажить тело и дух: вкусно поел, громко поиронизировал над своими врагами. — Садитесь, Марквард! Обсуждение продолжается. — Понсий сел. Гамов продолжал: — Насколько слышу, Торба, любимым вашим аргументом против противников является обвинение в глупости. Очень обидное обвинение. В политике глупость горше преступления. Начнём с меня и моих товарищей. В чём вы открыли нашу политическую глупость?
— Философских проблем вашей политики сейчас касаться не буду… А конкретно — в отношении ко мне. Объявили розыск, заставили прятаться чёрт знает где, собираетесь отдать меня в руки моих врагов либо в жуткие когти ваших гонсалесов… Чем не глупость?
— А чем глупость? Вы изменник…
— Вот это и есть глупость — считать, что я изменник. Кому я изменил? Собственному народу изменил? Даже такой олигофрен, как мой уважаемый оппонент Понсий Марквард, не обвинит меня в измене народу, на это и его глупости не хватит. Он скажет то, что уже тысячекратно твердил, — что его программа лучше. Что она отвечает воле большинства, что я опираюсь на меньшинство — интеллигенцию, всяких там художников, изобретателей… А я отвечу, что народ голосует всегда за меня, а не за него. Видеть что-либо другое в наших с ним взаимоотношениях — это и есть глупость.
— Вы изменили союзу Патины и Латании, хотя сами же спровоцировали войну с Ламарией и Родером, а за ними и с Кортезией.
— Правильно, спровоцировал. Патина нуждалась в возвращении западных земель, населённых патинами, а не ламарами. Это вековечная мечта нашего народа. Я выразил волю народа, а не изменил ей. Меня тогда поддержали и Марквард, и Милошевская. Нет здесь измены, диктатор.
— А то, что вы перешли к кортезам, ударили в спину нашей армии? Не забывайте, что я командовал корпусом, который по вашей вине оказался во вражеском окружении и потом с тяжёлыми боями прорывался к своим.
— Гамов! Давайте рассуждать честно. Я изменил тем, с кем подписал договор о союзе, — президенту Латании Артуру Маруцзяну и маршалу Антону Комлину. Изменил потому, что они оказались в военном смысле бездарностями, вели к гибели и мою родину, и свою страну. Сохранять союз с такими типами было больше чем глупостью! Именно потому, что я не изменник, я изменил союзу с Маруцзяном. И в этом качестве оказался не один. Нашлись у меня умные и бесстрашные последователи, они повторили моё решение.
— Кто они, эти ваши последователи?
— Вы, диктатор! Вы и ваши друзья. Именно вы изменили Маруцзяну. И не только изменили своему правительству, но и посадили его в тюрьму.
Впервые в этой дискуссии Гамов сразу не подыскал ответа. Торба спокойно продолжал: