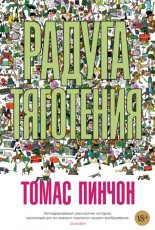Спящие красавицы Кинг Стивен

Stephen King
Owen King
SLEEPING BEAUTIES
Серия «Темная башня»
Печатается с разрешения автора и литературных агентств The Lotts Agency и Andrew Nurnberg.
© Stephen King and Owen King, 2017
© Перевод. В. А. Вебер, 2018
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018
Посвящается Сандре Блэнд[1]
Персонажи
Труман Мейвезер по прозвищу Трум, 26 лет, варщик метамфетамина
Тиффани Джонс, 28 лет, кузина Трумана
Линни Марс, 40 лет, диспетчер управления шерифа Дулинга
Шериф Лайла Норкросс, 45 лет, начальник управления шерифа Дулинга
Джаред Норкросс, 16 лет, ученик одиннадцатого класса средней школы Дулинга, сын Лайлы и Клинта Норкроссов
Антон Дубчек, 26 лет, владелец и сотрудник компании «Уборка бассейнов от Антона», КОО[2]
Магда Дубчек, 56 лет, мать Антона
Фрэнк Джиэри, 38 лет, сотрудник службы по контролю за бездомными животными муниципалитета Дулинга
Элейн Джиэри, 35 лет, волонтер благотворительной организации «Гудвилл» и жена Фрэнка
Нана Джиэри, 12 лет, ученица шестого класса средней школы Дулинга
Старая Эсси, 60 лет, бездомная
Терри Кумбс, 45 лет, сотрудник управления шерифа Дулинга
Рита Кумбс, 42 года, жена Терри
Роджер Элуэй, 28 лет, сотрудник управления шерифа Дулинга
Джессика Элуэй, 28 лет, жена Роджера
Платина Элуэй, 8 месяцев, дочь Роджера и Джессики
Рид Барроуз, 31 год, сотрудник управления шерифа Дулинга
Леанна Барроуз, 32 года, жена Рида
Гэри Барроуз, 2 года, сын Рида и Леанны
Дрю Т. Бэрри, 42 года, владелец страховой компании «Гарантия Дрю Т. Бэрри»
Верн Рэнгл, 48 лет, сотрудник управления шерифа Дулинга
Элмор Перл, 38 лет, сотрудник управления шерифа Дулинга
Рьюп Уиттсток, 26 лет, сотрудник управления шерифа Дулинга
Уилл Уиттсток, 27 лет, сотрудник управления шерифа Дулинга
Дэн Трит по прозвищу Тритер, 27 лет, сотрудник управления шерифа Дулинга
Джек Албертсон, 61 год, сотрудник управления шерифа Дулинга (на пенсии)
Мик Наполитано, 58 лет, сотрудник управления шерифа Дулинга (на пенсии)
Нейт Макги, 60 лет, сотрудник управления шерифа Дулинга (на пенсии)
Карсон Стратерс по прозвищу Окружной Силач, 32 года, в прошлом участник турнира «Золотые перчатки»
Тренер Джей-Ти Уиттсток, 64 года, тренер футбольной команды средней школы Дулинга
Доктор Гарт Фликинджер, 52 года, пластический хирург
Фриц Мишем, 37 лет, механик
Барри Холден, 47 лет, государственный защитник
Оскар Сильвер, 83 года, судья
Мэри Пак, 16 лет, ученица одиннадцатого класса средней школы Дулинга
Эрик Бласс, 17 лет, ученик выпускного класса средней школы Дулинга
Курт Маклеод, 17 лет, ученик выпускного класса средней школы Дулинга
Кент Дейли, 17 лет, ученик выпускного класса средней школы Дулинга
Уилли Бурк, 75 лет, волонтер
Дороти Харпер, 80 лет, на пенсии
Маргарет О’Доннелл, 72 года, сестра Гейл, на пенсии
Гейл Коллинз, 68 лет, сестра Маргарет, регистратор дантиста
Миссис Рэнсом, 77 лет, пекарь
Молли Рэнсом, 10 лет, внучка миссис Рэнсом
Джонни Ли Кронски, 41 год, частный детектив
Джейми Хауленд, 44 года, профессор истории
Иви Блэк, примерно 30 лет, приезжая
Джейнис Коутс, 57 лет, начальник женской тюрьмы Дулинга
Лоренс Хикс по прозвищу Лор, 50 лет, заместитель начальника женской тюрьмы Дулинга
Рэнд Куигли, 30 лет, дежурный женской тюрьмы Дулинга
Ванесса Лэмпли, 42 года, дежурная женской тюрьмы Дулинга, в 2010–11 гг. – чемпионка по армрестлингу Огайо-Вэлли в возрастной категории 35–45 лет
Милли Олсон, 29 лет, дежурная женской тюрьмы Дулинга
Дон Питерс, 35 лет, дежурный женской тюрьмы Дулинга
Тиг Мерфи, 45 лет, дежурный женской тюрьмы Дулинга
Билли Уэттермор, 23 года, дежурный женской тюрьмы Дулинга
Скотт Хьюз, 19 лет, дежурный женской тюрьмы Дулинга
Бланш Макинтайр, 65 лет, секретарь начальника женской тюрьмы Дулинга
Доктор Клинтон Норкросс, 48 лет, старший психиатр женской тюрьмы Дулинга и супруг Лайлы
Джанетт Сорли, 36 лет, заключенная № 4582511-1 женской тюрьмы Дулинга
Ри Демпстер, 24 года, заключенная № 4602597-2 женской тюрьмы Дулинга
Китти Макдэвид, 29 лет, заключенная № 4603241-2 женской тюрьмы Дулинга
Энджел Фицрой, 27 лет, заключенная № 4601959-3 женской тюрьмы Дулинга
Мора Данбартон, 64 года, заключенная № 4028200-1 женской тюрьмы Дулинга
Кейли Роулингс, 40 лет, заключенная № 4521131-2 женской тюрьмы Дулинга
Нелл Сигер, 37 лет, заключенная № 4609198-1 женской тюрьмы Дулинга
Селия Фроуд, 30 лет, заключенная № 4633978-2 женской тюрьмы Дулинга
Клавдия Стивенсон по прозвищу Бомбовая, 38 лет, заключенная № 4659873-1 женской тюрьмы Дулинга
Лоуэлл Грайнер по прозвищу Маленький Лоу, 35 лет, преступник
Мейнард Грайнер, 35 лет, преступник
Микаэла Морган, урожденная Коутс, 26 лет, известная журналистка, «Новости Америки»
Сродник Благовест (Скотт Дэвид Уинстид-младший), 60 лет, Первосвященник Просветленных
Лис обыкновенный, от 4 до 6 лет
Бедная или богачка, слабая иль стойкая,
Быть рабыней у мужчины – доля твоя горькая.
Женщиною рождена ты? На страданье родилась:
Будут лгать тебе, и мучить, и жестоко
втопчут в грязь.[3]
Сэнди Пози «Рожденная женщиной». Слова Марты Шарп
А по мне, ты просто не можешь не обращать внимания на квадрат света!
Риз Мэри Демпстер, заключенная № 4602597-2 женской тюрьмы Дулинга
Ее предупредили. Ей объяснили. Тем не менее она продолжала.
Сенатор Эддисон Макконнелл по прозвищу Митч о сенаторе Элизабет Уоррен
Спящие красавицы
Мотылек вызывает у Иви смех. Приземляется на ее обнаженное предплечье, и Иви указательным пальцем легонько проводит по коричневым и серым волнам на крыльях. «Привет, красавчик», – говорит она мотыльку. Тот улетает. Выше, выше и выше, пока его не проглатывает ломтик солнца, запутавшийся в глянцевой зеленой листве в двадцати футах над Иви, которая устроилась среди корней.
Медно-красный шнур выползает из черной расщелины в стволе дерева и, извиваясь, скользит между пластинами коры. Змее доверия нет, это очевидно. С ней у Иви уже возникали проблемы.
Ее мотылек и еще десять тысяч других срываются с кроны дерева шуршащим, серо-коричневым облаком, скользящим по небу в сторону хилого соснового подроста по ту сторону луга. Иви поднимается, чтобы последовать за мотыльками. Ветки хрустят под ногами, высокая, по пояс, трава царапает кожу. Приближаясь к чахлому лесу, выросшему на месте вырубленного, Иви улавливает первые химические запахи – аммиак, бензол, нефть, множество других, десять тысяч надрезов на единственном клочке плоти – и теряет надежду, о появлении которой чуть раньше даже не подозревала.
Паутинки вырастают из ее следов и сверкают в утреннем свете.
Часть первая
Старый треугольник
А в тюрьме, что близко, семь десятков женщин,
Вот бы где счастливо я бы обитал.
Треугольник[4] старый прозвенел устало,
Эхом отозвался Короля канал.
Брендан Биэн
Глава 1
Ри спросила Джанетт, наблюдала ли та когда-нибудь за квадратом солнечного света, проникающим в камеру через окно. Джанетт, ответила, что нет. Ри лежала на верхней койке, Джанетт – на нижней. Обе ждали, когда камеры откроют перед завтраком. Еще одно утро.
Сокамерница Джанетт, Ри, провела целое исследование солнечного квадрата. Как объясняла Ри, сначала он появлялся на противоположной от окна стене, потом скользил вниз, вниз, вниз, проползал по поверхности стола и наконец соскакивал на пол. Вот и сейчас Джанетт видела, что он на полу, посреди камеры, чрезвычайно яркий.
– Ри, – сказала Джанетт, – я просто не могу обращать внимание на какой-то квадрат света.
– А по мне, ты просто не можешь не обращать внимания на квадрат света. – Ри хрюкнула – так она изображала веселье.
– Ладно. Что бы эта херня ни значила.
В ответ ее сокамерница снова хрюкнула.
Ри была нормальной, но тишина нервировала ее, будто маленького ребенка. Ри попала в тюрьму за мошенничество в кредитной сфере, подделку документов и хранение наркотиков с целью продажи. Ни в чем особого мастерства не продемонстрировала, вот и оказалась за решеткой.
Джанетт сидела за непредумышленное убийство. Зимним вечером 2005 года она отправила в мир иной своего мужа Дэмиена, всадив ему в пах шлицевую отвертку, а тот, будучи под кайфом, просто остался сидеть в кресле и истек кровью. Само собой, она торчала вместе с ним.
– Я смотрела на часы, – объяснила Ри. – Засекала время. Свету нужно двадцать две минуты, чтобы добраться до пола.
– Срочно звони в «Гиннесс», – предложила Джанетт.
– Ночью мне приснился сон. Мы с Мишель Обамой ели шоколадный торт, и она сердито мне выговаривала: «Ты растолстеешь, Ри». Но сама ела тот же торт. – Ри хрюкнула. – Нет. Ничего такого не было. Я это выдумала. На самом деле мне приснилась моя учительница. Она говорила и говорила, что я пришла не в тот класс, а я отвечала и отвечала, что пришла куда нужно. Она говорила «ладно» и начинала урок, но время от времени повторяла мне, что я не в том классе, а я отвечала, что в том, и это продолжалось и продолжалось. Совершенно невыносимо. А что снилось тебе, Джанетт?
– Э… – Джанетт попыталась вспомнить и не смогла. С новым лекарством она, похоже, стала спать крепче. Прежде ей иногда снились кошмары с Дэмиеном. Обычно он выглядел как и в то утро, когда она нашла его мертвым, с синими потеками на коже, напоминавшими чернила.
Джанетт спросила доктора Норкросса, считает ли он, что эти кошмары связаны с чувством вины. Доктор, прищурившись, какое-то время смотрел на нее, словно говоря: ты что, шутишь? Раньше эти взгляды выводили ее из себя, но теперь она привыкла. Потом доктор поинтересовался, считает ли она, что вода мокрая. Да, конечно. Она поняла. В любом случае по кошмарам Джанетт не скучала.
– Извини, Ри. Ничего не помню. Что бы мне ни снилось, ушло.
В коридоре второго этажа крыла Б послышались шаги. Кто-то из дежурных шел по бетонному полу: последняя проверка перед открытием дверей.
Джанетт закрыла глаза, чтобы помечтать. Тюрьма лежала в руинах. Пышные лианы карабкались по древним стенам камеры, лениво колыхались на весеннем ветерке. От потолка осталась половина, вторую сожрало время, и он превратился в навес. Пара маленьких ящериц сидела на куче ржавого мусора. Бабочки танцевали в воздухе. Сильно пахло землей и листьями. Зрелище произвело впечатление на Бобби, стоявшего рядом с ней в проломе стены. Его мама была археологом. Именно она открыла это место.
– Как думаешь, можно попасть на телевикторину, если у тебя криминальное прошлое?
Видение исчезло. Джанетт застонала. Ладно, в эти мгновения ей было хорошо. На таблетках жизнь определенно стала лучше. Существовало тихое, приятное местечко, которое она могла найти. Следовало отдать должное доктору. Лучше жить с химией. Джанетт вновь открыла глаза.
Ри таращилась на нее. О тюрьме трудно сказать что-то хорошее, но, возможно, для такой девушки, как Ри, под замком безопаснее. На свободе она скорее всего по рассеянности угодила бы под машину. Или толкнула бы наркоту человеку, ни капли не похожему на наркомана. Что, собственно, она и сделала.
– Что не так? – спросила Ри.
– Ничего. Я перенеслась в рай, вот и все, а ты своим большим ртом взорвала его.
– Что?
– Не важно. Послушай, думаю, должна быть телевикторина, на которую можно попасть, только если у тебя есть криминальное прошлое. Мы назовем ее «Кто лучше солжет».
– Мне нравится! И как она будет устроена?
Джанетт села, зевнула, потянулась.
– Об этом надо подумать. Понимаешь, разработать правила.
Их дом был таким же, как и всегда, и никаких изменений не намечалось до скончания мира, аминь. Камера, десять шагов в длину, четыре – между койками и дверью. Стены – гладкий бетон, окрашенный в цвет овсянки. Фотографии и открытки с загибающимися краями (так мало, что и смотреть не на что) крепились к стене зеленой липкой массой, в единственном отведенном месте. У одной стены стоял маленький металлический стол, у противоположной – металлическая этажерка. Слева от двери располагалось стальное «очко». Когда одна справляла нужду, сидя на корточках, вторая отворачивалась, создавая жалкую иллюзию уединения. Панель из двуслойного стекла в двери, на уровне глаз, позволяла увидеть небольшую часть коридора, который тянулся по всему крылу Б. Каждый дюйм, каждый предмет в камере благоухали вездесущими тюремными запахами: пот, плесень, лизол.
Против воли Джанетт наконец обратила внимание на квадрат солнца между койками. Он почти подобрался к двери – но дальше ему ползти было некуда, верно? До тех пор, пока дежурный не вставит ключ в замок или не откроет дверь из Будки, световой квадрат останется взаперти, как и они.
– А кто будет ведущим? – спросила Ри. – В каждой телевикторине должен быть ведущий. И какие будут призы? Призы должны быть хорошие. Нам нужно все проработать, Джанетт.
Подперев голову, Ри накручивала на палец тугие осветленные кудряшки и смотрела на Джанетт. У самой линии роста волос лоб Ри портил шрам, напоминающий решетку для гриля: три глубокие параллельные полосы. Хотя Джанетт не знала, откуда взялся этот шрам, она не сомневалась, чья это работа. Мужчины. Может, отца, может, брата, может, бойфренда, может, парня, которого Ри видела один раз в жизни. Заключенные женской тюрьмы Дулинга редко могли поведать о чем-то хорошем. Зато знали множество историй о плохих парнях.
И что тут можно поделать? Можно пожалеть себя. Можно возненавидеть себя или возненавидеть всех. Можно ловить кайф, нюхая чистящие средства. Можно делать что угодно (в строго ограниченных пределах), но ситуация от этого не изменится. Твой шанс крутануть большое сверкающее колесо Фортуны появится не раньше следующего слушания по условно-досрочному освобождению. Джанетт хотелось крутануть колесо как можно удачнее. У нее был сын.
Послышался гулкий удар: дежурный в Будке разом отомкнул шестьдесят два замка. Половина седьмого. Всем выйти из камер на утреннюю поверку.
– Я не знаю, Ри. Подумай об этом, – ответила Джанетт, – и я подумаю, а позже обменяемся мнениями. – Она опустила ноги на пол и встала.
В нескольких милях от тюрьмы, во дворе дома Норкроссов, Антон – уборщик бассейнов – вылавливал из воды дохлых насекомых. Доктор Клинтон Норкросс подарил бассейн Лайле, своей супруге, на десятилетие их свадьбы. Обычно Клинту хватало одного взгляда на Антона, чтобы в очередной раз задаться вопросом, а мудрое ли он принял решение? Это утро не стало исключением.
Антон уже снял рубашку, по двум веским причинам. Во-первых, день обещал быть жарким. Во-вторых, живот Антона напоминал скалу. Да и вообще со своей рельефной мускулатурой Антон – уборщик бассейнов выглядел жеребцом с обложки любовного романа. И если бы вам захотелось послать пулю в живот Антона, стрелять следовало под углом, чтобы избежать рикошета. Что он ел? Горы чистого белка? И как сумел накачать такие мышцы? Очищал авгиевы конюшни?
Антон вскинул голову, улыбнулся под поблескивающими стеклами «вайфареров». Свободной рукой помахал Клинтону, который смотрел на него из окна расположенной на втором этаже хозяйской ванной.
– Господи Иисусе, чувак, – тихо сказал себе Клинт и помахал в ответ. – Имей совесть.
Клинтон отошел от окна. В зеркале на закрытой двери в спальню увидел белого мужчину сорока восьми лет, бакалавра Корнеллского университета, доктора медицины – Нью-Йоркского, у которого имелись жировые складки от «Гранд мокко» из «Старбакса». Его тронутая сединой борода больше подходила не пышущему здоровьем лесорубу, а опустившемуся одноногому морскому капитану.
Клинт воспринимал свое отражение в зеркале с иронией. Раньше он терпеть не мог мужское тщеславие, особенно разновидность, свойственную среднему возрасту, а накопленный профессиональный опыт только усилил эту нетерпимость. По сути, событие, которое Клинт считал главным поворотным пунктом своей медицинской карьеры, произошло восемнадцать лет тому назад, в 1999 году, когда потенциальный пациент по имени Пол Монпелье пришел к молодому доктору с жалобами на «кризис сексуальных амбиций».
Клинт спросил Монпелье: «Когда вы говорите «сексуальные амбиции», что вы под этим подразумеваете?»
Амбициозные люди стремились продвинуться по службе. Но не мог же человек стать вице-президентом секса. Странный эвфемизм.
«Я подразумеваю… – Судя по всему, Монпелье взвешивал разные варианты. Наконец, определившись, откашлялся. – Я по-прежнему хочу это делать. Я по-прежнему хочу этим заниматься».
«Но я не вижу тут ничего амбициозного, – заметил Клинт. – По-моему, это нормально».
Клинт только окончил резидентуру[5] по психиатрии и еще не избавился от резкости. Он вел прием только второй день, и Монпелье был его вторым пациентом.
(Первым стала девушка-подросток, которую тревожили перспективы поступления в колледж. Правда, довольно скоро выяснилось, что девушка набрала 1570 баллов[6] при сдаче стандартизованного теста. Клинт заявил, что это прекрасный результат и нет никакой необходимости ни в лечении, ни даже во втором визите к нему. Излечена! – написал он у нижней кромки первого листа линованного блокнота, который обычно использовал для записей.)
В тот день Пол Монпелье пришел на прием в белом свитере-безрукавке и брюках с защипами. Он сидел напротив Клинта в дерматиновом кресле, сгорбившись, положив щиколотку одной ноги на колено другой, держась рукой за модельную туфлю. Клинт видел, как он парковал леденцово-красный спортивный автомобиль на стоянке у приземистого офисного здания. Пол занимал высокий пост в угольной промышленности и мог позволить себе такой автомобиль, но своим длинным, измученным заботами лицом напоминал Клинту братьев Гавс, что досаждали Скруджу Макдаку в старых комиксах.
«Моя жена говорит… ну, не в таких выражениях, но, сами понимаете, смысл ясен. Подтекст, так сказать. Она хочет, чтобы я завязал. Расстался со своими сексуальными амбициями». – Он вскинул подбородок.
Клинт проследил за его взглядом. Под потолком вращался вентилятор. Если бы сексуальные амбиции Монпелье поднялись так высоко, лопасти порубили бы их в капусту.
«Давайте сдадим назад, Пол. Почему вы с женой вообще стали это обсуждать? С чего все началось?»
«У меня был роман. Я словно прыгнул в омут. И Рода, моя жена, вышвырнула меня вон! Я объяснял, что дело не в ней, просто… у мужчин есть потребности, знаете ли. У мужчин есть потребности, которые женщины не всегда могут понять. – Монпелье покрутил головой и раздраженно зашипел. – Я не хочу разводиться. В глубине души я чувствую, что именно она должна смириться с этим. Со мной».
Грусть и отчаяние были искренними, и Клинт представил себе боль, вызванную столь внезапной переменой: жить на чемоданах, в одиночестве есть в забегаловке водянистый омлет. Это была не клиническая депрессия, но депрессия, заслуживающая внимания и заботы, пусть даже Монпелье сам навлек на себя эту напасть.
Пациент наклонился над своим намечающимся животом.
«Будем откровенны. Доктор Норкросс, мне уже под пятьдесят. Мои лучшие сексуальные дни позади. Я отдал их ей. Пожертвовал ими ради нее. Я менял подгузники. Ездил на все игры и конкурсы, откладывал деньги на колледж. Выполнил все пункты брачного соглашения. Так почему мы не можем договориться? Почему должны спорить и не соглашаться?»
Клинт не ответил – просто ждал продолжения.
«На прошлой неделе я был у Миранды. Это женщина, с которой я сплю. Мы сделали это на кухне. Мы сделали это в ее спальне. Почти сделали третий раз, в душе. Давно я не был так счастлив! Эндорфины! Потом я поехал домой. У нас был семейный ужин, мы сыграли в «Эрудита», и все пребывали в прекрасном настроении! Где проблема? Это надуманная проблема, вот как я считаю. Почему я не могу получить в этом мире чуть-чуть свободы? Неужели я прошу слишком многого? Неужели это так возмутительно?»
Несколько секунд оба молчали. Монпелье вглядывался в Клинта. Умные слова кружили в голове доктора, как головастики. Поймать их не составляло труда, но он продолжал молчать.
За спиной пациента, у стены, стояла рамка с эстампом Дэвида Хокни, который Лайла подарила мужу, чтобы «согреть» кабинет. В этот день Клинт как раз собирался его повесить. С эстампом соседствовали наполовину распакованные коробки с книгами по медицине.
Кто-то должен помочь этому человеку, промелькнуло в голове молодого доктора, и сделать это можно как раз в такой милой, тихой комнате. Но должен ли этим заняться Клинтон Р. Норкросс, доктор медицины?
В конце концов, он из кожи лез вон, чтобы стать врачом, и в этом ему не помогал ни один колледжский фонд. Жизнь никогда его не баловала, и за все приходилось платить, иной раз не только деньгами. Чтобы добраться до цели, он делал такое, о чем никогда не рассказывал жене – и никогда не расскажет. Но ради чего? Чтобы лечить сексуально амбициозного Пола Монпелье?
Широкое лицо Монпелье исказила немного виноватая гримаса.
«Да ладно. Выкладывайте. Я все делаю неправильно, да?»
«Вы все делаете очень даже правильно», – ответил Клинт и на следующие тридцать минут осознанно задвинул свои сомнения в дальний ящик. Они обсудили проблему со всех сторон и во всех подробностях. Они выяснили разницу между желанием и потребностью. Они поговорили о миссис Монпелье и ее заурядных (по мнению Монпелье) предпочтениях в сексе. Они отклонились от темы, на удивление откровенно обсудив сексуальный опыт совсем еще юного Пола Монпелье, а именно мастурбацию при помощи челюстей плюшевого крокодила, игрушки младшего брата.
Клинт, в рамках профессионального долга, спросил Монпелье, ощущал ли тот когда-нибудь желание причинить себе вред. (Нет.) Поинтересовался, какие бы тот испытывал чувства, если бы роли поменялись. (Он всегда говорил ей: если тебе чего-то хочется, сделай.) Спросил, каким видит себя Монпелье через пять лет. (И тогда мужчина в белом свитере-безрукавке заплакал.)
В конце сессии Монпелье сказал, что уже с нетерпением ждет следующей, а как только за ним закрылась дверь, Клинт позвонил в свою телефонную службу и попросил переводить всех желающих записаться к нему на прием к психотерапевту в Мейлоке, соседнем городке. Секретарь-телефонистка спросила: как долго?
«Пока в аду не пойдет снег», – ответил Клинт, наблюдая в окно, как Монпелье разворачивает свой леденцово-красный автомобиль и выезжает со стоянки. И водителя, и автомобиль он видел в последний раз.
Потом позвонил Лайле.
«Привет, доктор Норкросс». – Слыша ее голос, он понимал, что подразумевали люди – или должны были подразумевать, – когда говорили, что у них поет сердце. Она спросила, как проходит его второй рабочий день.
«Сегодня ко мне заглянул человек, даже не слышавший о самоанализе», – ответил он.
«Да? Мой отец заходил к тебе? Готова спорить, эстамп Хокни его смутил».
Она была сообразительная, его жена. Такая же сообразительная, как и ласковая, и такая же твердая, как и сообразительная. Лайла любила его, но при этом не позволяла ему расслабиться. Клинт считал, что, наверное, ему это необходимо. Как и большинству мужчин.
«Ха-ха, – ответил он. – Послушай, та вакансия в тюрьме, о которой ты упоминала. От кого ты о ней узнала?»
Последовала короткая пауза: его жена обдумывала смысл вопроса. И спросила в ответ:
«Клинт, ты хочешь мне что-то сказать?»
У Клинта не возникало и мысли, что ее может разочаровать его решение отказаться от частной практики ради государственной службы. Он был совершенно уверен, что такому не бывать.
Спасибо Господу, что ему досталась Лайла.
Чтобы добраться электрической бритвой до седой щетины под носом, Клинту пришлось скорчить такую рожу, что он стал похож на Квазимодо. Из левой ноздри торчал белоснежный волосок. Антон мог сколько угодно тягать гантели, но седые волосы в ноздрях, а также ушах были у каждого мужчины. Этот волосок Клинту удалось срезать.
У него никогда не было такого тела, как у Антона, даже в выпускном классе, когда суд признал его право на самостоятельность: он жил сам по себе и занимался бегом. Более поджарый, худой, с плоским, но не рельефным животом, совсем как его сын Джаред. Пол Монпелье был полнее того мужчины, которого Клинт видел этим утром в зеркале. Но все-таки он сейчас ближе к Монпелье, чем к Антону. И где он теперь, Пол Монпелье? Разрешился ли его кризис? Вероятно. Время лечит. Разумеется, как заметил какой-то остряк, оно также калечит.
Клинта отличало естественное (то есть обычное, совершенно сознательное и основанное на фантазиях) желание сходить налево. Его ситуация, в отличие от Пола Монпелье, не тянула на кризис. Это была нормальная жизнь, какой он ее понимал: повторный взгляд на красивую девушку на улице; инстинктивный поворот головы в сторону женщины в короткой юбке, вылезающей из автомобиля; почти неосознанный приступ похоти к одной из моделей, украшающих телевикторину «Правильная цена». Печально, полагал он, печально и немного комично наблюдать, как с возрастом твое тело все меньше походит на то, что когда-то нравилось тебе больше всего, но при этом остаются все прежние инстинкты (слава богу, инстинкты, а не амбиции). Это напоминало запах готовки, который держится после того, как обед давно съеден. Судил ли он всех мужчин по себе? Нет. Он был членом племени, ничего больше. А кто был настоящей загадкой, так это женщины.
Клинт улыбнулся себе в зеркало. Он чисто выбрит. Он жив. И примерно того же возраста, что и Пол Монпелье в девяносто девятом году.
– Эй, Антон, пошел на хрен! – сказал он зеркалу. Бравада была фальшивой, но он хотя бы попытался.
В спальне, куда вела дверь из ванной, щелкнул замок, выдвинулся ящик, в него со стуком лег пистолет Лайлы. Ящик закрылся, замок снова щелкнул. Клинт услышал вздох и зевок.
На случай, если она уже спала, Клинт молча собрался и вместо того, чтобы сесть на кровать и надеть туфли, взял их, собираясь унести вниз.
Лайла откашлялась.
– Все нормально. Я еще не сплю.
Клинт не был уверен, что это правда. Лайлу хватило только на то, чтобы расстегнуть верхнюю пуговицу форменных брюк, прежде чем плюхнуться на кровать. Она даже не забралась под одеяло.
– Ты, должно быть, совершенно вымоталась. Уже ухожу. На Маунтин-Рест все хорошо?
Прошлым вечером она прислала сообщение об аварии на Маунтин-Рест-роуд. Не ждите. Такое иной раз случалось, но редко. Они с Джаредом поджарили себе на гриле два бифштекса и выпили у бассейна по бутылке пива «Энкор стим».
– Фура расцепилась. Из Пэт-как-его-там? Какая-то сеть товаров для животных. Прицеп перевернулся, перегородил дорогу. Наполнитель для кошачьих лотков и собачья еда разлетелись во все стороны. В итоге пришлось сдвигать его бульдозером.
– Похоже, зрелище было не для слабонервных. – Он наклонился и поцеловал жену в щеку. – Послушай, а не побегать ли нам вместе трусцой? – Идея только что пришла ему в голову, и он сразу приободрился. Запретить телу стареть и толстеть он не мог, но почему бы не оказать сопротивление?
Лайла открыла правый глаз, светло-зеленый в сумраке спальни с задернутыми шторами.
– Только не этим утром.
– Разумеется, нет. – Клинт завис над ней, рассчитывая, что Лайла поцелует его в ответ, но она пожелала ему хорошего дня и попросила проследить за тем, чтобы Джаред вынес мусор. Лайла закрыла глаз. Зеленая радужка вспыхнула… и пропала.
Запах в ангаре стоял жуткий.
Кожа Иви покрылась мурашками, она с трудом подавила рвотный рефлекс. Воняло едкими химикалиями, старым лиственным дымом и протухшей едой.
Один из мотыльков запутался в ее волосах, прижимался к черепу, елозил по коже. Стараясь дышать неглубоко, Иви огляделась.
Сборный ангар использовался для изготовления наркотиков. Посередине стояла газовая плита, подсоединенная желтоватыми шлангами к двум белым баллонам. Рабочий стол у стены заполняли подносы, банки с водой, вскрытая упаковка пакетов с замком «Зиплок», пробирки, куски пробки, множество горелых спичек, трубка для травки с обугленной чашей. Имелась там и раковина с толстым шлангом, уходившим под сетку, которую Иви приподняла, чтобы войти. Пустые бутылки и мятые банки на полу. Шаткий складной стул с логотипом «Дэйл Эрнхардт-младший» на спинке. В углу валялась свернутая в ком серая клетчатая рубашка.
Иви тряхнула ее, чтобы расправить и выбить хотя бы часть пыли, потом надела. Полы закрыли бедра. До недавнего времени этот предмет одежды принадлежал жуткому неряхе. На груди красовалось пятно, формой напоминавшее штат Калифорния и докладывавшее, что эта неряшливая личность любила майонез.
Иви присела у пропановых баллонов и выдернула желтоватые шланги. Потом повернула вентили на четверть дюйма.
Выйдя из ангара и опустив за собой сетку, Иви постояла, вдыхая свежий воздух.