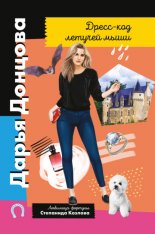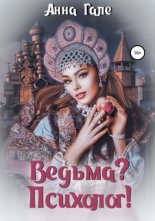Нью-Йорк Резерфорд Эдвард

Наконец, чтобы подлить масла в огонь, Джон Браун совершил налет на арсенал в Харперс-Ферри, штат Виргиния, питая глупую надежду поднять восстание рабов. Затея была обречена на провал изначально, и Брауна повесили. Но Хетти моментально заявила Фрэнку:
– Джон Браун – герой.
– Он не герой! – возразил Фрэнк. – Он сумасшедший! Его атака на Харперс-Ферри была безумием! Похоже, ты забываешь, что он и его сыновья уже хладнокровно убили пятерых только потому, что те выступали за рабовладение!
– Это ты так говоришь.
– Потому что это правда.
В начале 1860 года отношения между Севером и Югом были скверны, как никогда. А Фрэнк прикинул и решил, что есть дополнительный фактор, который еще сильнее расшатывает ситуацию.
Фрэнк Мастер прожил достаточно долго, чтобы осознать наличие в огромной трансатлантической экономической системе своих великих циклов, подобным погодным. Она описывала круги от спада к расцвету и с каждым новым неизменно прирастала, однако через каждые несколько лет случались кризисы, купцы разорялись, но если проявить благоразумие, то спад мог быть таким же доходным, как и взлет.
Трансатлантическую систему уже какое-то время трепал шторм. Но пострадали не все – его собственный бизнес даже процветал. Однако кого не задело вовсе, так это крупных плантаторов с Юга. Спад ли, подъем, а мир, похоже, все больше нуждался в хлопке. Крупным плантаторам никогда еще не жилось так хорошо.
«Хлопок – король», – победоносно говаривали они и были так уверены, что с Югом им все нипочем, что даже раздавались голоса: «Если янки выберут республиканца, желая нас разорить, то к черту Союз! Пусть Юг будет сам по себе».
На Севере, разумеется, мало кто воспринял это всерьез.
– Фанфароны с Юга городят вздор, – презрительно говорила Хетти.
Но Фрэнк был не столь уверен в этом.
По его мнению, грядущие президентские выборы могли оказаться опасным мероприятием. О чем бы там ни писали в «Чикаго трибьюн», ему представлялось маловероятным выдвижение кандидатуры Линкольна от республиканцев. Несомненно, что у других шансы выше. Но тем не менее ему стало весьма любопытно взглянуть на этого субъекта и разобраться, что он за птица.
Огромный темно-красный массив Куперовского института занимал треугольный участок между Третьей авеню и Астор-плейс. Фрэнка всегда восхищал его основатель Питер Купер, промышленник-самоучка, который построил первую в Америке железнодорожную паровую машину, а после основал этот великолепный колледж с бесплатным вечерним обучением для рабочих-мужчин и дневным – для женщин. Самое сильное впечатление на Фрэнка производил Большой зал. Он был построен лишь в прошлом году для официального открытия института, но успел стать одним из самых популярных мест для разнообразных собраний.
Они пришли заблаговременно – и правильно сделали, потому что зал стремительно заполнялся. Оглядевшись, Фрэнк наскоро прикинул и сказал Хетти:
– Твой Линкольн собрал изрядную толпу. Сегодня здесь будет полторы тысячи человек.
Минуты текли, и Хетти с совершенно счастливым видом рассматривала публику. Повсюду обнаруживались ее знакомые. Фрэнк удовольствовался тем, что постарался как мог припомнить отчеты о дебатах Линкольна и Дугласа. Немного времени спустя он не удержался и заговорил:
– Насколько я понимаю, Хетти, мистер Линкольн ратует за свободу и равенство для чернокожих?
– Безусловно.
– Однако я точно помню, что в Иллинойсе он заявил, будто ни в коем случае не позволит им голосовать и заседать в жюри. Что ты на это скажешь?
Хетти невозмутимо взглянула на него:
– По-моему, все очень просто, дорогой. Скажи он иначе, его бы не выбрали.
Фрэнк только собрался заметить, что она, когда ей нужно, легко договаривается с собственной совестью, но начавшееся движение в боковой части сцены свидетельствовало о начале мероприятия.
Джентльмен, представлявший оратора, не стал затягивать вступление. Прозвучали скупые вежливые слова о достойном госте, была выражена надежда на то, что публика окажет ему доброжелательный прием и заинтересуется его речью. Он повернулся, приглашая оратора. И появился Авраам Линкольн.
– Господи! – ошеломленно пробормотал Фрэнк.
Он видел в газетах пару портретов Линкольна и счел их неприглядными. Но ничто не подготовило его к тому шоку, который он испытал при виде Линкольна во плоти.
Деревянной походкой и чуть сутулясь сцену пересек очень высокий (как минимум шесть футов и четыре дюйма, по прикидкам Фрэнка), тощий темноволосый человек в длинном черном сюртуке. Одна паучья рука висела, вторая была согнута, ибо в своей лапище он держал пачку бумаг. Дойдя до кафедры в центре сцены, он повернулся к толпе. И Фрэнк чуть не ахнул.
Складки на гладко выбритом лице Линкольна были так глубоки, что казались расщелинами. Из-под косматых бровей на публику тяжело и будто бы безнадежно смотрели серые глаза. Фрэнк подумал, что в жизни не видел такого скорбного лица. Заложив руки за спину, Линкольн еще секунду-другую сверлил общество взглядом. Затем заговорил.
И тут Фрэнк скривился. Невыносимо. Этот долговязый, нескладный субъект издавал звуки столь тонкие, скрежещущие и в целом неприятные, что они резали слух. Хотелось, чтобы он замолчал. И этого человека чикагские газеты прочили в президенты? Но деваться было некуда, пришлось слушать. И чуть погодя Фрэнк отметил несколько вещей.
Во-первых, Линкольн не стал прибегать к высокопарной, эмоциональной риторике. Просто и буднично, в выверенной адвокатской манере, он выдвинул первый аргумент. И вот какой.
Его оппоненты, подогретые странным решением по делу Дреда Скотта, заявили, будто отцы-основатели, авторы Конституции, и думать не думали, что конгресс должен обладать правом вообще запрещать или разрешать рабовладение на той или иной территории. Поэтому Линкольн изучил предмет и нашел доказательства в отношении двадцати одного из тридцати девяти отцов-основателей, согласно которым все они, по сути, узаконили именно это право. А Вашингтон лично подписывал документы, запрещающие рабовладение. Итак, либо отцы-основатели отрицали собственную Конституцию, либо Конституция действительно вооружила конгресс правом принимать подобные решения.
Конечно, Линкольн мог просто обозначить это как статистический и законодательный факт, сопроводив его для пущей эффектности какими-нибудь высокопарными фразами. Но его ораторский гений заключался в буквоедстве. Неторопливо, скрупулезно, называя даты и поименно – соответствующих отцов-основателей, разъясняя обстоятельства дела, Линкольн придирался к каждому вотуму. И, занимаясь этим, он каждый раз почти одними и теми же словами делал один и тот же вывод: «…ничто ни в их понимании, ни в разделении местных и федеральных властей, ни что-либо еще в Конституции не запретило федеральному правительству контроль над рабовладением на федеральной территории». И это монотонное повторение слов – не трубное и пафосное, но спокойное и рассудительное – производило ошеломляющий эффект.
Других заявлений он не сделал. Он просто показал, исключив всяческие сомнения, что конгресс имел право принимать решения по рассматриваемому вопросу. Воззвав к рассудку аудитории, он полностью завладел ее вниманием. Она была восхищена.
С самим же оратором, по мере того как он проникался темой, произошла удивительная трансформация. Лицо Линкольна расслабилось. Казалось, он вдохновлен внутренним светом. Время от времени он, увлекшись, воздевал правую руку и даже потрясал своим длинным пальцем, подчеркивая сказанное. Но самым поразительным было то, что Фрэнк, как он вдруг осознал, уже не обращал внимания на голос Линкольна. Он знал одно: стоявший перед ним человек обладал исключительным весом.
Разбираясь с позицией республиканцев по отношению к рабовладению, Линкольн выделил еще два момента. Во-первых, его партия верила в Конституцию, и угроза южан расколом в случае избрания президента-республиканца была подобна пистолету, приставленному к головам избирателей-северян. Но он должен предостеречь и своих сторонников-республиканцев. Он заявил, что они должны сделать все, чтобы заверить Юг в следующем: хотя республиканцам не нравится рабовладение, они не питают злых намерений в адрес существующих рабовладельческих штатов. Дабы успокоить Юг, они должны поддержать законы о беглых рабах и возвращать оных их южным хозяевам.
Произнеся эти слова политической предосторожности, Линкольн завершил речь кратким резюме моральной позиции своей партии. Пусть рабовладение сохранится на Юге, ибо оно уже существует и продиктовано необходимостью, но республиканцы должны держаться своих убеждений. И он закончил свое выступление лаконичным, но пронзительным высказыванием:
– Давайте верить в то, что сила на стороне правды, и пусть эта вера поможет вам исполнить наш долг так, как мы его понимаем.
Линкольн сорвал оглушительные аплодисменты, и Фрэнк был впечатлен не меньше большинства. Он увидел блистательного оратора – политика с высокими нравственными понятиями, но в то же время реалиста. Он различил за словами Линкольна некоторое пуританское презрение к Югу, но если оно было и так, то вряд ли приходилось этому удивляться.
По пути домой Хетти спросила:
– Ну же, Фрэнк, ответь честно, что ты о нем думаешь?
– Впечатляющая фигура.
– И я так подумала, – улыбнулась Хетти. – Рада, что наши мнения совпали.
– Я тоже, – сердечно отозвался он.
– Я верю, Фрэнк, что быть ему президентом.
– Возможно, – кивнул он и протянул ей, как раньше, руку. Она взяла его кисть и легонько сжала.
Поэтому он не добавил того, о чем думал в действительности: если Линкольна выберут президентом, то будущее ужасно.
Призыв
Стоял погожий июльский день. На небе ни облачка. Мэри была так взволнована, что стиснула Гретхен в объятиях, едва они уселись в красивый открытый экипаж миссис Мастер и покатили по парку.
– У меня для тебя сюрприз, – сообщила Гретхен.
– Какой?
– Подожди до парома, увидишь.
По городу вообще не было видно, что идет война. Ни одного солдата поблизости, а парк такой зеленый и роскошный.
Другое дело – две недели назад. В конце июня, когда генерал Ли и его конфедераты пересекли Потомак и вторглись в Пенсильванию, Нью-Йорк бурлил. Все полки были брошены на юг, на помощь армии Союза. «Но если Ли побьет их или ускользнет, то будет здесь через несколько дней», – констатировал Мастер.
К началу июля у Геттисберга завязалась крупная битва. Сперва никто не знал, за кем перевес. Но вот четвертого числа, в минувшую субботу, по телеграфу пришло известие о величайшей победе Союза. И к четвергу миссис Мастер сказала: «Я думаю, милая Мэри, что теперь ты можешь спокойно взять отпуск».
Наконец-то свободна! Отпуск был задуман месяцем раньше. Муж Гретхен твердил, что ей нужна неделя отдыха. Он присмотрит за лавкой, а трое их детей поживут поблизости у родителей Гретхен. Договорились и о том, что с ней поедет Мэри, так что путешествие Гретхен пройдет в безопасной и благопристойной обстановке, а подругам будет весело вместе. Зарезервировали номер в респектабельном отеле на Лонг-Айленде. Перед отъездом на паром миссис Мастер любезно предоставила свой экипаж в их полное распоряжение, а потому они начали путешествие с Центрального парка.
С детьми и лавкой у Гретхен не было возможности видеться с подругой, как встарь, хотя они никогда не теряли связь, и Мэри стала крестной одного из ребятишек. Поэтому они были в восторге от перспективы провести вдвоем целую неделю на побережье и уже хохотали, как девчонки.
– А ну-ка, гляньте на нас, двух модниц, которые колесят по парку! – крикнула Мэри.
Она любила Центральный парк. Прошло всего два года с тех пор, как возник этот огромный, в две с половиной мили, четырехугольник – плод вдохновения Олмстеда и Вокса, призванный снабдить «зелеными легкими» центр того, что со временем обязательно превратится в зону сплошной застройки, в завершенную городскую сетку. Осушили болота, снесли пару убогих деревушек, сровняли холмы. И вот лужайки и пруды, рощицы и дорожки образовали пейзажи, которые не уступали в изысканности лондонскому Гайд-парку и Булонскому лесу близ Парижа. Мало того, подрядчики даже выполнили работу без всяких взяток. Никто не видел ничего подобного.
И обе женщины были, безусловно, хорошо одеты. Гретхен могла себе это позволить, но и у Мэри нашлось кое-что нарядное. Нью-йоркская прислуга зарабатывала вдвое больше фабричных рабочих, имея вдобавок кров и стол, и большинство посылало деньги в семьи. У Мэри не было иждивенцев, и за четырнадцать лет службы у Мастеров она скопила скромную сумму.
Конечно, Шон выручил бы ее, нуждайся она в средствах. Ее брат становился весьма состоятельным человеком. Восемь лет назад он завладел салуном Нолана на Бикман-стрит. Когда она спросила, что случилось с Ноланом, он ответил уклончиво.
– Не поладил кое с кем из ребят, – туманно выразился он. – По-моему, уехал в Калифорнию.
Сказать по правде, ей не было дела до судьбы Нолана. Но одно было ясно: Шон сколачивал состояние на этом салуне. Он женился и стал вполне респектабельным господином.
– Тебе больше незачем служить, – сказал он ей. – У меня найдется для тебя место в любое время, когда пожелаешь.
Но она предпочла сохранить независимость. Да и дом Мастеров уже стал для нее родным. Случись у крошки Салли Мастер какая-нибудь беда, и не успеешь оглянуться, а она же стучится в дверь Мэри. Когда на лето вернулся из Гарварда молодой Том Мастер, Мэри обрадовалась ему, как родному сыну.
Думала ли она еще о замужестве? Пожалуй. Еще не поздно, лишь бы появился кто-нибудь подходящий. Но он все как-то не появлялся. Если бы Ганс сделал ей предложение, она, скорее всего, согласилась бы. Но Ганс уже много лет жил в счастливом браке. Время прошло, и она больше не вспоминала о нем. Ладно, почти не вспоминала.
– Джеймс, поезжай по Пятой, – скомандовала кучеру Гретхен, и спустя минуту они выехали из нижнего угла парка на оживленную улицу.
– Куда мы едем? – спросила Мэри, но подруга не ответила.
Если говорить о проспектах и улицах, то в общественном сознании уже многие поколения господствовал Бродвей, но теперь его первенство оспаривала Пятая авеню. И хотя фешенебельный Центральный парк еще ждал, когда город дотянется до него, то отдельные особняки Пятой авеню уже подбирались вплотную.
Первым шел дом за семь улиц от парка – богатый особняк на пустой стороне, строительство которого близилось к завершению.
– Дом мадам Рестелл, – прокомментировала Гретхен. – Правда, неплохо устроилась?
Сколотив с мужем состояние на абортах для богатых клиенток, мадам Рестелл решила обзавестись домом на Пятой авеню и с помпой почить от трудов. И если на этот дом Мэри взирала с некоторым ужасом, то через квартал и вовсе благоговейно перекрестилась.
Собор Святого Патрика на перекрестке Пятой авеню и Пятидесятой улицы. Прошло десять лет с того момента, когда кардинал Хьюз заложил краеугольный камень грандиозной церкви, столь желанной для ныне весьма многочисленных ирландцев-католиков. И в ней, несомненно, заключалось послание. Претензии церкви Троицы на готический стиль какое-то время впечатляли, однако новый гигантский католический собор, возвышающийся на Пятой авеню, поставит протестантов-епископальцев на место и будет серьезным напоминанием о славе ирландских католиков, достойной не меньшего почитания.
Мэри гордилась этим сооружением. С течением времени церковь все чаще утешала ее. Религия ее детства и народа. По крайней мере, знаешь, что она всегда будет здесь. Мэри посещала мессу каждое воскресенье, исповедуясь в своих мелких, немногочисленных грехах, получая их дружелюбное отпущение и обретая новую жизнь. Она молилась в часовне, чьи тени вобрали все человеческие слезы, свечи обещали любовь, а тишина – ей было ведомо это – являлась безмолвием Церкви вечной. Благодаря этой духовной пище ее жизнь была почти полна.
Они миновали приют для нищих негритянских детей на Сорок третьей и великолепную цитадель резервуара, доехав до самой Юнион-сквер, откуда покатили по Бауэри.
– Сообразила, куда мы едем? – спросила Гретхен.
Фотографическое ателье Теодора Келлера было хорошо оборудовано и разделено на две секции. В меньшей напротив одинокого стула, что стоял перед занавесом, был установлен аппарат. Дело, кормившее Келлера в последние годы, не отличалось от бизнеса других фотографов, обосновавшихся на Бауэри: он делал быстрые снимки молодых людей, которые стояли либо гордо, либо растерянно в своих непривычных мундирах, а после съемки отправлялись сражаться с южанами. Получалось быстрее, чем со старыми дагеротипами, и на бумаге воспроизводилось проще, так что в иные дни он зарабатывал тридцатку. Это окупало аренду. Поначалу портретики размером с визитку казались довольно забавными, как будто снимаешь отдыхающих на морском курорте. Однако постепенно, по мере умножения чудовищных потерь Гражданской войны, Теодор осознал, что тусклые снимочки больше смахивают на надгробные камни, последнее «прости» перед тем, как несчастные навсегда исчезнут из круга близких. И если он старался придать простому парню посильное великолепие, то о причине заказчикам не говорил.
Большая секция была побогаче. В ней имелись диван, красные бархатные портьеры, множество задников и аксессуаров для более пышных снимков. Вне работы Теодор отдыхал здесь, а зоркий глаз подметил бы, что втайне он считал себя не просто профессионалом, но художником и даже, возможно, причислял к богеме. В углу стоял футляр со скрипкой, на которой он любил играть. На круглый столик у стены он часто клал книги. Сегодня, кроме зачитанного томика историй Эдгара Аллана По, там лежали две тонкие книжки стихов. Одна, «Цветы зла» Бодлера, была, слава богу, на французском. Но другую написал американец, и если бы он ждал не сестру, то спрятал бы эти вирши в ящик.
Готовясь к приходу Гретхен, Теодор никак не мог выбрать задник. Если позволяло время, он любил рассмотреть свои объекты и выбрать фон по вдохновению. С сестрой и родными он, разумеется, встречался часто, но Мэри не видел давно. К тому же он хотел посмотреть на них в паре: как выглядят, во что одеты, а уж потом определиться с мизансценой.
Идея сестры подарить Мэри ее собственный портрет показалась ему восхитительной, и он предложил изготовить его бесплатно.
Когда женщины прибыли в ателье, Теодор оказал им радушный прием. Он видел, что Мэри довольна и в то же время немного стесняется. Поэтому он начал с того, что показал ей свои лучшие работы. Она решила, что он добивается ее восторгов, но его подлинная цель была иной. Следя за выражением ее лица и слушая комментарии, он очень быстро понял, какой ей хочется выглядеть.
Теодор обнаружил, что искусство коммерческого фотографа удивительно похоже на таковое живописца. Объект сидит смирно – в зависимости от условий экспозиция может превысить тридцать секунд. Потом освещение – он часто находил, что лучшие результаты приносит съемка в синем свете, – и направление света. Правильно расположив свои лампы, то есть так, чтобы лицо объекта давало тени, Теодор мог сделать голову объемной, выделить черты лица и выявить характер сидящего. Иногда ему это удавалось, но обычно откровенный портрет был последним, чего хотели заказчики. Они рассчитывали на нечто новое, модное, традиционное, на что-нибудь крайне скучное. И Теодор привык учитывать их желания, лелея надежду, что при везении фотосессия выльется в достаточно интересную техническую задачу.
Чаяния Мэри были бесхитростны. Ей просто хотелось выглядеть как леди и чуть моложе. И через двадцать минут ему удалось снять ее сидящей на стуле с мягкой обивкой на фоне бархатного занавеса перед столиком, на котором стоял чайник. Теодор был уверен, что снимок доставит ей огромное удовольствие и будет передан родным, чтобы в далеком будущем кто-нибудь говорил: «Посмотри, какой была тетушка Мэри в молодости. Настоящая леди-красавица».
Другое дело Гретхен, у нее уже было несколько портретов. Правда, в последние годы Теодор стал замечать в сестре еле уловимые перемены. Отчасти, конечно, это было связано с тем, что она наслушалась его разговоров о работе и начала улавливать разницу между интересным и банальным. Но было и что-то еще. Он распознал это уже несколько раз: озорной юмор, легкий авантюризм и даже, может быть, толику анархии под маской приличной сдержанности. Не было ли в характере Гретхен тайных глубин?
– А теперь сооружай для нас задник, – потребовала она.
Теодор уже понял, что ему нужно, хотя сам не знал почему. Этот задник он не использовал довольно долго. Большинству клиентов казалось, что тот устарел. Теодор зашел в заднюю часть ателье и разыскал желаемое.
То был вычурный, старомодный и проникнутый чувственностью садовый пейзаж образца XVIII века. Он мог принадлежать кисти Ватто или Буше и предназначаться для французского двора. Перед ним Теодор установил качели с широким сиденьем. К веревкам, дабы подчеркнуть атмосферу, он ловко привязал несколько лент. Затем извлек пару широкополых соломенных шляпок и предложил гостьям надеть.
– Мэри, сядьте на качели, – скомандовал он. – Гретхен, встань сзади.
Получилось неплохо. Забавно, но мило. Он велел Гретхен сделать вид, будто она толкает сидящую на качелях Мэри. На построение мизансцены ушла пара минут, но в итоге действительно стало казаться, будто качели находятся на пике движения, и Теодор, приказав девушкам не шевелиться, сделал снимок.
– Еще один, – сказала Гретхен.
Он не стал спорить, подготовил камеру, нырнул под черную ткань. И тут Гретхен потянулась и сбила с Мэри шляпку. Мэри покатилась со смеху и откинула голову так, что ее темные волосы рассыпались по плечам. А Теодор, повинуясь внезапно нахлынувшему вдохновению, снял подруг.
Выбравшись из-под ткани, он уставился на свою озорно ухмыляющуюся сестру и на Мэри с распущенными волосами. «Почему я не замечал, как она красива?» – подумал он.
Он предложил им лимонад и печенье с тмином. Они мило поболтали о родных и предстоящем отпуске. Он обхаживал Мэри, а Гретхен бодро озиралась по сторонам. Вдруг ее взгляд наткнулся на книгу стихов.
– Что это, Теодор? – спросила она, и брат улыбнулся.
– Это порочная книга, Гретхен, – предупредил он.
– «Листья травы», – прочла она. – Уолт Уитмен. Где я о нем слышала?
– Он написал стихотворение о войне «Бей! Бей! Барабан!», и пару лет назад оно вызвало некоторый шум. Но эта книжица вышла раньше, и случился скандал. Правда, стихи интересные.
Теодор посмотрел на Мэри и с удивлением обнаружил, что она вспыхнула. Ему стало весьма любопытно, откуда ей известно о гомоэротических стихотворениях Уитмена, так как они, насколько он знал, никогда особо не обсуждались вне литературных кругов. Но он решил не спрашивать. Затем до него вдруг дошло, что она и в нем могла заподозрить соответствующие наклонности, коль скоро он читает такие вещи.
– Уитмен обладает даром, но мне сдается, что Бодлер еще лучше, – сказал Теодор. – Вот послушайте, – улыбнулся он молодым женщинам. – Представьте, что вы на острове. Лето, светит солнце. Вокруг тихо, и слышен только слабый шум прибоя. Стихотворение называется «Приглашение к путешествию».
– Но оно на французском, – возразила Мэри, успевшая взять себя в руки.
– Просто послушайте, как звучит. – И он начал читать: – «Mon enfant, ma sur, Songe la douceur, D’aller l-bas vivre ensemble…»
И Мэри стала слушать. Она смутилась лишь на секунду, когда Теодор упомянул Уолта Уитмена. Не то чтобы она много знала о нем, но вспомнила имя, которое однажды прозвучало в застольной беседе у Мастеров. Поэтому ей было известно, что мистер Уитмен прослыл непристойной личностью. Отчасти она понимала, что это значит, и неожиданно застыдилась, предположив, что Теодор заподозрит ее в осведомленности насчет подобных людей, а потому и покраснела. Но впредь она не собиралась выставлять себя на посмешище, так что сидела очень смирно и слушала.
Раньше Мэри никто не читал стихов, а по-французски и подавно, но ей пришлось признать, что мягкое, чувственное звучание строк и правда напоминает морской прибой, и она подумала, что если бы знала французский, то могла бы найти стихотворение таким же прекрасным, каким оно, очевидно, казалось Теодору.
– Спасибо, Теодор, – вежливо произнесла она, когда тот закончил.
– Позвольте-ка мне до того, как уйдете, – неожиданно скала Теодор, – показать еще кое-что из моих работ.
Мэри не поняла, о чем это он, но, пока Теодор ходил к своим ящикам и вынимал папки, Гретхен объяснила:
– Это значит, Мэри, что нам оказана честь. Теодор зарабатывает фотографией на жизнь, но еще больше дорожит тем, что делает для себя. Он редко об этом заговаривает.
Вернувшись, Теодор разложил перед ними папки. Вскоре эри уже рассматривала снимки, которые разительно отличались от уже знакомых ей портретов. На нескольких фигурировали люди, пара фотографий была сделана крупным планом. Большинство же оказалось гораздо больше альбомного формата. На них были городские улицы и сельские пейзажи. Были этюды с изображениями дворов и переулков, где передавалась игра теней. Были снимки оборванцев и попрошаек. Были фотографии людных доков, бухты и кораблей в тумане.
К иным Мэри не знала, как отнестись: снимки выглядели случайными. Но, глянув на Гретхен и заметив, с каким вниманием она их рассматривает, Мэри сообразила, что в них есть что-то особенное, какое-то необычное, еще не понятное ей построение кадра. На Теодора было тоже странно смотреть. Он остался прежним молодым человеком с широко посаженными глазами, которого она знала давным-давно, но та серьезная сосредоточенность, которая в детстве казалась забавной и милой, преобразилась в нечто новое. В нем появилась напряженная сила, напомнившая Мэри о Гансе, когда тот играл ей на пианино. И, глядя на брата и сестру, которым было ведомо искусство для нее еще чуждое, Мэри испытала желание разделить с ними это знание.
Один снимок особенно поразил ее. Он был сделан на Вест-Сайде, где вдоль Гудзона бежали железнодорожные пути. Сверху нависали тяжелые облака, блестящие края которых как будто повторяли тусклый блеск металлических рельсов. Река, однако, не сверкала, но тянулась за путями, словно гигантская темная змея. По шпалам же – кто близко, кто уже далеко – плелись печальные одинокие фигуры: то были негры, покидавшие город.
Мэри не сомневалась: зрелище было вполне заурядным. Так называемая подземка всегда приводила в Нью-Йорк беглых рабов. Однако нынче, в грохоте Гражданской войны, ручеек превратился в поток. И когда этот наплыв беженцев достигал Нью-Йорка, они большей частью не находили ни работы, ни приюта, а потому в любой день их можно было видеть уходящими по каким-нибудь железнодорожным путям с надеждой сесть в проходящий поезд – в противном случае они просто шагали по рельсам, ведущим далеко на север, надеясь встретить там более теплый прием.
Благодаря жуткому, призрачному освещению, бездушному блеску рельсов и черноте реки фотография безупречно передала безрадостную поэзию зрелища.
– Вам нравится? – спросил Теодор.
– О да, – ответила Мэри. – Это так грустно. Но…
– Резковато?
– Я и не знала, что рельсы… – Ей было не подобрать слов. – Что они могут быть и такими красивыми.
– Ага. – Теодор удовлетворенно взглянул на сестру. – У Мэри зоркий глаз.
Вскоре им пришлось уйти. Но когда экипаж повез их к парому на юг, Мэри повернулась к подруге со словами:
– Гретхен, я тоже хочу разбираться в фотографии, как ты.
Гретхен улыбнулась:
– Теодор меня немного поучил, вот и все. Могу, если хочешь, кое-что показать.
Паром отчалил близ Бэттери-Пойнт, и путешествие заняло пару часов. В погожий день было здорово пересечь верхний угол огромной бухты, где корабли входили в Ист-Ривер. Оттуда они проследовали по огромной кривой бруклинского побережья, направляясь к проливу между Бруклином и Стейтен-Айлендом, и постепенно выплыли на просторы Нижней бухты.
Когда паром проходил мимо небольшого форта, который располагался почти на самом бруклинском берегу, один из пассажиров сказал:
– Это форт Лафайет. Там заперта целая толпа южан. Президент удерживает их без всякого суда и следствия.
Впрочем, джентльмен так и не дал понять, одобряет он такое попрание прав южан или нет.
Ни Гретхен, ни Мэри не было в тот момент дела до судьбы пленных. Соленый атлантический бриз ударил в лицо, паром волнующе закачался на зыбких водах, и они впервые различили на юго-востоке широкий песчаный берег – пункт своего назначения.
Кони-Айленд.
Ссора Фрэнка Мастера с женой произошла на следующий день в полном согласии с его замыслом. Он вернулся домой в четыре часа пополудни и нашел ее в гостиной.
– Том здесь? – бодро осведомился он. Ему было сказано, что нет. – Ну, не важно, – произнес он с улыбкой, – все улажено. Его не призовут. Выложил триста долларов и получил квитанцию. Потом прогулялся на окраину взглянуть, как идет призыв. Проблем не предвидится.
Хетти приветствовала эту новость гробовым молчанием.
На протяжении двух лет вооруженного конфликта между северными и южными штатами Америки все полки Союза состояли из добровольцев. Президент Линкольн был вынужден объявить призыв лишь недавно. Имена годных к службе мужчин переписали и поместили в большую бочку, отбор осуществлялся путем жеребьевки.
Конечно, если не было денег. Если они водились, то такой человек посылал вместо себя бедняка или платил триста долларов властям, а те подыскивали замену.
Фрэнку Мастеру это казалось вполне разумным. А молодому Тому тем более, черт побери, поскольку он не испытывал никакого желания отправляться на поле боя.
Если европейский высший класс гордился своей боевой доблестью, то богатые люди северных штатов Америки не питали таких иллюзий. Английские аристократы и джентльмены, особенно младшие сыновья, ломились в полки, платили за офицерские патенты. Они щеголяли в парадных мундирах и считали себя бравыми ребятами. Разве не были они – фактически или хотя бы в теории – потомками баронов и рыцарей средневековой Англии? Аристократ не торговал. Не оформлял завещаний и не лечил. Господь запрещал. Это было уделом средних классов. Аристократ жил на земле и вел своих людей в бой. Эта традиция в какой-то мере отдавалась эхом и в Америке, в старых плантаторских семьях южнее Виргинии. Но не в Бостоне, не в Коннектикуте и не в Нью-Йорке. Ну его к дьяволу! Заплати – и пусть погибает бедняк.
Бедняки это, разумеется, знали.
«Это война богатых и сражение бедных», – жаловались те, кто не мог позволить себе выкуп. И городские власти опасались, что призыв может вызвать известные волнения.
Соответственно тем самым субботним утром они предпочли начать отбор в штаб-квартире Девятого района. Это одинокое здание стояло среди пустырей на пересечении Третьей авеню и Сорок седьмой улицы, вдали от основного массива города. Фрэнк Мастер пошел взглянуть и обнаружил большую толпу, которая наблюдала за тем, как чиновник вытягивает из бочки имена. Но люди стояли спокойно. И вскоре чиновник с видимым облегчением объявил, что на сегодня все и следующая жеребьевка пройдет в понедельник.
– Вид у тебя не особо довольный, – заметил Фрэнк Хетти, но жена продолжала молчать. – Ты и правда хочешь, чтобы Том пошел на эту идиотскую войну? Сам-то он, будь уверена, желанием не горит.
– Он должен сделать выбор самостоятельно.
– Он и сделал, – твердо ответил Мастер тоном, в котором звучало: «Так что ты в меньшинстве».
Если отношения между Фрэнком и Хетти Мастер были натянутыми во времена речи Линкольна в Куперовском институте, то дальнейшие события их не улучшили. Линкольн стал кандидатом от республиканцев и умело выстроил свою кампанию.
– Во что бы ни верила твоя мать, – объяснил Фрэнк юному Тому, – правда в том, что северяне против рабовладения в принципе, но оно их не возбуждает. Линкольн может использовать тему рабства в своей платформе, но знает, что с этим не победит.
Когда приблизились выборы 1860 года, республиканский девиз звучал так: «Свободная земля, свободный труд, свободные люди». При содействии правительства трудолюбивые северяне установят контроль над западными землями, проложат железные дороги и разовьют промышленность, оставив позади южан, чья нравственность пребывает ниже из-за поддержки рабовладения.
– Он предлагает свободное землепользование при поддержке правительства, – сухо заметил Фрэнк. – Отличная приманка!
Кандидаты шли ноздря в ноздрю, но Линкольн проскочил. Северная часть штата Нью-Йорк проголосовала за республиканцев, но только не жители демократического города Нью-Йорк: они провалили Линкольна, ибо он, по какому бы списку ни баллотировался, намеревался ссориться с Югом. А поскольку от Юга зависело благосостояние купцов, постольку от него зависело и наличие рабочих мест. В Таммани-холле это знали. Мэр Фернандо Вуд тоже знал и сказал об этом во всеуслышание. Он заявил, что если Линкольн хочет поставить под угрозу рабочие места в городе, то пусть идет к черту.
Трудящиеся Нью-Йорка тоже не до конца разобрались в своем отношении к республиканцам. Свободные фермеры-республиканцы с их представлениями о личном труде и самопомощи не были товарищами рабочим профсоюзам, чья сила была лишь в численности. Рабочие заподозрили и кое-что еще. «Если Линкольн возьмет верх, то здесь появятся миллионы вольных чернокожих, которые будут работать за гроши, – они так и хлынут на север, чтобы украсть наши места. Нет уж, спасибо».
У Хетти Мастер такая позиция вызывала отвращение. Фрэнк, напротив, отнесся к этому с пониманием. Подтвердились и его страхи насчет раскола.
20 декабря 1860 года Союз покинула Южная Каролина. За ней один за другим последовали штаты с глубинки Юга. К февралю 1861 года они сформировали Конфедерацию и выбрали собственного президента. Другие южные штаты не пошли на столь резкий шаг. Но отделившиеся штаты теперь усмотрели интересную возможность. «Если Союз разваливается, – заявили они, – то можно и не платить по счетам богатым ребятам из Нью-Йорка». Горя желанием найти компромисс, из Нью-Йорка в Вашингтон отправились делегации купцов, как демократов, так и республиканцев. Линкольн встретился с ними, но не удовлетворил никого.
Однако главной угрозой для Нью-Йорка стал мэр Фернандо Вуд. Если Линкольну угодно воевать с Югом и разорять город, то Нью-Йорку нужно обдумать другой выход.
– Мы сами отделимся от Союза, – заявил он.
– Нью-Йорк покинет Соединенные Штаты? – вскричала Хетти.
– Не совсем, – ответил Фрэнк.
Вольный город, беспошлинный порт – идея не новая. Такие великие европейские города, как Гамбург и Франкфурт, еще со Средних веков действовали в качестве независимых государств. Нью-йоркские купцы несколько недель обдумывали осуществимость такой возможности, а конец этому положила Конфедерация: в марте южане сделали свой ход и объявили, что южные порты слагают с себя таможенные обязательства по сбору пошлин.
– Нас вычеркивают, – мрачно сказал родным Фрэнк. – Будут торговать с Британией напрямую.
После этого выхода не осталось. Нью-Йорк нехотя подчинился Линкольну. В следующем месяце конфедераты атаковали форт Самтер, чем положили официальное начало Гражданской войне. Линкольн привел аргумент: либо бунт Юга будет подавлен, либо построенному отцами-основателями Союзу штатов наступит конец. Союз должен быть сохранен.
Поскольку хорошие манеры способны защитить брак, а Фрэнк все еще питал к Хетти нежные чувства, он приложил все усилия, чтобы вести себя вежливо и ни единым словом не огорчать жену. Но Хетти пришлось труднее. Она любила Фрэнка, но что делать женщине, когда ее муж ежедневно взирает на великое зло и в ус не дует при всей своей вежливости? Примирению не способствовала и его реплика «А я тебе говорил», невольно оброненная после того, как началась война и Юг вознамерился отделиться. В первый год Гражданской войны Фрэнк и Хетти еще терпели друг друга, но уже не рассматривали карты и не обсуждали будущее. А вечерами они, предпочитая раньше сидеть на диване рядышком, молча рассаживались по отдельным креслам и читали. Хорошие манеры прикрывали, но не могли потушить тлеющий гнев.
А иногда не помогали и манеры.
Сегодня он нарочно досадил ей, швырнув в лицо новость о призыве.
– Ты ненавидишь эту войну, потому что думаешь только о прибыли, – холодно сказала Хетти.
– Вообще говоря, эта война сделала меня богаче, – хладнокровно возразил он.
Его и многих других. Отчасти дело было в везении. После нескольких ужасных месяцев 1861 года, когда обвалилась торговля с Югом, судьба сделала Нью-Йорку неожиданный подарок. В Британии случился неурожай – в отличие от Среднего Запада, где урожай выдался небывалый. Через город потекли огромные партии пшеницы, предназначенные для Англии. Гудзонская железная дорога и старый добрый канал Эри сотню раз доказали свою чрезвычайную важность. С тех пор городская зерноторговля процветала, как и торговля скотом, сахаром и пенсильванской нефтью для производства керосина.
Но главное, Фрэнк Мастер открыл для себя истину, известную его предкам из века минувшего: война является благом для бизнеса. Городские металлургические заводы трудились вовсю, занятые починкой броненосцев и других военных кораблей; фирма «Братья Брукс» шила мундиры тысячами. А кроме того, правительство военного времени нуждалось в колоссальных займах. Уолл-стрит сколачивала состояние на государственных облигациях. Даже Фондовая биржа переживала бум.
Хетти проигнорировала его реплику и снова двинулась в наступление:
– Твои дружки-рабовладельцы проигрывают.
Была ли она права? Возможно. Даже после того, как с Югом связали свою участь колеблющиеся штаты вроде Виргинии, силы были безнадежно неравными. Если взглянуть на ресурсы сторон, живую силу, промышленность и даже сельское хозяйство, то Юг выглядел карликом по сравнению с Севером. Стратегия Севера была проста: задушить Юг в блокаде.
Однако Юг не терял надежды. Он располагал отважными войсками и отличными генералами. При Булл-Ране в начале войны Джексон Каменная Стена сразился с войсками Союза и вынудил неприятеля бежать чуть ли не до самого Вашингтона. Генерал Роберт Ли был военным гением. К тому же войска Союза бились за то, чтобы навязать свою волю соседям, а южане сражались на собственной территории, защищая свое. Если Югу удастся продержаться достаточно долго, то Север, может быть, пригорюнится и оставит его в покое. Правда, в прошлом году Ли, неся ужасающие потери, отступил, будучи разбит в сражении при Антиетаме, а генерал Грант только что сокрушил конфедератов при Геттисберге, но это был еще не конец. Далеко не конец.
– Север может победить, – согласился Мастер, – но такой ценой, что стоит ли? При Шайло произошла настоящая бойня. Погибли десятки тысяч. Юг разрушается. И ради чего?
– Чтобы люди жили свободными, как заповедует Господь.
– Рабы-то? – Фрэнк покачал головой. – Вряд ли. Линкольн не одобряет рабства, я этого не отрицаю, но он решился на войну, чтобы сохранить Союз. Он дал это понять совершенно ясно. Он даже прилюдно заявил: «Если бы я мог спасти Союз, не освободив при этом ни одного раба, я сделал бы это». Его слова! Не мои. – Он выдержал паузу. – Чего хочет Линкольн для рабов? Кто его знает. Судя по тому, что я слышал, его основная идея заключается в том, чтобы подыскать свободную колонию в Африке или Центральной Америке и сослать всех освобожденных рабов туда. Тебе известно, что на самом-то деле он в лицо заявил делегации чернокожих, что не желает видеть черномазых в Соединенных Штатах?
Фрэнк знал, что честно подобрал он доводы или нет, а каждый нес в себе долю истины, и это еще пуще распалит Хетти.
– Он имеет в виду совершенно другое! – выкрикнула она. – Как насчет Прокламации?
Мастер улыбнулся. Прокламация об освобождении. Ловкий ход Линкольна. Она, конечно, полюбилась аболиционистам, как он и рассчитывал. Он провозгласил ее в прошлом году, а этой весной повторил. Сообщил всему миру, что рабы Юга будут освобождены.
Или нет?
– А ты, дорогая, вдумывалась в то, что действительно сказал наш президент? – осведомился Фрэнк. – Он угрожает освободить рабов во всех штатах, где продолжится мятеж. Это торг. Он говорит конфедератам: «Прекратите, иначе я освобожу ваших рабов». Однако его Прокламация подчеркнуто не касается всех тех рабовладельческих округов, которые уже примкнули к Союзу. Бог знает, сколько тысяч рабов сейчас находится в ведении Линкольна! Но из них он не освобождает никого. Ни единой души. – Фрэнк победоносно взглянул на Хетти. – Вот тебе и герой аболиционистов!
– Подожди до конца войны, – возразила она. – Тогда и увидишь.
– Может быть.
– Ты ненавидишь его только за то, что он человек с моральными принципами.
Фрэнк пожал плечами:
– Принципами? Какими принципами? Он без суда и следствия держит людей в форте Лафайет. Habeas corpus[41] для него – пустой звук. Он бросил людей в тюрьму за то, что они писали против него статьи. Похоже, что и о деле Зенгера наш президент-юрист ничего не слышал. Я скажу тебе, кто такой твой приятель Линкольн – циничный тиран.
– Медянка!
Ядовитая змея. Словечко Линкольна для тех, кто сомневался в надобности войны.
– Если ты говоришь о том, что я считаю, будто этой войны можно было избежать, и предпочитаю мирные переговоры, ты абсолютно права, – произнес Фрэнк угрожающе тихо. – И я не одинок. Думаешь, что из-за этого я злодей? На здоровье. – Он чуть помедлил и вдруг заорал: – Но я хотя бы не посылаю сына на бессмысленную смерть! В отличие, насколько я понимаю, от тебя! – Он резко развернулся.
– Это несправедливо! – крикнула Хетти.
– Я в контору! – гаркнул он через плечо. – Не жди!
Через несколько секунд он пулей вылетел из дому. И только пробежав половину Ирвинг-плейс, он замедлил шаг и позволил себе кривую улыбку.
Все прошло, как было задумано.
Мэри всматривалась в океан. Слабый ветер играл волосами, позади вкрадчиво шелестела морская трава. Низкие волны прибоя с легким шипением разбивались, вылизывая песок пенными языками.
На мили западнее слегка возвышался южный берег Стейтен-Айленда. Впереди раскрывалась в бескрайние океанические просторы Нижней бухты.
– Идем в Пойнт[42], – позвала Гретхен.
Было субботнее утро. Большинство посетителей выходного дня еще не прибыли, и на длинной береговой полосе виднелись лишь несколько человек. Воскресные экскурсии по дюнам и побережью стали возможны с двадцатых годов, когда зазор между Кони-Айлендом и большим островом был перекрыт ракушечной дорогой.
Посреди Кони-Айленда возникла кучка маленьких отелей и постоялых дворов в гонтовом стиле, сдававшихся почтенным семействам, которые приезжали на неделю-другую пожить в тишине и насладиться морским воздухом. Здесь побывало несколько знаменитостей: Герман Мелвилл, Дженни Линд и Сэм Хьюстон, но в общем и целом модная публика не приняла это место, и оно сохранило свою неброскую прелесть. Открыв для себя Кони-Айленд, сюда обычно возвращались. Полдюжины постояльцев отеля, в котором остановились Гретхен и Мэри, наезжали туда ежегодно.
На широкой веранде они съели сытный завтрак из яиц, блинчиков и сосисок, после чего отправились на прогулку.
Западная оконечность острова была единственным местом на Кони-Айленде, где подняла голову вульгарность. Несколько лет назад пара зорких дельцов решили открыть там небольшой развлекательный павильон с напитками для тех, кто только сходил с парома. С тех пор там развелось изрядно шулеров, жулья и прочих нежелательных личностей. В отеле притворялись, будто ничего не замечают, – и в самом деле, из поселения их не было ни видно, ни слышно. Но Гретхен и Мэри с большим удовольствием провели там полчаса, рассматривая тех, кто торговал леденцами или предлагал сыграть в «три листика».
Оттуда они пошли по той стороне острова, что обращалась к суше, пока не добрались до ракушечной дороги.
При взгляде через Ист-Ривер с Манхэттена Бруклин теперь выглядел оживленным местом – верфи, склады и фабрики на берегу, жилой район на Бруклинских высотах. В 1776 году, когда там разбили лагерь британские «красные мундиры», население Бруклина насчитывало менее двух тысяч человек. Теперь оно превысило сто тысяч. Да что говорить, подумывали даже устроить на возвышенностях зону отдыха под названием Проспект-парк. Но если пройти дальше, то за высотами открывался сельский простор протяженностью в полдюжины миль, а то и больше, усеянный городками и голландскими деревушками, которые едва ли изменились с XVIII века.
И поэтому Мэри, оглянувшись на ракушечную дорогу и дальше, через открытые, продуваемые ветрами дюны, болота и поля в сторону невидимого города, невольно сказала с улыбкой:
– Как в другом мире!
После этого они вернулись на побережье и, впитывая морской воздух, больше часа шли вдоль бесконечного Брайтон-Бич на восток. В гостиницу они пришли уже за полдень и здорово проголодались.
– Не ешь слишком много, – посоветовала Гретхен, – а то уснешь.
– Ну и пусть! – ответила Мэри, расхохоталась и принялась за второй кусок яблочного пирога, вынудив Гретхен последовать ее примеру.
На лужайке перед гостиницей стояли плетеные кресла, в которых они немного посидели. Ветер стих, припекло солнце, и они прикрылись соломенными шляпками.