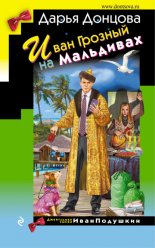Мечта для нас Коул Тилли

Малышка. В последнее время он так меня называл, и я полюбила это ласковое обращение так же сильно, как любила Кромвеля.
– Нормально.
Я потерла грудь.
Кромвель взял с прикроватной тумбочки стетоскоп.
– Можно мне послушать?
Я кивнула. Кромвель приложил холодный стетоскоп к моей груди и закрыл глаза. Я наблюдала, как они движутся под опущенными веками. Интересно, что он сейчас видит, какие цвета и формы? Затем юноша сунул руку в карман, достал маленький микрофон и приложил его к оливе стетоскопа. Несколько минут он стоял неподвижно, потом открыл глаза и слегка запрокинул голову. Не дожидаясь, пока я попрошу, он нажал на кнопку воспроизведения. Я дышала носом, втягивала кислород в легкие и слушала, как затрудненный стук моего слабого сердца эхом отдается в комнате.
Мое сердце прямо-таки пело о том, что вот-вот откажет.
– Запиши сердце Истона, – предложила я. Кромвель выглядел озадаченным, но сделал, как я просила. Биение было сильным, я в этом не сомневалась.
– А теперь свое. Хочу услышать стук твоего сердца.
Кромвель приложил головку стетоскопа к груди, там где было сердце, но на этот раз не стал записывать, а вложил мне в уши оливы прибора. Услышав, как бьется его сердце, я улыбнулась.
Этот стук показался мне музыкой.
– Чудесно, – проговорила я.
Я могла слушать это размеренное «тук-тук-тук» весь день напролет.
Три дня спустя…
– Куда мы идем? – спросила я, когда Кромвель помогал мне сесть в инвалидное кресло. Около часа назад Клара зашла в мою комнату и отсоединила меня от капельницы, снабжавшей меня питательными веществами. Еще она подсоединила к моей носовой трубке маленький кислородный баллон и помогла мне одеться.
Кромвель подкатил кресло к двери. Мы проехали мимо моих папы с мамой, и мне даже показалось, что у меня участился пульс.
– Только недолго, хорошо? – предупредила мама Кромвеля.
– Знаю. Я прослежу, чтобы она не перенапряглась.
– Что происходит?
Кромвель присел на корточки передо мной и легко прикоснулся к моей щеке.
– Мы с тобой пойдем подышать свежим воздухом.
Мой рот приоткрылся, когда распахнулась входная дверь, и мы выехали в объятия солнечного дня. На меня надели толстый черный свитер Кромвеля, куртку, а сверху еще укрыли одеялом, но мне было наплевать. Пусть я выгляжу смешно, зато я выбралась из дома.
Я оказалась снаружи.
Кромвель подкатил кресло к дорожке и остановился. Неужели он понял, что мне хочется подставить лицо легкому ветерку, услышать пение птиц?
Юноша наклонился и прошептал мне на ухо:
– Ты готова?
– М-м-м.
Кромвель подвез меня к своему пикапу, усадил на пассажирское сиденье и нежно поцеловал в губы.
Пока он закрывал дверь, обходил вокруг машины и садился за руль, я чувствовала, как покалывает губы после этого легкого поцелуя. Парень взял меня за руку, другую руку положил на руль, и мы медленно двинулись по улице по направлению к городу.
Я смотрела в окно, вбирая взглядом проплывающий за стеклом мир. Как же я любила этот мир! Я любила жизнь. Вряд ли люди задумываются о таком в суете дней, но я в последнее время постоянно возвращалась к этим мыслям.
Мне страстно хотелось жить. Хотелось воспользоваться открывавшимися передо мной возможностями, хотелось увидеть другие страны, которые я до сих пор знала только по книгам и фильмам. Юноша сжал мою руку. Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Я хотела услышать музыку, которую в будущем напишет Кромвель, хотела быть рядом с ним и своими глазами увидеть, как его работа воплотится в жизнь.
Машина свернула направо, на сельскую дорогу, которая вела к озеру. Вскоре мы оказались в парковой зоне, и я увидела деревянный причал, а у дальнего его конца – маленькую деревянную лодку, по обеим сторонам которой лежали весла.
Я так растрогалась, что кровь чуть быстрее потекла по венам. Я повернулась к Кромвелю.
– Лодка…
Юноша кивнул и поправил ворот своего черного свитера, выглядывавший из-под кожаной куртки. До чего же он красивый.
– Ты говорила, что хочешь побывать у озера.
Я просто растаяла: он запомнил мои слова и решил меня порадовать. И все же в глубине моей души притаился страх: Кромвель же говорил, что мы поедем к озеру после того, как для меня найдется сердце. Когда мне станет лучше.
Я не дура, да и Кромвеля нельзя назвать глупым.
Дни проходили за днями, и с каждой минутой я все больше слабела.
Возможно, донор так и не найдется, а это значит, что эта поездка вообще могла не состояться. Кромвель пристально смотрел на меня, и под его взглядом у меня задрожали губы, стало очень страшно.
Юноша быстро наклонился и прижался своим лбом к моему.
– Я все еще верю, что ты получишь сердце, малышка, мне просто хотелось порадовать тебя уже сейчас, вывести из дома хотя бы ненадолго. Я не теряю надежду.
Искренность в его голосе помогла мне справиться со сковавшим тело ужасом.
– Хорошо, – прошептала я в ответ.
Кромвель снова поцеловал меня и вышел из машины. Мне так нравились его поцелуи. Когда юноша открыл дверь и холодный воздух проник в салон, я зажмурилась и какое-то время просто дышала. Пахло зеленой листвой и свежестью озера.
И, разумеется, я ощущала запах Кромвеля: его кожаной куртки, его одеколона, слабый дух сигарет.
– Готова?
Я улыбнулась и кивнула. Парень поднял меня на руки и взял кислородный баллон. Мы медленно пошли по причалу, но я почти не смотрела на озерную гладь. Вместо этого я разглядывала Кромвеля. Любовалась его смуглой кожей, четко очерченными скулами, синими глазами с длинными черными ресницами.
Несмотря на физическую слабость, сердце мое преисполнилось сил. Уверена, в нем навсегда отпечатался образ Кромвеля, и этого уже ничто не изменит. Очевидно, почувствовав взгляд, он повернулся ко мне, но я совершенно не смутилась.
– Ты такой красивый, – пролепетала я, но бриз унес мои слова.
Кромвель остановился как вкопанный, на миг зажмурился, а потом наклонился и снова меня поцеловал. В груди забили крыльями тысячи бабочек. Когда юноша отстранился, я убрала руку с его шеи и погладила по щеке, без слов рассказывая о своих чувствах.
В конце концов, для любви слова не нужны.
Кромвель шагнул в лодку, и та слегка качнулась, когда он усадил меня на банку[4]. Я подалась вперед и глубоко вздохнула. Кромвель укрыл меня одеялом, потом взялся за весла.
– Ты… знаешь, что нужно делать? – поинтересовалась я.
От его широкой улыбки захватывало дух, а мне и так было трудно дышать.
– Думаю, надо грести.
Мы отошли от причала. Кромвель быстро приноровился управляться с веслами, и мы заскользили вперед, оставляя за собой расходящиеся по водной глади круги. Я улыбнулась. Кромвель поймал мой взгляд и подмигнул. Не удержавшись, я рассмеялась. Звук скорее походил на хрип, но это не помешало мне наслаждаться моментом.
Я решила, что такой Кромвель нравится мне больше всего: свободный, не скованный своими внутренними стенами. Юноша посмотрел на берег, туда, где росла густая роща – она словно звала, заманивала в маленький, созданный лишь для нас двоих мир. Происходящее вдруг потрясло меня до глубины души. Подумать только: этот английский парень, принц мира электронной музыки, сейчас здесь, рядом со мной. Парень, рожденный с музыкой в сердце и симфонией в душе, сейчас на моем любимом озере, в одной лодке со мной, работает веслами так, словно это в порядке вещей.
До встречи с Кромвелем я не хотела никого впускать в свою жизнь из страха, что не сумею выжить. Однако сейчас я была вместе с ним, а он стал моим веслом, помогал плыть по этому озеру, и я знала: наша встреча предопределена свыше.
Какое-то время мы молчали, слушая пение птиц и плеск воды под веслами. Вот какая-то пташка вывела особо звонкую трель, и я вопросительно посмотрела на юношу.
– Горчично-желтый, – сказал он.
Я улыбнулась и взглянула на гонимый ветром сухой лист: бедняга почти коснулся воды, но порыв ветра подхватил его и понес вдаль.
– Бронзовый, – усмехнулся Кромвель.
Ноги начали замерзать, и я плотнее закуталась в одеяло, закрыла глаза и стала слушать горчично-желтую мелодию с вкраплениями бронзового.
Вдруг совсем рядом заиграла Симфония № 4 Моцарта, и я открыла глаза. Парень перестал грести и положил на банку свой мобильный телефон.
Я словно вновь перенеслась в ту ночь в Брайтоне, когда мы с Кромвелем впервые встретились. Тогда, покинув ночной клуб, я отправилась на пляж. Всегда любила воду, есть что-то величественное в том, как волны набегают на берег. В Англии море холодное и неспокойное даже летом.
Тогда я слушала Моцарта, концерт для кларнета с оркестром, и умиротворяющая мелодия совершенно не вязалась с тем, что видели мои глаза. Кромвель Дин, взбудораженный, как разбивающиеся о берег волны, брел по пляжу с бутылкой виски в руке. Услышав льющуюся из моего телефона мелодию, он вскинул голову, посмотрел на меня, и в его глазах плескалась тревога. Теперь же…
– Моцарт? – спросила я и улыбнулась.
Очевидно, Кромвель тоже вспомнил о нашей первой встрече.
– Мы с Амадеем пришли к взаимопониманию.
– Неужели?
Юноша кивнул:
– Мы с ним снова друзья.
– Хорошо, – ответила я, прекрасно понимая, что за этим словом кроется глубокий смысл. Кромвель снова полюбил классическую музыку. Я склонила голову и, дождавшись, когда в мелодии возникнет пауза, спросила:
– Что ты намерен делать со своей жизнью, Кромвель?
Юноша потянулся ко мне и взял за руку. Мне показалось, что это прикосновение придает мне сил. Мимо нас проплыл одинокий гребец в старинном каноэ.
– Я всегда его здесь вижу. – Кромвель крепче стиснул мою руку. – Хочу создавать музыку – это все, чего мне когда-либо хотелось. – Он усмехнулся. – Ни к чему другому у меня нет способностей.
Я отчаянно жалела, что из-за затрудненного дыхания могу говорить лишь короткими, еле слышными фразами. Мне так хотелось сказать, что никакие другие таланты Кромвелю не нужны, потому что такой способности творить музыку нет больше ни у кого. Его музыка божественна. Это его предназначение.
– Мне нравится электронная музыка, но нужно сочинять и классическую. – Юноша закусил губу. – Мне просто хочется играть и сочинять. Неважно, что именно и для какой цели – я просто хочу, чтобы в моей жизни была музыка. Я люблю электронную музыку, но она не идет ни в какое сравнение с тем, что дает мне классика. – Он кивнул мне. – Ты была права. Классическая музыка может рассказать историю без слов, изменять души людей, вдохновлять их. – Он вздохнул, словно на миг его мятежная душа обрела покой. – Когда я играю что-то из классики, когда сочиняю… это что-то значит. Придает моей жизни смысл.
Он посмотрел на меня и умолк, словно хотел сказать что-то еще, но потом передумал.
– Что? – Я дернула его за рукав.
Юноша пристально посмотрел мне в глаза и проговорил:
– Льюис недавно предложил мне выступить вместо него на большом концерте в Чарльстоне. Написать музыку и самому выступить в качестве дирижера.
У меня округлились глаза. Если бы мое сердце могло биться быстрее, оно пустилось бы галопом. Кромвель повесил голову, как будто моя реакция его смутила.
– Нужно написать симфонию. – Он набрал в легкие побольше воздуха, и я увидела в его глазах страдание. Он три года мучился чувством вины из-за своего отца, и теперь воспоминания давили на него тяжким грузом. – Времени на подготовку осталось мало, но…
Он мог это сделать. Я не сомневалась: в сердце Кромвеля уже зреет симфония, нужно лишь выплеснуть ее.
– Ты обязательно должен участвовать. – Я вспомнила ту старую видеозапись выступления маленького Кромвеля. Музыка давалась ему так же естественно, как дыхание, а теперь его потребность в ней лишь усилилась. – Ты должен это сделать.
Собрав последние силы, я подалась вперед и накрыла его щеку ладонью.
Кромвель смотрел на меня:
– Я не хочу тебя оставлять.
«Вдруг у нас осталось совсем мало времени?» Я видела эту мысль так же ясно, как он сам видел цвета, слушая музыку. Я подумала о концерте: он уже скоро, но для меня – бесконечно далеко. Если донор не найдется, я не смогу присутствовать там, потому что меня больше не будет.
Забавно. Мое сердце умирает, и при этом оно никогда не болело. Но в этот миг я не сомневалась: оно плакало, зная, что, возможно, я не увижу Кромвеля Дина на сцене, для которой он был рожден.
– Ты… должен участвовать.
Даже если я не доживу до концерта, я буду смотреть на него с небес вместе с его отцом. Мы вместе увидим, как юноша, которого мы так любим, покоряет сердца и умы слушателей.
Кромвель посмотрел на одинокого каноиста. Гребец молча кивнул нам и проплыл мимо. Кромвель смотрел ему вслед.
– А ты? – спросил он. – Что ты намерена делать со своей жизнью?
Он отвел от моего лица прядь волос. Мне показалось, что это лишь повод лишний раз прикоснуться ко мне, и от этой мысли моим промерзшим костям стало чуточку теплее.
– Моя страсть – это тексты… Всегда хотела этим заниматься. – Я с трудом перевела дух. – Хочу слышать, как люди поют придуманные мной слова. – До недавнего времени это была лишь несбыточная мечта, но вот она осуществилась. Я крепче сжала пальцы юноши. – Ты уже помог мне сделать мечту реальностью.
У меня была и более грандиозная мечта, но лишь сейчас я поняла, насколько она недостижима. Кто-то сочтет ее простенькой или незначительной, но для меня она значила невероятно много.
– Бонни?
– Еще мне бы хотелось… выйти замуж, – проговорила я. – Родить детей. – У меня задрожала нижняя губа. Даже если сердце найдется, мне будет сложно завести семью. Заботиться о детях после такой операции вдвойне трудно, но я знала: если выживу, непременно рискну. Я ощутила, как на глаза наворачиваются слезы. – Мне хотелось бы всегда быть влюбленной… и всегда быть любимой. – Я через силу улыбнулась. – Теперь это моя мечта.
Когда над тобой зависает угроза смерти, начинаешь понимать, что твои подлинные мечты не так уж и грандиозны, и все они сводятся к одному: любви. Материальные ценности и амбициозные цели меркнут, как умирающие звезды, а любовь остается. Цель человеческой жизни – любовь.
Кромвель усадил меня к себе на колени. Я прижалась к его груди, и какое-то время мы сидели неподвижно.
– Кромвель.
– Да?
– Ты должен выступить на этом концерте.
Юноша напрягся, потом проговорил:
– Я выступлю, если ты взамен тоже кое-что пообещаешь. – Я посмотрела ему в глаза. Кромвель ждал меня. – Если ты пообещаешь быть на этом концерте.
Мне не хотелось давать такое обещание, потому что шансы на благополучный исход стремились к нулю. Мысль о скором конце меня ужасала. Но потом я вспомнила, как три недели назад поникший Кромвель сидел за пианино, измученный потребностью играть и всецело отрекающий ее. Нельзя так с ним поступать.
– Обещаю, – сказала я дрожащим голосом. Кромвель выдохнул, и я поняла, что он задержал дыхание, ожидая моего ответа. – Обещаю.
Он взял меня за руку и поочередно поцеловал каждый палец, потом – щеки, лоб и нос. Он держал меня так бережно, будто я того и гляди, как вода, утеку сквозь его пальцы, развеюсь по ветру, точно дым.
Снова запела птица.
– Кромвель? – спросила я. – У кого из твоих родителей синестезия? У мамы или у папы?
Юноша сдвинул темные брови.
– Что ты имеешь в виду?
– Это же наследственное, разве нет?
Кромвель изумленно посмотрел на меня и покачал головой.
– Не может быть. – Он задумчиво скользнул взглядом по водной глади. – У мамы ее нет, и у папы точно не было.
Я нахмурилась, мне вдруг стало не по себе.
– Наверное, я что-то перепутала.
Вообще-то я не сомневалась, что права, только не знала, как объяснить это Кромвелю.
Юноша погрузился в глубокую задумчивость. Я согревалась в его объятиях, слушала Моцарта и представляла, как Кромвель выйдет на сцену. Грудь заболела, и я потерла ее. Юноша снова посадил меня на прежнее место и стал направлять лодку к причалу, но с каждой секундой мне становилось все хуже.
Левая рука онемела, и меня охватила паника. Наконец мы были у причала.
– Бонни?
Кромвель накинул петлю на деревянную сваю мостков, а в следующий миг боль стала такой сильной, что я согнулась пополам. Левую половину тела я теперь не чувствовала. Попыталась правой рукой ухватиться за левую, но никак не могла сделать вдох.
– Бонни! – Голос Кромвеля доносился откуда-то издалека. Мир накренился. Открыв глаза, я увидела над собой кроны деревьев, сквозь которые пробивались солнечные лучи. Шорох сухих листьев стал громче, а птичьи трели теперь гремели, как опера. Потом надо мной наклонился Кромвель, в его огромных глазах плескалась паника. – Бонни! Малышка!
– Кромвель, – попыталась ответить я, но силы покинули меня. Все вокруг поблекло, окрасившись в серый. И, что хуже всего, куда-то пропали все звуки: мир погрузился в тишину.
Я хотела сказать Кромвелю, что люблю его, но не успела: наступила тьма.
А потом тяжелая тишина сдавила меня в холодных объятиях.
Глава 22
Кромвель
– Бонни! Бонни! – кричал я.
Девушка вся обмякла, схватилась правой рукой за левое предплечье, и ее глаза стали закрываться. Паника захлестнула меня бурлящим потоком.
Бонни перевела на меня помутневший взгляд, в ее глазах промелькнул страх, а потом они закрылись.
– Нет! НЕТ! – заорал я и схватил ее за руку, нащупывая пульс. Пульса не было. Я не думал, действовал инстинктивно. Подхватив ее на руки, я вытащил девушку из лодки так быстро, как только мог, и положил на дощатый причал, потом стал давить на ее грудную клетку и делать искусственное дыхание – отец научил меня оказывать первую помощь много лет назад.
– Давай же, Бонни, – шептал я.
Пульс не появлялся, и казалось, что кровь леденеет у меня в жилах.
Я продолжал давить и вдувать воздух, как вдруг ко мне кто-то подбежал.
– Позвоните в «Скорую»! – закричал я, не прекращая делать Бонни массаж сердца. Она должна жить. Она не может умереть. – Скажите, что у нее сердечная недостаточность.
Скорее!
Все вокруг словно подернулось туманом. Я двигался как заведенный, а потом кто-то оттащил меня от Бонни. Я отбивался и рвался обратно, затем опомнился.
Над девушкой склонились медики.
– У нее сердечная недостаточность, – выдохнул я, наблюдая, как Бонни поднимают и укладывают на каталку. Я вскочил, помчался следом, запрыгнул в «Скорую» и, замерев, смотрел, как врачи пытаются реанимировать девушку.
Ее рука свесилась с каталки, и я видел только эту безвольную веточку. Всего несколько минут назад эта рука сжимала мою ладонь. Двери «Скорой» начали закрываться, и, подняв глаза, я увидел, что одинокий гребец исчез.
Машина рванулась с места, и все время, пока мы ехали в больницу, я смотрел на руку Бонни. Я позвонил ее родителям. Не помню, что я им сказал. Я бежал за каталкой по больничным коридорам, а доктора и медсестры вились вокруг девушки, как хлопотливые пчелы. Я слышал сигналы аппарата, поддерживавшего жизнь в ее хрупком теле. Слышал стук собственного сердца. Цвета атаковали меня шрапнелью, больно ударяя по сознанию. Эмоции наваливались все сильнее, так что под конец я едва мог вздохнуть. Я стоял у стены, по-прежнему не спуская глаз с руки Бонни, все так же свисавшей с каталки. Мне хотелось ухватиться за эту руку, чтобы Бонни знала: я здесь, жду, что она проснется.
– Нет! – зазвенел у меня над ухом голос миссис Фаррадей. Я повернулся и увидел, что к нам бегут родители и брат Бонни. Мама Бонни рванулась к дочери, но мистер Фаррадей удержал ее за плечи. Истон замер в дверях, взгляд его был прикован к сестре – пугающе спокойный взгляд. Как будто его сестра вовсе не боролась за жизнь.
Маленькое тело Бонни облепили какими-то трубками, подсоединенными к различным аппаратам. И все это время я тонул под напором цветов, звуков, форм и ощущений. Совершенно не хотел испытывать эти чувства.
Я стоял там и смотрел, как девушка, вернувшая мне мое сердце, отчаянно сражается, чтобы спасти собственное. Я стоял там, пока меня не увели. Миссис Фаррадей тянула меня за руку, подталкивала и привела в какую-то комнату. Я часто заморгал: шумы смолкли, и наступила тишина.
В комнату вошел доктор. Я поднял голову и увидел рядом с собой Истона. Бледный как смерть, он смотрел прямо перед собой пустым взглядом. Врач заговорил, но его губы двигались еле-еле, как в замедленном кино. Мой мозг улавливал только отдельные слова: «Реанимация при остановке сердца… последняя стадия… от силы пара недель… нельзя домой… первая в списке… медицинская помощь… аппараты…»
Врач вышел из комнаты. Миссис Фаррадей бросилась мужу на грудь, зарыдала, и у меня перед глазами все стало темно-красным. Мистер Фаррадей протянул руку Истону, тот позволил себя обнять, но не обнял родителей в ответ – просто стоял столбом, все так же пялясь в пространство бессмысленным взглядом.
Бонни умирала.
Бонни умирала.
Я пошатнулся, привалился к стене, и у меня все-таки подкосились ноги. Я рухнул на пол и почувствовал, как меня накрывает оцепенение… Оно не помогло мне справиться с эмоциями, наоборот, на сознание, точно ковровая бомбардировка, обрушились воспоминания: Бонни оседает на дно лодки, хватается за руку, зовет меня по имени…
Я втянул голову в плечи, и слезы, которые я так долго сдерживал, полились ручьем. Я, как чертов идиот, сидел на полу и рыдал, пока меня не обняли за плечи. Уже понимая, что это миссис Фаррадей, я все никак не мог остановиться. Она мать Бонни. Врач только что сказал ей, что ее дочери осталось жить пару недель… и все же я не мог перестать плакать.
Бонни была для меня всем, только она меня понимала.
Я ее люблю.
И вскоре мне предстояло ее потерять.
– С ней все будет хорошо, – шептала мне на ухо миссис Фаррадей, вот только слова ее были темно-синими.
Темно-синий. Гребаный темно-синий.
«С ней все будет хорошо».
Темно-синий.
К тому времени как я зашел в палату, ноги налились свинцом. Ритмичное гудение системы жизнеобеспечения оглушало. Рука миссис Фаррадей сжала мое плечо, и женщина прошла мимо меня, закрыв за собой дверь. Мы остались одни. В палате пахло какими-то химическими препаратами.
Я зажмурился, глубоко вздохнул и снова открыл глаза. Ноги медленно, шажок за шажком понесли меня к кровати, а увидев Бонни, я чуть снова не упал. Девушку окружали трубки и аппараты, глаза были закрыты, и теперь я был лишен их света. Рядом стоял стул, но я отодвинул его и осторожно опустился на край кровати. И наконец-то взял Бонни за руку.
Она была холодной.
Я убрал с ее лица прядь волос, потому что знал: когда я делал так раньше, Бонни это нравилось.
– Привет, Фаррадей, – сказал я. В тишине палаты мой голос прозвучал как пронзительный крик. Я сжал ее ладонь, наклонился – очень осторожно, чтобы не задеть трубки – и поцеловал в лоб. Кожа была холодная как лед. У меня слезы навернулись на глаза. Наклонившись к уху девушки, я проговорил: – Ты дала мне обещание, Фаррадей, и я не дам тебе его нарушить. – Зажмурился. – Я тебя люблю. – На последнем слове мой голос дрогнул. – Я тебя люблю и отказываюсь оставаться в этом мире без тебя. – Я сглотнул. – Борись, малышка. Знаю, твое сердце устало. Ты тоже устала, знаю, но ты должна продолжать бороться. – Я помолчал, собираясь с духом. – Врач сказал, что теперь ты в начале списка, ты получишь сердце. – Разумеется, я знал, что никаких гарантий у нас нет – просто должен был это сказать, больше для себя, чем для нее.
Я посмотрел на грудь Бонни: аппарат заставлял ее подниматься и опускаться в идеальном ритме. Я поцеловал любимую в щеку, потом пересел на стул, не выпуская ее руку. Даже закрыв глаза, я ее не выпустил.
– Сынок?
Кто-то коснулся моего плеча. Я открыл глаза и заморгал: надо мной горел яркий свет. Несколько секунд я пребывал в замешательстве, потом в голове прояснилось. Бонни с закрытыми глазами лежала на кровати, аппарат жизнеобеспечения громко, ритмично гудел. Я взглянул вниз: оказывается, я так и не выпустил руку Бонни.
– Уже поздно, Кромвель. – Мистер Фаррадей кивнул на дочь. – Бонни сейчас в искусственной коме, сынок. Какое-то время она будет спать, по крайней мере несколько дней. Ее тело должно окрепнуть.
Я уставился на милое лицо девушки, бледное, окруженное трубками. Мне хотелось убрать их, но я знал, что лишь они поддерживают жизнь в ее хрупком теле.
– Иди домой, сынок. Поспи, поешь. Ты просидел здесь уже много часов.
– Я не… – хрипло начал я и закашлялся. – Я не хочу уходить.
– Знаю, что не хочешь, но сейчас мы ничего не можем сделать. Все в руках Господа.
Он взмахом руки предложил мне следовать за ним. Я встал и поцеловал Бонни в щеку.
– Я тебя люблю, – прошептал я на ухо девушке. – Скоро вернусь. – Я вышел в коридор следом за мистером Фаррадеем. – Я вернусь утром.
На этот раз я не просил позволения. Ничто в мире меня не удержало бы вдали от Бонни.
Мистер Фаррадей кивнул.
– Кромвель, ты помог моей девочке продержаться до приезда медиков. У тебя есть полное право находиться рядом.
– Мой отец служил в армии, он научил меня оказывать первую помощь.
Не знаю, с чего вдруг я это сказал. Слова просто сорвались с языка.
В глазах мистера Фаррадея промелькнуло сочувствие, и я понял: он уже знает про моего отца.
– Значит, он был хорошим человеком. – Он снова сжал мое плечо. – Иди. Поспи. А завтра возвращайся.
Я повернулся и направился к главному входу. В голове было пусто, ноги сами несли меня в нужном направлении. На улице меня окружила холодная ночь. Вдруг я заметил сгорбленную фигуру на скамейке в маленьком сквере через дорогу. Едва завидев светлые волосы, я сразу его узнал.
Сделав несколько шагов, я опустился на скамью рядом с Истоном. Он ничего не сказал, и какое-то время мы молча смотрели на статую ангела, темневшую в центре сада. Через несколько минут он хрипло выдохнул:
– Ей осталось от силы пара недель, Кром. И все.
Мышцы живота так напряглись, что меня едва не вывернуло наизнанку.
– Бонни поправится, – сказал я. Вот только я даже сам себя не мог убедить. – Она теперь в начале списка. Она получит сердце. – Истон молчал, и я повернулся к нему: – Ты сам-то как?
Истон безрадостно хохотнул:
– Все еще здесь.
– Она нуждается в тебе, – проговорил я. Слова приятеля меня встревожили. – Когда она проснется, когда ее выведут из комы, ты будешь ей нужен.
Истон кивнул:
– Да, знаю. – Он встал. – Пойду обратно.
– Увидимся завтра.
Я наблюдал, как Истон шагает к зданию больницы, потом еще немного пустым взглядом смотрел на статую ангела. События минувшего дня крутились в голове пестрым калейдоскопом с необычайной скоростью. Вдруг мой разум зацепился за одно воспоминание. «У кого из твоих родителей синестезия?» Вытащив из кармана телефон, я набрал в поисковике запрос, и у меня в животе похолодело: Бонни была права. Я сказал себе, что я, очевидно, исключение из правил, но тихий внутренний голос шептал обратное.
«Ты совершенно не похож на своего отца… Мама у тебя блондинка, а у тебя темные волосы… Ты высокий, а твои родители – коротышки…»
Сердце заколотилось в груди, словно им выстрелили из пушки, в кровь хлынул адреналин, в сознании завертелось множество воспоминаний. Я бросился к стоянке, сел в такси и поехал обратно к озеру. Там я вернулся к своему пикапу, ни разу не взглянув на озеро, потому что там Бонни стало плохо. Вместо этого я сел за руль и долго гнал машину вперед, пока не почувствовал, что падаю от изнеможения. Однако мозг продолжал напряженно работать. Бонни умирает, ей нужно сердце. Истон того и гляди сорвется, да еще и это… этот вопрос… этот проклятый вопрос никак не выходил из головы.
Я резко затормозил перед общежитием и взглянул в зеркало заднего вида.
Глаза и губы у меня мамины.
А вот волосы…