Лиля Брик. Её Лиличество на фоне Люциферова века Ганиева Алиса
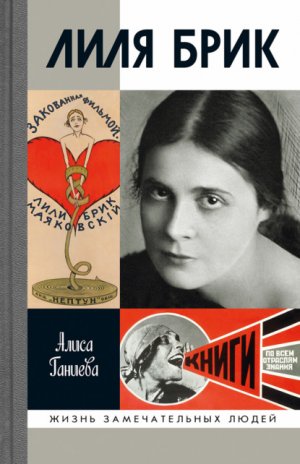
Как бы то ни было, на этом переломы 1926 года не закончились. Владимир Маяковский стал отцом. В середине июня его нью-йоркская пассия Элли Джонс родила дочь Хелен Патрицию. Маяковский догадывался о беременности Элли, но прямых сообщений в письмах она избегала — боялась советской цензуры. Беременность протекала очень тяжело, и Элли еле осталась жива. Она просила Маяковского перевести ей 600 долларов на госпиталь, но тот не смог по неким «объективным причинам» — то ли денег совсем не было (но на Лилю же находились), то ли боялся, что в России прознают. Связь с эмигранткой и живущая за границей дочь — несмываемое пятно для советского поэта. Об отцовстве следовало молчать. И всё же Маяковского переполняют эмоции — на пустой странице своего ежедневника напротив нью-йоркского адреса Элли Джонс он пишет: «Дочь». Спустя много десятилетий Хелен Патриция увидит этот ежедневник в музейной витрине в Москве и расплачется.
Они увиделись лишь однажды, в Ницце, в 1928 году. Маяковский тогда должен был отлучиться по делам в Париж, а потом вернуться к Элли и Хелен. Но, по слухам, эта встреча так испугала Лилю, что Эльзе было дано задание: любым способом не пустить Волосика в Ниццу. Тогда Эльза и познакомила поэта с Татьяной Яковлевой, от вида которой тот мгновенно потерял голову и в Ниццу не вернулся, а дочку больше не видел.
Неизвестно, когда именно Лиля узнала про рождение девочки — возможно, тогда же, летом 1926-го, в Крыму. Сама Хелен Патриция Томпсон, или Елена Владимировна Маяковская, в разных интервью утверждала, что отец скрывал эту новость от Лили — якобы из боязни, что она сдаст его ОГПУ. Очень слабо в такое верится. Во-первых, зачем Лиле Юрьевне было сдавать человека, который ее кормил и, главное, восславлял? Во-вторых, связи Лили с ОГПУ были не столь однозначными.
Вот как сама Брик рассказывала об этой истории Олегу Смоле:
«Л[иля] Ю[рьевна]: Действительно, у Маяковского есть дочь от Элли Джонс (Елизаветы Алексеевны). Фамилия по отцу ее неизвестна (Зиберт. — А. Г.). <…> Я знала, что у Володи есть дочь, он не скрывал от меня этого. Как-то она писала ему (я читала, не до конца, правда, я вообще не люблю читать чужие письма): “Скажите своей любимой, чтобы она, если Вам будет плохо или с Вами что-то случится, сообщила мне об этом”. Я не раз пыталась наладить связь с Элли, но не могла найти ее — и через Уманского, нашего посла в США, и через Генриха Боровика (известного журналиста-международника. — А. Г.), которому я передала для Элли записку, в случае, если он найдет ее, просила отозваться и сообщить свой адрес. Но безрезультатно. Несколько лет назад, примерно в конце 60-х годов, одна работница Иностранной комиссии Союза писателей СССР, фамилии ее сейчас не помню, поехала в Ленинград для организации встречи советских и финских писателей. Остановилась она в гостинице “Астория”. И вот как-то сидит она в ресторане, ужинает. К ее столу подходит пожилая женщина, спрашивает по-русски, но с акцентом, не может ли она сказать, как называется блюдо, которое она ест. “Вы меня извините, — добавила она, — я плохо разбираюсь в русских блюдах и хотела бы заказать то же, что и у вас”.
— Котлеты по-киевски.
— Если вы позволите, я сяду за ваш стол.
Села за стол, заказала котлеты по-киевски, потом спрашивает: “Скажите, пожалуйста, у вас Маяковского читают?”
— Читают, очень читают, — с удивлением ответила ей наша женщина.
— Я спрашиваю вас об этом потому, что я близкий Маяковскому человек и у меня есть его письма ко мне, хотела бы их оставить кому-нибудь из родственников Маяковского.
— А вы передайте их музею Маяковского в Москве.
— А что, у вас есть музей Маяковского? — удивилась иностранка. А потом добавила: — Нет, музею я их передать не могу, это интимные письма.
Прощаясь, иностранка сказала, что она из Америки.
Когда мне сообщила об этой встрече женщина из Иностранной комиссии, мы тут же позвонили в “Асторию”, попросили посмотреть, останавливалась ли у них американка Элли Джонс (мы поняли, что это она). Нам ответили, что нет. Тогда мы позвонили в музей Маяковского на Тендряков переулок, справились, не приходила ли к ним в последнее время американка, — ответили, что не приходила. Мы сделали предположение, что, возможно, Элли Джонс вторично вышла замуж и теперь у нее другая фамилия. Словом, мы ничего не узнали.
В[асилий] А[бгарович Катанян]: У нас есть ее рисунки, сделанные в один день Маяковским и Бурлюком. Когда Маяковский приехал в США (1925), Бурлюк познакомил его с Елизаветой Алексеевной, и они нарисовали ее.
В. А. пошел в свой кабинет и через минуту принес два рисунка карандашом. Один — Маяковского (женщины 28 лет с виду, женщины некрасивой, как мне показалось), другой — Бурлюка (женщины, чем-то привлекательной и, мне показалось, внешне похожей на Веронику Полонскую).
Л. Ю.: Владимир Владимирович видел свою дочь в 1928 году в Ницце, куда Элли приезжала с дочерью. Как он мне потом сказал, ему было там скучно, и он, не пробыв там и двух дней, уехал.
Вообще же Элли его очень любила, — заключила Л. Ю.»[273].
Действительно, Лиля принялась разыскивать Элли Джонс сразу после смерти Маяковского — у него в записных книжках сохранились адреса. Обращалась к Бурлюку, Якобсону, Эльзе, бывавшим в США, чтобы те прошли по всем адресам, но безрезультатно. Элли-Елизавета и вправду вторично вышла замуж, сменила фамилию на Петерс и переехала. Она преподавала языки и дожила аж до 1985 года.
Дочь же, Хелен Патрицию, я прекрасно помню. Я увидела ее за четыре года до ее смерти в Нью-Йорке, на приеме в честь Нью-Йоркского книжного салона «Бук Экспо». Это была очень высокая женщина с прямой спиной и низким, седым хвостом волос, скрепленным огромным эксцентричным бантом-заколкой. К тому моменту она, конечно, уже не раз приезжала в Москву и даже похоронила часть праха матери рядом с могилой Маяковского. В Нью-Йорке же нас с друзьями немного смешило, что дочь написала огромную книгу, чуть ли не мемуарную, «Мой отец Маяковский», хотя видела его один раз в жизни, да и то в возрасте двух лет! Правда, потом оказалось, что книга состоит по большей части из рассказов ее матери, записанных на магнитофонную ленту.
О Лиле Елена Владимировна отзывалась через губу. Приведу фрагмент ее ответов на вопросы журналистов «Комсомолки»:
«— Почему Маяковский не остался в Америке?
— За ним следил НКВД. Изъяви он желание остаться за границей, его бы ликвидировали. (Версия хотя и отдающая конспирологией, но не лишенная оснований, ведь Маяковский весьма двояко относился ко всему, что творилось на его родине после революции, патриотизм и гордость перехлестывались тоской, ужасом и разочарованием, а тут еще и странная смерть Хургина; так что он и вправду мог поделиться с Элли подобными мыслями. — А. Г.)
— Возможно, одной из главных причин, по которым он всегда стремился домой, в Россию, была его муза Лиля Брик?
— У меня сложное отношение к Лиле. Она была очень опытной женщиной и манипулировала моим отцом. Ее муж Осип — тот, да, был ментором Маяковского, в хорошем смысле этого слова, то есть наставником — помогал ему, направлял его.
— Вы пытались установить контакты с Лилей, ее пасынком — исследователем творчества Маяковского Василием Катаняном?
— Как-то не сложилось. Лиля ведь долгое время была основной наследницей и душеприказчицей Маяковского. Я не получила ни копейки и всего добилась в этой жизни сама. Говорят, что Лиля пыталась найти нас, но отчим дал мне свою фамилию, и искать меня было делом бессмысленным»[274].
Как бы то ни было, сразу после получения известия о дочери Маяковский напишет пропагандистский киносценарий «Дети», в котором будет фигурировать семья несчастного американского шахтера Джонса, где жену будут звать Элли, а дочку Ирма. И эту Ирму выберут из всех школьников для поездки на родину Ленина — посмотреть на жизнь русских пионеров. В общем, эдакая предшественница Саманты Смит.
Все эти пертурбации, однако же, никак не раскололи нашу троицу; напротив, жизнь закипела еще роскошнее, веселее и разнообразнее. Во всяком случае, для Лили.
Лев на мотоцикле и товарищ девушка
Киев, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Таганрог, Новочеркасск… Маяковский снова заездился. Во-первых, нужны были деньги и ласкала слава, а во-вторых, в Москве становилось морально невыносимо — Лилины похождения кололи глаза, ревность ела поедом. Он, как мог, заталкивал себя в прокрустово ложе свободной любви и наступал на горло собственной песне — но не получалось. Хотелось нормальной семьи, где женщина только его и больше ничья. Правда, вырвать из сердца ту, что мучила, не выходило. Ему было лучше под ее каблуком, чем совсем без нее.
Конвейерные чтения — настоящая соковыжималка. Выступал по несколько часов в больших залах, иногда бесплатно. Терпел дорожные тяготы. В Ростове, к примеру, поэту пришлось и пить, и мыться нарзаном, потому что канализационная и водопроводная трубы прорвались и соединились в одну. А всё заработанное он посылал любимой Кисе прямо «в кровать».
Но и Кисе не сиделось на месте. В январе 1927 года она отправилась поездом в Вену и остановилась в «Бристоле». Маяковский в это время совершал турне по городам Поволжья — Самаре, Саратову… Денежные переводы Кисе не прекращались. «Получила десять фунтов двести пять долларов. Жду остального», — телеграфирует она Маяковскому 4 февраля. Через два дня, не сдержавшись, шлет «зверикам» молнию: «Почему молчите как убитые. Сто девяносто пять». «Зверики» корреспондируют: «Усиленно хлопочем. Деньги на днях получишь. Любим целуем. Счен Кис»[275].
«Дорогая Киса перевел двадцать. Четверг буду Киев Континенталь», — сообщает Маяковский из Харькова уже в Москву. «Если можешь переведи еще деньгов. Целую»[276], — отзывается Киса. И так бесконечно.
В Вене она пробыла буквально несколько дней, зато успела заехать в Чехословакию, на курорт Франценсбад (ныне Франтишкови-Лазне в Чехии), где Эльза лечилась от ревматизма. Впрочем, и в Москве, в Гендриковом, жизнь клокотала. Устраивались легендарные лефовские вторники, куда сходился весь их бомондный кружок, от Жемчужного и Эйзенштейна до Пастернака, Мейерхольда и Асеева.
Журнал «ЛЕФ» уже умер, но еще годом ранее лефовцы сходили на прием к Троцкому с просьбой поддержать литературную революцию. В результате Госиздат снизошел, и на смену толстому «ЛЕФу» был запущен тонкий ежемесячник «Новый ЛЕФ». Все лефовцы очень увлекались кино, Маяковский кропал сценарии (даже пытался реанимировать «Закованную фильмой» ремейком «Сердце экрана»), а Осип много об этом теоретизировал. Впрочем, он и сам был не прочь сочинять для экрана — им были написаны сценарии «Приключения эльвиста», «Клеопатра», «Премьера» и «Потомок Чингисхана»; по последнему Всеволод Пудовкин снял фильм, вошедший в золотую коллекцию мирового кинематографа.
В одном из сценариев Маяковского, «Как поживаете?» — о двадцати четырех часах жизни обыкновенного человека, — как обычно, фигурируют актуальные для него мотивы. Мелькает табличка на двери «Брик. Маяковский», главный герой носит имя автора и ведет титаническую, изматывающую борьбу с издательской машиной, с бюрократией, с непониманием и с равнодушием к его стихам. У героя как будто нет другого выхода, кроме самоубийства (о суициде Маяковский думал всегда, но после того, как в «Англетере» повесился Сергей Есенин, мысль превратилась в навязчивую). Правда, в этом сценарии, удивительном по экспериментаторским находкам, включению в игровое кино документальной хроники, визуальным решениям, стреляется не герой, а его девушка — мотив, кстати, тоже автобиографический.
В жизни поэта когда-то, еще до знакомства с Эльзой, была мирискусница, бубнововалетчица поэтесса Антонина Гумилина, любившая его до безумия, посвятившая ему поэму «Двое в одном сердце» и постоянно изображавшая его на своих картинах. Роман Якобсон рассказывал: «Хорошо помню одну картину: комнату под утро, она в рубашке сидит в постели, поправляет, кажется, волосы. А Маяковский стоит у окна, в брюках и рубашке, босиком, с дьявольскими копытцами, точно как в “Облаке” — “Плавлю лбом стекло окошечное…”. Эльза мне говорила, что Гумилина была героиней последней части “Облака в штанах”»[277].
Художник Роскин, учившийся с Антониной в студии бубнововалетчика Ильи Машкова, так описывал акварель «Свадьба Маяковского»: «В центре свадебного стола сидел Маяковский в цилиндре, во фраке, красивый и очень похоже нарисованный; по правую сторону она изобразила себя в подвенечном белом платье, а слева от Владимира Владимировича сидел толстый Давид Бурлюк с неизменным лорнетом в руке, и эту центральную группу окружали знакомые — молодые художники нашей мастерской, в их числе я легко нашел и себя»[278].
Талантливая Гумилина и вправду зациклилась на поэте и даже изобразила его в своей «Тайной вечере» в роли Христа. Потом вышла замуж за художника Эдуарда Шимана, но всё равно продолжала сохнуть по Маяковскому, а в итоге выбросилась из окна и разбилась насмерть. Шимана Маяковский с Лилей презирали. Поэт всё время обыгрывал Шимана в карты, и когда тот совсем продулся и обнищал, то начал вместо денег ставить на кон шарфы. Выигранный у несчастного художника огромный лиловый шарф, отороченный бурой лисой, Маяковский принес Лиле, как трофей в пещеру, — дескать, вот тебе его скальп. Лиля потом передарила шарф Эльзе.
Сценарий фильма «Как поживаете?», испугавшись смелости формы, сначала отвергла государственная кинокомпания «Совкино», а потом и «Межрабпом-Русь», хотя переговоры шли вовсю и даже были назначены режиссер (Лев Кулешов) и актриса на роль девушки (его жена Александра Хохлова). Знал ли Маяковский, что вместо фильма дело закончится головокружительным романом Лили и Кулешова? Вот тебе и жизнетворчество.
Лев Кулешов в свои 28 лет (он был на восемь лет моложе Лили) уже сделал многое, чтобы остаться в истории искусства. Поучившись на художника, начал с документальных съемок на фронтах Гражданской войны, а к моменту знакомства с Лилей снял фильмы «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» и «По закону» по рассказу Джека Лондона. В обоих снималась Хохлова, оба признаны шедеврами мирового кинематографа.
Возможно, многим знакома фамилия Льва Владимировича благодаря известному термину «эффект Кулешова». Он первый продемонстрировал, что смысл одного и того же кадра меняется в зависимости от того, какой кадр идет следующим. Если за крупным планом лица человека на экране появляется тарелка супа, зритель решает, что человек голоден и хочет поесть супа. Если же вместо супа кадр с хорошенькой девушкой, то человеку припишут не чувство голода, а вожделение. Известен также географический эксперимент Кулешова, демонстрирующий некоторые хитрости монтажа, — в нем тоже участвовала Хохлова.
Кстати, маленькую рыжую Хохлову можно увидеть на полотне Филиппа Малявина «Лисичка» (1902). Она была внучкой Павла Третьякова — того самого, мецената и коллекционера живописи; ее отец Сергей Боткин был коллекционер и врач из знаменитой семьи медиков, его брата Евгения расстреляли в 1918 году в Екатеринбурге вместе с царской семьей. Боткин вначале был помолвлен с дочерью художника Ивана Крамского, но после его встречи с Александрой Третьяковой помолвка была расторгнута. Крамская, кажется, так и не вышла замуж, но со своей разлучницей, как ни странно, дружила.
Вот и от Хохловой требовалось элементарно не устраивать сцен и вести себя как ни в чем не бывало, пока Лиля открыто любовничает с ее мужем. Кулешов объяснился Лиле в любви еще летом 1926-го, на даче в Пушкине. Красавец, модник, спортсмен, охотник, звезда, он посвящал ей мадригалы на папирусе и подарил золотую брошку-льва по своему эскизу. Хохлова страшно страдала и даже пыталась покончить с собой. Узнав об этом, Лиля только пожала плечами: «Ну что за бабушкины нравы?» Правильная жена должна была с ней чаевничать и приятельствовать. Как в идеальной коммуне.
Летом все вместе жили на даче в Пушкине: Лиля, Ося, Кулешов, Хохлова с сыном Сережей. «Хохлова ходила с пустыми глазами. В те годы с ней я была очень близка и чувствовала, насколько ей тяжело “выкорчевывать” из себя корни “буржуазных” пережитков и пойти в ногу с новым бриковским бытом»[279], — писала художница Елизавета Лавинская.
Вот и Галина Катанян, тем летом впервые попавшая на дачу к Брикам со своим мужем, тифлисским лефовцем Василием Абгаровичем Катаняном, поразилась царившим в Пушкине нравам: «Приехал Кулешов с Хохловой. Лиля и Кулешов тотчас же поднялись наверх и пробыли там довольно долго. То же самое произошло, когда приехал Жемчужный с Женей. Ося с розовой от смущения и радости Женей немедленно удалились наверх. Хохлова невозмутимо беседовала с дамами на террасе, но Жемчужный, очевидно, менее вышколенный, тоскливо бродил по саду в полном одиночестве. Я была несколько озадачена всем виденным и на обратном пути домой спросила Васю — что же это такое? Вася, поразмыслив, объяснил мне, что современные люди должны быть выше ревности, что ревновать — это мещанство»[280].
Еще с апреля Лиля стала клянчить у Маяковского автомобильчик. Поэт тогда выступал в Париже, припадки веселья, как водится, сменялись у него меланхолией и хмуростью, — на одной фотографии он даже повернулся спиной к объективу. В Париже поэт крутил легчайший романчик с девушкой Асей, прелестной, неприкаянной, вышвырнутой революцией за границу. Он мечтал вернуть Асю в Россию. Лиля в это время рассекала по Москве в коляске шикарного кулешовского мотоцикла. Иногда брали с собой и собаку Бульку. Весь город знал, что режиссер Кулешов катает на мотоцикле музу Маяковского. И Лиля не стеснялась просить поэта о покупке необходимых для кулешовской мотоциклетки деталей.
Мало того, она пишет ему изумительное по нахальности письмо:
«Очень хочется автомобильчик. Привези пожалуйста! Мы много думали о том — какой. И решили — лучше всех Фордик. 1) Он для наших дорог лучше всего, 2) для него легче всего доставать запасные части, 3) он не шикарный, а рабочий, 4) им легче всего управлять, а я хочу управлять обязательно сама. Только купить надо непременно Форд последнего выпуска, на усиленных покрышках-баллонах; с полным комплектом всех инструментов и возможно большим количеством запасных частей».
Заботливая Лиля Юрьевна не забывает и о жене любовника:
«Если есть в природе какой-нибудь кино-грим для зубов — чтоб были белые, то привези Шуре»[281].
Маяковский, оглохший от собственных выступлений и отмахавший руку на автограф-сессиях, Кисиному письму, по собственным заверениям, дико обрадовался и принял его как руководство к действию — «думал о машине»[282]. И действительно, «форд» для Кулешова был вскоре куплен и доставлен в Москву. В Пушкино Лев Владимирович теперь приезжал на этом чуде заграничной техники, заставляя прохожих сворачивать шеи. Досуг проводили, как обычно, в походах за грибами и бесконечных играх (иногда по 17 часов) в карты, маджонг, бильярд, городки. Кулешов заразил всех пинг-понгом. Лиля остригла волосы и щеголяла модной прической «гарсон», хотя Осип Максимович и не одобрял, когда женщины стриглись под мальчика, — тогда они почему-то напоминали ему проституток. Впрочем, «бл*дский папаша» уж точно разбирался в вопросе.
Маяковский тем временем совсем устал, изнервничался и чувствовал себя плохо. Дело было, конечно, не только в сумасшедшей физической усталости от гастролей, но еще и в творившемся у него под носом промискуитете. Покупка «фордов» для любовника своей любимой женщины всякому далась бы непросто — что уж говорить о таком романтике и максималисте, как Владимир Владимирович.
Булька, тоже не терявшая времени даром, в августе ощенилась, а Лиля взялась писать с Кулешовым сценарий по рассказу Некрасова — «Межрабпом-Русь» обещала ей шесть тысяч рублей. У проекта, однако, возникли препятствия. Сонка Шамардина (та самая, которой пришлось делать от Маяковского аборт на очень позднем сроке) вспоминает, как поэт психовал, пробивая в высоких инстанциях Лилин сценарий:
«Помню — очень взволнованный, нервный пришел ко мне в ЦК рабис (РАБИС — профсоюз работников искусств. — А. Г.) (была я в то время членом президиума съезда). Возмущенно рассказал, что не дают Лиле работать в кино и что он не может это так оставить. Лиля — человек, имеющий все данные, чтоб работать в этой области (кажется, в сорежиссерстве с кем-то — как будто с Кулешовым). Он вынужден обратиться в ЦК рабис — “с кем тут говорить?”.
Повела его к Лебедеву{5}. Своим тоненьким, иезуитским таким голоском начал что-то крутить и наконец задал вопрос: “А вам-то что, Владимир Владимирович, до этого?”
Маяковский вспылил. Резко оборвал. Скулы заходили. Сидит такой большой, в широком пальто, с тростью — перед крошечным Лебедевым. “Лиля Юрьевна моя жена”»[283].
В общем, с кино у Лили на этот раз не получилось.
Отпуск она провела с Кулешовым в Тифлисе, Сочи, Батуми, Гагре, и Маяковский постоянно отправлял им деньги.
8 июля: «Деньги получила. Гостиница Ориант».
17 июля: «Волосик переведи деньги Батум Госбанк».
18 июля: «Щеник оставь обязательно лишние двадцать червонцев. Задолжала Кулешову».
19 июля: «Переведи не меньше тридцати»[284].
Любопытно, что хотя Кулешов девушку и танцует, но кошелек держит закрытым.
По дороге в Москву парочка проезжала на поезде Харьков, где как раз выступал Маяковский (у него было большое турне по городам Украины, Кавказа, Крыма). Встретились на платформе, и Маяковский предложил Лиле остаться на ночь — послушать его новые стихи. Она согласилась, еле успели вытащить чемодан через окно. «Помню в гостинице традиционный графин воды и стакан на столике, за который мы сели, и он тут же, ночью, прочел мне только что законченные 13-ю и 14-ю главы поэмы “Хорошо!”, — вспоминала Лиля. — Он был счастлив, когда я говорила, что ничего в искусстве не может быть лучше, что это гениально, бессмертно и что такого поэта мир не знал»[285].
Маяковский читал:
- Если
- я
- чего написал,
- если
- чего
- сказал —
- тому виной
- глаза-небеса,
- любимой
- моей
- глаза.
Лиля в первое мгновение перепугалась. Что это за глаза-небеса? Голубые? О ком это он? Но, услышав следом про «круглые да карие», успокоилась — о ней. Очень уж ей было важно остаться единственной музой.
Но когда Кисит уехал, Маяковскому стало так тяжко, так невыносимо одиноко, что он вызвал к себе телеграммой из Москвы Наташу Брюханенко. Наташа была бедной красивой студенткой с детдомовским прошлым. Вечером она училась в Первом МГУ на литературном отделении, днем работала в Госиздате. И, конечно, как все ребята, чуть ли не с детства фанатела от Маяковского. Его стихами тогда зачитывались со школьной скамьи, цитировали взахлеб. Он был суперзнаменитостью для всех поколений, почище нынешних рэперов.
В Госиздат Маяковский заходил часто — там мучительно, с проволочками, издавался его шеститомник, именно там ему заказали роман, который он так и не вымучил (не усидчивый был человек, не чугуннозадый — какое уж тут корпение над романом, если романов он даже недочитывал, а страницы разделов прозы в толстых журналах даже не разрезал). В Госиздате постоянно натыкался на холодную стену, на бюрократические издевательства. Лиля вспоминала: «…когда он пришел из Госиздата, где долго ждал кого-то, стоял в очереди в кассу, доказывал что-то, не требующее доказательств. Придя домой, он бросился на тахту во всю свою длину, вниз лицом, и буквально завыл: я больше — не могу… Тут я расплакалась от жалости и страха за него, и он забыл о себе и бросился меня успокаивать»[286].
С Наташей Маяковский столкнулся на госиздатовской лестнице еще в 1926-м, сразу повел гулять и в кафе на Петровке продемонстрировал ее Осипу Брику: «Вот такая красивая и большая мне очень нужна»[287]. Затем завел ее к себе на Лубянский, угощал конфетами и шампанским, внезапно распустил ей волосы (тот же финт он проделал когда-то в вечер знакомства с Сонкой Шамардиной — прямо в кафе, на глазах у Чуковского) и стал спрашивать, станет ли она любить его. Крылось в этом, конечно, что-то болезненное, и Наташа от Маяковского сбежала, но через год они столкнулись снова — опять в Госиздате — и с тех пор стали практически неразлучны. Обедали в «Савое», «Гранд-отеле» или у него, ходили в кино и по литературным редакциям. Работая у себя над стихами, он просил, чтобы «товарищ девушка» всё время находилась рядом — одиночество его душило, и нужно было чье-нибудь присутствие. Привыкшая к комсомольскому небрежному братанию, Наташа стеснялась его буржуазных выходок — трости, пролеток, целования рук, такси.
Летом, пока Лиля нежилась на Кавказе с Кулешовым, Маяковский привозил Наташу в Пушкино, где Жемчужный учил ее играть в маджонг. Бывали там и вдвоем. Галина Катанян как-то застала их на даче одних и сразу же восхитилась девушкой:
«От нее исходит какое-то сияние, сияют ямочки на щеках, белозубая, румяная улыбка, серые глаза. На ней белая полотняная блуза с матросским воротником, русые волосы повязаны красной косынкой. Этакая Юнона в комсомольском обличье.
— Красивая? — спрашивает Вл. Вл., заметив мой взгляд.
Я молча киваю.
Девушка вспыхивает и делается еще красивее»[288].
Получив телеграмму Маяковского, Наташа сразу же выехала к нему в Крым. Там, в окружении разговоров о высоких материях, она в своем бедном полотняном платьице чувствовала себя плебейкой. Маяковский по своему обыкновению стремился скупить для девушки всё содержимое окрестных цветочных киосков, но она отнекивалась. Кое-как уговорил ее принять хотя бы шелковую материю, из которой в Ялте сшили ей платье. До обеда, пока Маяковский работал (главным образом над поэмой к десятилетию Октябрьской революции), «большая и красивая» курортничала на пляже, а после обеда поэт ни на шаг ее не отпускал. И Наташа покорно торчала в накуренной бильярдной, где после вечерних выступлений Маяковский часами размахивал кием.
Выступления его выматывали, буквально, как он выражался, выдаивали. Разъезжать приходилось чуть ли не по всему полуострову. Но с Наташей он чувствовал себя хорошо — вместе они провели целый месяц. В Москве на вокзале их встречала Лиля вместе с Ритой Райт — обеим, видно, было интересно, что это за Наташа. «Лилю я увидала тогда впервые, — вспоминала потом Брюханенко. — Когда я бывала летом в Пушкино и на их квартире на Таганке, Лиля была в отъезде, и я видела только ее комнаты. Помню, как меня удивили тогда очень маленькие туфельки и множество всякой косметики на столах»[289]. Бедная комсомолка из простых, конечно, никогда до того не сталкивалась с таким изобилием импортных прибамбасов.
Она не знала, что ее союз с Маяковским обсуждают в Лилином кругу на всю катушку. Все видели серьезность Маяковского и почему-то были уверены, что Маяковский и Брюханенко поженятся. Елизавета Лавинская, участвовавшая в этих разговорчиках, потом записала:
«Лефовские “жены” говорили:
— Володя хочет жениться на Наташе Брюханенко, это ужасно для Лилечки.
И на самом деле, Лиля ходила расстроенная, злая. Ко мне в то время она заходила довольно часто, и тема для разговора была одна: Маяковский — Брюханенко…
Она говорила, что он, по существу, ей не нужен, он всегда невероятно скучен, исключая время, когда читает стихи.
— Но я не могу допустить, чтоб Володя ушел в какой-то другой дом, да ему самому это не нужно…
Безусловно, уход Маяковского был неприемлем не только для Лили Юрьевны, но в такой же мере для Осипа Максимовича. Из дома ушла бы слава и всё то, что за ней следует».
Злая Лавинская продолжает:
«Откуда-то голос Лили Юрьевны сверху:
— Лилечка (Лавинскую сокращенно звали почему-то не Лизой, а тоже Лилей. — А. Г.), идите сюда.
Я поднялась. Лиля Юрьевна принимала на крыше солнечные ванны и одновременно гостей. Был Кулешов (этот не гость), мадам Кушнер, еще чьи-то жены и я. Не знаю почему, но я почувствовала тогда себя невыносимо скверно. Слезы Лили Юрьевны, ее злое лицо, дергающиеся губы, когда она говорит о возможном уходе Володи “из дома”, из которого она не желает его отпускать. От этого нового, бриковского быта несло патологией»[290].
Как я уже упоминала, во время работы над мемуарами Лавинская тяжело болела и зуб точила на лефовцев. И, видно, делилась своей горечью не только письменно, но и устно. 25 июля 1948 года писатель Михаил Пришвин записал в своем дневнике: «Приходила Лавинская (туберкулез) и еще, и еще рассказывала о героях ЛЕФа (как углубление и умножение “Бесов”). Блудница Лиля Брик голая загорает, возле Кулешов в трусиках, женщины “подлильки”, Хохлова с пустыми глазами (вот еще женщина!), невинный Маяковский (ограбленное дитя), вечно умствующий Шкловский»[291].
Однако Лавинская, несмотря на болезнь и связанную с ней ипохондрию, была не так уж далека от истины. Не успела Наташа примчаться к Маяковскому в Ялту, как Лиля тут же накатала ему длинное письмо, казалось бы, о разных бытовых мелочах, но заканчивавшееся предложением:
«Ужасно тебя люблю. Пожалуйста не женись всерьез, а то меня все уверяют, что ты страшно влюблен и обязательно женишься! Мы все трое женаты друг на дружке, и нам жениться больше нельзя — грех»[292].
Маяковский ответил на эгоистичный Лилин запрет просто и емко:
«Целую мою единственную кисячью осячью семью»[293].
Он подчинился.
Впрочем, с Наташей поэт пока еще общался и даже отправил ей из очередного турне 500 рублей на покупку зимнего пальто. Желая отблагодарить поэта и не зная его адреса, Брюханенко набрала телефонный номер своей могучей соперницы, и та без лишних вопросов продиктовала ей адрес.
Позже Лиля обворожила Наташу, как делала со всеми женщинами своих кавалеров: нейтрализовывала их добротой, заботой и кристальным простодушием в вопросах любви. Лиля Юрьевна Брик вела себя так, как будто дружба возлюбленного с другой женщиной была в порядке вещей. Ну а как иначе? Не драть же друг другу волосы! Чай, не мещане.
Следующей весной Маяковский грипповал в своей каюте в Гендриковом и из-за болезни не смог поехать в Берлин вместе с Лилей. Больной и мрачный, он вызвал к себе Брюханенко. Она пересказала случившийся в тот день диалог:
«— Вы ничего не знаете, — сказал Маяковский, — вы даже не знаете, что у вас длинные и красивые ноги.
Слово “длинные” меня почему-то обидело. И вообще от скуки, от тишины комнаты больного я придралась и спросила:
— Вот вы считаете, что я хорошая, красивая, нужная вам. Говорите даже, что ноги у меня красивые. Так почему же вы мне не говорите, что вы меня любите?
— Я люблю Лилю. Ко всем остальным я могу относиться только хорошо или ОЧЕНЬ хорошо, но любить я уж могу только на втором месте. Хотите — буду вас любить на втором месте?
— Нет! Не любите лучше меня совсем, — сказала я. — Лучше относитесь ко мне ОЧЕНЬ хорошо.
— Вы правильный товарищ, — сказал Маяковский. — “Друг друга можно не любить, но аккуратным быть обязаны…” — вспомнил он сказанное мне в начале нашего знакомства, и этой шуткой разговор был окончен»[294].
Женщины, согласной на второе, запасное место в сердце Маяковского, так и не нашлось.
Маленькие ножки
Лилю Брик легко представить в нашем времени. Она бы обязательно вела блог в Инстаграме, имела бы несколько миллионов подписчиков, а ее звучное имя не сходило бы с липких страниц желтой прессы. За ней охотились бы папарацци, о ней снимались бы скандальные телепередачи. Ее портреты улыбались бы с обложек глянцевых изданий, а сводки о ее новых романах и красноковровых выходах мгновенно выпархивали бы на верхние строчки рейтингов новостей. А серфя по Интернету, мы бы досадливо натыкались на всплывающие окна с вирусной рекламой: «Лиля Брик раскрыла секреты стройной фигуры: каждый день натощак она ест…»
Будь у нее желание, она могла бы вести платные мастер-классы по соблазнению. Как заставить всех (ладно бы всех — а то самых умных и самых талантливых) подчиняться тебе и боготворить тебя? Как-то раз она поделилась с пасынком Василием Катаняном-младшим рецептом: «Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают. И разрешать ему то, что не разрешают ему дома. Например, курить или ездить куда вздумается. Ну а остальное сделают хорошая обувь и шелковое белье»[295]. В старости Лиля то же самое говорила актрисе Алле Демидовой: «Если вы хотите завоевать мужчину, надо обязательно играть на его слабостях. Предположим, ему одинаково нравятся две женщины. Ему запрещено курить. Одна не позволяет ему курить, а другая к его приходу готовит коробку “Казбека”. Как вы думаете, к которой он станет ходить?»[296] Тут ненароком вспомнишь горящие глаза Маяковского, внимающего Лилиным похвалам. Несмотря на гремящую славу и хвастливость, он был очень мнителен и не уверен в себе. А эта женщина с неприметной внешностью его зажигала, вдохновляла и подстегивала.
Восхищались Лилей не только мужчины, но и женщины. Причем какие женщины! Те, что должны были ненавидеть ее как соперницу. Многие из них, сойдясь с ней ближе, говорили, какая она замечательная. «Когда же я увижу тебя, рыжую, накрашенную, тебя, которая выдумалась какому-то небесному Гофману, которую любит Маяковский?» — писала Сонка Шамардина. Кто знает, если бы не клевета Чуковского и не убитый в утробе ребенок, могла бы она составить поэту счастье? «Наконец-то или в конце 1927 года, или в начале 1928, — продолжает она, — я ее увидела в Гендриковом переулке, уже давно приготовленная Маяковским к любви к ней. Красивая. Глаза какие! И рот у нее какой!»[297] (Это уже тогда, когда она сидела на вечерах у Лилички и ловила из ее рук пирожки; а вначале ведь ревновала. Ей, к примеру, почему-то нравились гнилые зубы Маяковского, и, когда она увидела его обелозубленного, ей стало жалко поэта. Винила Лилю.)
О том, как сам Маяковский относился к Лиле, можно судить по многим свидетельствам. Она была для него настолько непререкаемым авторитетом, что циничные люди не сдерживались и фыркали: «И что, если Лиля Юрьевна скажет, что шкафы стоят не на полу, а на потолке, вы тоже согласитесь?» (по другим версиям: «Если Лиля скажет ночью пойти босиком по снегу до Большого театра — пойдете?»). И Маяковский серьезно отвечал: «Соглашусь», «Пойду». Та же Сонка вспоминает: «Помню вечера у Бриков и Маяковского, когда читал что-нибудь новое. Помню чтение “Бани”. Всегда постоянный узкий круг друзей его. Помню — сказал о какой-то своей вещи: “Этого читать не буду. Это я еще не прочел Лиличке!”»[298]. Или вот такое: «Очень дружески относится к Адамовичу. Но окончательно укрепилось его отношение к Иосифу, когда Адамович помог как-то Маяковскому с валютой для Лили, связав ее с кем-то из наших товарищей за границей с просьбой помочь там Лиле, что нужно. В эти дни Маяковский подарил Иосифу пятый том с надписью: “Замечательному Иосифу Александровичу”. И хоть не только из-за Лили он стал особенно хорош к Адамовичу, но всё-таки и тут отразилась его большая любовь к ней»[299].
(Иосиф Адамович, муж Сонки, был успешным партийным деятелем — председателем Совнаркома Белорусской ССР, затем членом Президиума Высшего совета народного хозяйства СССР — до тех пор, пока его не заподозрили в сочувствии «Союзу освобождения Белоруссии» и не сослали на Дальний Восток, руководить сахарным заводом в Никольске-Уссурийском, а затем — на захолустную Камчатку, которая при нем оживилась и отстроилась. Но в 1937-м Адамовича стали громить как покровителя «врага народа», и в ожидании ареста он застрелился. Сонка же пошла по лагерям, а вернувшись на волю, прожила незаметную жизнь и тихо умерла в больнице для старых большевиков в Переделкине в 1980 году.)
Кстати, про Сонку, красавицу-блондинку с аквамариновыми глазами, тоже ходили фантастические слухи: дескать, она, фам фаталь, крутила не только с Маяковским, но и Северянином, и с футуристом Вадимом Баяном, а к одному любовнику в годы Первой мировой войны приезжала вместе с ручным волком на цепи. Как-то плохо вяжется с образом невинной, соблазненной бестужевки, который выстраивал Чуковский.
Наташу же Брюханенко ввести в состояние трепета было довольно легко. Студенточка явно комплексовала, что недотягивает до Маяковского знаниями, статусом, дарованием, и в своих мемуарах то и дело повторяет, что она «никто». «Я нахально пишу о себе “красивая”, потому что так сказала обо мне Лиля. И, наверное, это правда, так же как правда и то, что только благодаря моей внешности Маяковский и обратил на меня внимание»[300] — в этом заявлении капля бахвальства и бочка самоуничижения.
Она прижилась в Лилином окружении еще с тех пор, как Маяковский приводил ее в Гендриков играть в шарады, — Лиле она была не опасна. Но, видно, боготворить ЛЮБ она стала не сразу и поначалу немножко копила яд:
«Однажды вместе с Маяковским я выходила из квартиры в Гендриковом переулке. Лиля сидела в столовой. Маяковский был уже в пальто, зашел поцеловать ее на прощанье, нагнулся к ней.
— Володя! Дай мне денег на варенье, — сказала Лиля.
— Сколько?
— Двести рублей.
— Пожалуйста, — сказал он, вынул из кармана деньги и положил перед ней.
Двести рублей на варенье! Эта сумма, равная нескольким месячным студенческим стипендиям, выданная только на варенье так просто и спокойно, поразила меня».
Впрочем, пересказывая этот эпизод гораздо позже, Брюханенко Лилю оправдывает: «Я не сообразила, что это ведь на целый год, и сколько народу бывало у них в гостях, и как сам Маяковский любил есть варенье!»[301]
Только, скорее всего, «варенье» было просто обобщением, метафорой вроде «булавок». Неметафорическое варенье для Бриков варила Аннушка — наверняка заготовок хватало надолго и докупать ничего не требовалось.
А вот Наталья Рябова познакомилась с Маяковским во время его гастролей в Киеве в 1924 году. Она была совсем юной, и Маяковский относился к ней отчасти как к ребенку. А ребенок, конечно, влюбился. Еще бы: знаменитый поэт — и вдруг обратил внимание да еще и угостил первой в ее жизни папиросой. Отец и тетки страшно переживали, не пускали ее на чтения Маяковского без сопровождающих, но их роман-дружба тем не менее расцветал. Они виделись в каждый приезд Маяковского в Киев. Но кое-какие его признания заставляли ее рыдать ночами в подушку:
«Разговор с кота перешел на животных вообще, и, рассказывая про свою собаку, Владимир Владимирович несколько раз сказал: “Наша Булька”. Тут я решилась и спросила возможно более естественным голосом:
— Чья “наша”?
Не знаю почему, но мне показалось, что Владимир Владимирович ждал от меня этого вопроса. Быстро перейдя через комнату, он подошел ко мне, глядел на меня очень серьезно и внимательно.
— Наша. Мы — это значит: Лиля Юрьевна Брик, Осип Максимович Брик, Маяковский Владимир Владимирович. Мы живем вместе.
— Как жаль, значит, вам нельзя будет взять с собой Бульку в Киев, чтобы показать мне, — произнесла я обычным тоном.
Маяковский пытливо посмотрел на меня. Я собрала все свои силы и со спокойной вежливой улыбкой глядела на Маяковского.
— Вам это всё равно, Натинька, или не нравится вам это? — спросил Маяковский.
— Почему не нравится? Это очень трогательно.
Так как Маяковский продолжал глядеть на меня слишком внимательно, я, побоявшись, что смогу потерять свое безразличие и спокойствие, принялась делать цветы из серебряных бумажек от конфет и украшать ими чахлые вазончики, стоявшие на окнах. По дороге домой мы зашли в кондитерскую и купили несколько коробок чудесного киевского шоколада.
— Шоколад свежий-свежий. Вы прекрасно довезете его в Москву, я уверена, что он понравится Лиле Юрьевне, — старалась я болтать как можно веселее.
Маяковский уехал на другой день, и записку “Привет Натиньке”, которую он обычно присылал мне перед отъездом, я разорвала и выбросила»[302].
Оттого, что скромная, домашняя Натинька действительно крепко влюбилась в Маяковского, а тот лишь добродушно развлекался, ссор у них выходило много. Она иногда обижала его, но чаще, конечно, он обижал ее, выливал на нее всю свою хмурость, всю тягость, всю недолюбленность Лилей. Особенно жестоко — уже в Москве, куда Рябова приехала учиться. После какой-то ссоры (это был уже 1928 год) она слегла с воспалением легких и решила больше его не видеть.
«Поправившись, я твердо выдерживала свое решение и Маяковскому не звонила. Уже в начале сентября, проходя по Столешникову переулку, я встретила Владимира Владимировича. С ним шла маленькая, очень элегантная женщина с темно-золотыми волосами в синем вязаном костюме. Маяковский смотрел в другую сторону, и я могла свободно разглядывать их.
“Так вот она какая, Л. Ю. Б.”, — грустно думала я. Никогда не видев раньше Лили Юрьевны, я почему-то не сомневалась, что это именно она»[303].
Однако же связь возобновилась, тем более что скромная девочка поменяла имидж: отстригла косу и приоделась, как советовал Маяковский, в «вязатые вещи». Встретив Натиньку на читке «Клопа», он предложил ей пойти знакомиться с Лилей Юрьевной, но она резко отказалась. Потом Маяковский очень настойчиво уговаривал киевскую подружку прийти встречать Новый год в Гендриков, но Натинька не пошла — не нужна ей эта Лиля Юрьевна.
И всё же они виделись часто до самой его кончины — при Натиньке он работал, писал стихи, давал ей какие-то поручения, касавшиеся юбилейной выставки. «Маяковскому много звонили, — вспоминала она. — Звонили по делам, звонили женщины. Иногда звонила Лиля Юрьевна. По первым же словам Маяковского я узнавала, что он говорит с ней, еще раньше, чем он в разговоре называл ее по имени. С ней Владимир Владимирович говорил особым каким-то голосом». Лиля была притчей во языцех. Когда Натинька как-то раз пришла к Маяковскому в черном суконном платье, очень ей шедшем, он поставил ее у двери, отошел к окну и всё время поддразнивал: «Придется вас всё же Лиле Юрьевне показать, хорошеете, так сказать, не по дням, а по часам!»[304]
Ни полсловечка, ни полшажочка без Лили Юрьевны.
Когда уже в 1960-е годы выходило тринадцатитомное собрание сочинений Маяковского, Рябова готовила к нему указатель имен и названий. Брик неоднократно делала попытки с ней встретиться, но Натинька неизменно отказывалась. А когда встреча всё-таки состоялась, Рябова, столько лет таившая неприязнь, вдруг оттаяла — и тоже стала Лиле подругой.
И ладно бы только девочка, у которой с поэтом толком ни до чего не дошло. Были и такие (вроде Хохловой), у которых Лиля брала мужей в аренду: поиграет и вернет обратно — и, главное, ничуть не таясь и не считая себя виноватой. Ведь после революции, в новом обществе, тем более с новым декретом о браке, всё это было так естественно и, главное, так совпадало с ее врожденной сексуальной вольностью.
Лефовка Галина Катанян из-за Лили потеряла мужа — и не на пару месяцев: Василий Абгарович ушел к Лиле навсегда, что называется, «пока смерть не разлучит их». Уму непостижимо, как брошенная жена смогла в конце концов сломать в себе ненависть. О первом упоминании Лили она рассказывает так:
«Мы отправляемся по проспекту Руставели покупать ковры.
— Для моей новой квартиры (в Гендриковом переулке. — А. Г.), — говорит Владимир Владимирович. — Ее уже отремонтировали, и на днях моя семья переезжает в новую квартиру.
— А кто ваша семья? — спрашиваю я не без дурного любопытства, так как в те времена ходило много разговоров о личной жизни Маяковского.
Он смотрит на меня очень строго и строго же говорит:
— Моя семья — это Лиля Юрьевна и Осип Максимович Брик»[305].
Встретившись с семьей Маяковского, Галина после секундной трезвости опьянела от Лилиной улыбки и сразу же попала в «подлильки»:
«Мне было двадцать три года, когда я увидела ее впервые. Ей — тридцать девять. В этот день у нее был такой тик, что она держала во рту костяную ложечку, чтобы не стучали зубы. Первое впечатление — очень эксцентрична и в то же время очень “дама”, холеная, изысканная и — боже мой! — да она ведь некрасива! Слишком большая голова, сутулая спина и этот ужасный тик…
Но уже через секунду я не помнила об этом. Она улыбнулась мне, и всё лицо как бы вспыхнуло этой улыбкой, осветилось изнутри. Я увидела прелестный рот с крупными миндалевидными зубами, сияющие, теплые, ореховые глаза. Изящной формы руки, маленькие ножки. Вся какая-то золотистая и бело-розовая.
В ней была “прелесть, привязывающая с первого раза”, как писал Лев Толстой о ком-то в одном из своих писем.
Если она хотела пленить кого-нибудь, она достигала этого очень легко. А нравиться она хотела всем — молодым, старым, женщинам, детям… Это было у нее в крови.
И нравилась»[306].
В крови — это значит, никакими мастер-классами не передать. Просто такой надо родиться.
Должна разливать чай
Близились 1930-е, нэп сворачивался, деревня наступала на кулака, под левыми и правыми оппозиционерами проваливалась земля. Не склонный к анализу, наивный гений-агитатор Маяковский превращался не только в рупор рекламы и пропаганды, но и в эхо террора. Он откликнется и на первый громкий политический процесс — по сфабрикованному Шахтинскому делу о несуществующей контрреволюционной организации, ставший прелюдией к грандиозной кампании о вредительстве во всех сферах промышленности и хозяйства (надо же было на кого-то спихнуть застой и бедность):
- Прислушайтесь,
- на заводы придите,
- в ушах —
- навязнет
- страшное слово —
- «вредитель»…
Люди были расстреляны или посажены при полном отсутствии доказательств вины, среди получивших условные сроки оказались и иностранцы (расстрелять их, как видно, не решились). Мир ощетинился, дипломатические отношения Советов с капстранами трещали по швам. В Лондоне британские власти даже провели обыск в торговой организации АРКОС, где работала Лилина мать. Сотрудников АРКОСа подозревали в похищении секретной бумаги из Королевского министерства воздушных сообщений. Елена Юльевна оказалась в списке на высылку, но на допросе ей удалось убедить британских спецслужбистов, что никакая она не опасная коммунистка, а очень даже буржуйка, что бежала от революции и вообще никого не трогает, играет себе на рояле, — и ей дозволили остаться.
Было неспокойно и в литературной жизни, и даже в Лилиной гостиной. ЛЕФ на волнах баталий с вапповцами-рапповцами, с одной стороны, и с воронскими-полонскими — с другой, потихоньку раскалывался. Из группы ушел Пастернак, с трудом вписывавшийся в утилитарный трафарет художника для масс. Ушел Сергей Эйзенштейн, видно, обидевшись, что его «Октябрь» был сочтен Маяковским слишком эстетским («Маяковскому картина не понравилась, — заметила Наташа Брюханенко, ходившая с поэтом на сеанс, — он сказал, что это “Октябрь и вазы”, потому что половину картины занимают люстры и вазы и прочие красоты Зимнего дворца»[307]).
Но главный скандал произошел с участием Лили. «ЛЕФ распался из-за Шкловского, — записал Чуковский в дневнике. — На одном редакционном собрании Лиля критиковала то, что говорил Шкл[овский]. Шкл[овский] тогда сказал: “Я не могу говорить, если хозяйка дома вмешивается в наши редакционные беседы”. Лиле показалось, что он сказал “домашняя хозяйка”. Обиделась. С этого и началось»[308].
Неужели из-за такой ничтожной мелочи, из-за неправильно услышанного слова могла развалиться сплоченная группа? Недобрая Елизавета Лавинская вспоминает о случившемся:
«В этот период, как я помню, Лиля Юрьевна почему-то очень нервничала. То ей хотелось ставить картину, и она требовала, чтобы ей такую картину немедленно дали, то она с азартом принималась за свои мемуары и зачитывала нам их. В конце концов она заявила, что, поскольку ей на лефовских собраниях делать нечего, она хочет “председательствовать”. Это самоназначение было воспринято некоторыми лефовцами со стыдливыми улыбками, некоторыми явно неприязненно — докатилась! Но вообще все молчали: “неудобно пойти против желания — хозяйка всё же!”.
Итак, ЛЕФ перешел к новому этапу. Председательствовала Лиля Юрьевна Брик. Осип Максимович бросал по этому поводу, как всегда, несколько иронические, но в то же время игриво-поощрительные замечания — одним словом, всем было понятно: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало! Маяковский молчал, и по его виду трудно было определить его отношение к этому новшеству. Возможно, всё обошлось бы без всяких инцидентов, вплоть до самоликвидации ЛЕФа, если бы не скандал с Пастернаком и Шкловским. Как будто всё дело состояло в том, что Пастернак отдал в другой журнал свое стихотворение, которое должно было быть, по предусмотренному плану редакции, напечатано в “ЛЕФе”. Начал его отчитывать Брик. Пастернак имел жалкий вид, страшно волнуясь, оправдывался совершенно по-детски, неубедительно и, казалось, вот-вот расплачется. Маяковский мягко, с теплотой, которую должны помнить его товарищи и которую не представляют себе люди, видевшие его только на боевых выступлениях, просил Пастернака не нервничать, успокоиться: “Ну, нехорошо получилось, ну, не подумал, у каждого ошибки бывают…” И т. д. и т. д. И вдруг раздался резкий голос Лили Юрьевны. Перебив Маяковского, она начала просто орать на Пастернака. Все растерянно молчали, только Шкловский не выдержал и крикнул ей то, что, по всей вероятности, думали многие:
— Замолчи! Знай свое место. Помни, что здесь ты только домашняя хозяйка!
Немедленно последовал вопль Лили:
— Володя! Выведи Шкловского!
Что сделалось с Маяковским! Он стоял, опустив голову, беспомощно висели руки, вся фигура выражала стыд, унижение. Он молчал. Шкловский встал и уже тихим голосом произнес:
— Ты, Володечка, не беспокойся, я сам уйду и больше никогда сюда не приду.
Шкловский ушел, а Маяковский всё так же молчал. Лиля Юрьевна продолжала ругаться. Брик ее успокаивал. Мы все стали расходиться. Было чувство боли, обиды за Маяковского и стыд за то, что ЛЕФ, которым жили, в который безумно и слепо верили, из-за которого сломали жизни, бросая искусство, ЛЕФ выродился в светский “салончик”»[309].
«Так и было?» — спросил об этом скандальчике Дувакин у Шкловского. «Так и было, — подтвердил Виктор Борисович. — Причем меня провожали Маяковский и Брик, сказали: “Мы уладим”. Но ничего уже уладить было нельзя».
То, что Шкловский всецело согласен с версией Лавинской, довольно странно, ведь Пастернак ушел из ЛЕФа еще за год до всех этих визгов и на роковом заседании не присутствовал (а некоторые утверждают, что не было там и Маяковского). Но в детали ссоры Шкловский особенно не углубляется, а лишь подтверждает, что яблоком раздора стало сделанное громко и публично принижение Лилиного статуса: дескать, баба, знай свое место:
«В[иктор] Ш[кловский]: Она что-то сказала, и я, не хотя ее обидеть, сказал: “Ты пользуешься правами хозяйки дома”. Она это довольно правильно поняла: “домохозяйки”. То есть она выступила как верховный жрец, понимаете? А я сказал, что она хозяйка дома. Это очень обидно. Тут произошло…
В[иктор] Д[увакин]: Хозяйка дома? Что же тут?.. Простите, что-то не улавливаю…
В. Ш.: Домохозяйка.
В. Д.: А-а-а!
В. Ш.: Домохозяйка, понимаете?
В. Д.: А, то есть ниже намного.
В. Ш.: Да. Я не хотел этого сказать, но мы поссорились, и я на этом расстался, я ушел»[310].
Еще в 1928 году, прямо по горячим следам всего этого крика, Шкловский написал формалисту и толстоведу Борису Эйхенбауму: «ЛЕФ распался, не выдержав ссоры моей с Лилей Брик, разделился на поэзию и прозу. Спешно ищем идеологических обоснований»[311]. Но думать над обоснованиями Шкловскому особенно не пришлось — вслед за Маяковским из ЛЕФа вышли Асеев, Осип Брик и Кирсанов. Лиля наверняка считала, что это было проявлением рыцарской солидарности, что своим выходом они как бы доказывали всем присутствовавшим при склоке, что Лиля не просто хозяйка дома (и уж тем более не просто домохозяйка), а такой же творец истории искусства, как и все они. Всяких зарвавшихся Шкловских следовало поставить на место.
Однако же, по-видимому, артисты-футуристы просто-напросто воспользовались бытовой ссорой, чтобы спрыгнуть с тонущей лодки. На ЛЕФ всё сильнее ополчались наверху, так что стоило скорее от него отмежеваться. Шкловский же, оставшийся не у дел, тут же связался с Тыняновым и Якобсоном, пытаясь реанимировать исчезнувший ОПОЯЗ. В письмах формалистов то и дело мелькает: «Брик разложился», «Маяковский остановился и движется вдоль темы»[312]. Но из затеи, конечно, ничего не вышло. Кто бы им позволил?
Вообще эту историю все перетолмачивают немножко по-разному. В памяти самой Лили Юрьевны ссора с Виктором Борисовичем преломилась, конечно, иначе. Об этом рассказывает в своих записках Бенедикт Сарнов:
«Шкловский читал какой-то свой новый сценарий. Прочитал. Все стали высказываться. Какое-то замечание высказала и она.
— И тут, — рассказывала Лиля Юрьевна, — Витя вдруг ужасно покраснел и выкрикнул: “Хозяйка должна разливать чай!”
— И что же вы? — спросил я.
— Я заплакала, — сказала она. — И тогда Володя выгнал Витю из дома. И из ЛЕФа»[313].
Маяковский, уставший от агиток, переживал в то время кризис, в чем-то совпадающий с обидами Лили. Ценят ли его как следует? Понимают ли, любят ли? Не исписался ли он? Не истаскал ли свою лирическую музу на потребу массам в полный хлам? Разъярившись от вида Кисиных слёзок и ни с кем, кроме Брика, не посоветовавшись, он пошел в нападение — на своем вечере под названием «Левее ЛЕФа» объявил, что выходит из группы. Соратники онемели и, что называется, заморозились. Большинство сочло это предательство ЛЕФа местью за Лилю, у которой поэт был на поводке — иногда на длинном, а порой и на коротком. Да и Лиля считала так же: «…Ни одна женщина не может отказаться, когда ей говорят: расшибусь, но отомщу за тебя…»[314]
Впрочем, Маяковский действительно всё острее ощущал, что литература факта, конвейер злобы дня его расшатывают и вычерпывают по глотку. Наверняка его коробило, что его имя ассоциируется не с высокой поэзией, а с рекламой и частушками. «Ося, усмехаясь, заявлял: “Нигде кроме, как в Моссельпроме” — это лучшее, что сделал Володя»[315], — писала Лавинская. Но если даже предположить, что она перевирала (человек из омута депрессии видит настоящее и прошлое искаженно), такое мнение действительно имело место. Другое дело, что настоящий лефовец согласился бы с Осиным отзывом и «моссельпромил» бы еще активнее, а мысли о высоком, оторванном от советского хозяйства и производства, давил бы на корню.
Но Маяковский не хотел ничего давить. И о чем бы он там ни гремел на трибунах, его тянуло к настоящей поэзии. Но, увы, отчужденная другими мужчинами Лиля, видно, уже не служила достаточным топливом для Маяковского-лирика. Так что в отсутствие темы он еще ближе тянулся к социальным заказам. После выхода из ЛЕФа им сразу же был сколочен РЕФ — Революционный фронт искусства. Искусство провозглашалось орудием классовой борьбы; литературный текст признавался хорошим только в том случае, если вел к конкретным целям и, шире, помогал социалистическому строительству.
Ну а Лиля на несколько десятилетий восстала на Шкловского за глупую, но в общем-то невинную выходку — и продолжала кукситься даже тогда, когда оба превратились в старичков. Отношение к Виктору Борисовичу, обозвавшему королеву домохозяйкой, проскальзывает и в Лилиных дневниках, где она не упускает случай вставить шпильку:
«Перцов (лефовец, работник «Совкино», а в будущем — официальный советский маяковед, участвовавший, в частности, в известном разгроме Пастернака. Он тогда брякнул, что поэзия Пастернака — это восемьдесят тысяч верст вокруг собственного пупа. — А. Г.) был у Шкловского и говорит, что ушел с отвращением» (1929 год).
«Я знаю, почему Шкловский так плохо пишет, — ему лень… Чувствую себя Шкловским — противное чувство!»[316] (1932 год).
Когда уже в 1945 году Эльза напишет ей: «Почему вы с Витей всё еще в ссоре? Война, смерть, а вы не помирились, неужели он тебя чем-нибудь обидел? Помирись!» — непреклонная Лиля ответит: «С Витей я даже и не в ссоре. Просто он злой и активный враг Осин, и Володин, и Васин (В. А. Катаняна. — A. Г.), и мой»[317].
Шкловский и вправду за всеми перипетиями своей авантюрной жизни не успел подучить орфографию и писал так, как говорил (или говорил, как писал). Но выходило у него блистательно. Лилины претензии к всемирно известному теоретику и беллетристу довольно смешны, учитывая, что саму ее трудно счесть таким уж исключительным стилистом. Вся ссора и вправду родилась из жесткого, даже обидного обсуждения сценария, к которому приложил руку Шкловский. Жемчужный с Осей довольно резко его критиковали, Шкловский стал огрызаться, Лиля предложила вместо сценария Шкловского обсудить любой другой плохой сценарий. Тут-то уязвленный автор и вскричал про хозяйку. Воспоминания же Лавинской присутствовавший при ссоре Василий Абгарович Катанян позже назвал «психопатическими», утверждая, что там «кроме инсинуаций есть и просто бестолковщина и путаница»: «Пастернак, например, к совершенно неправдоподобно изложенному ею инциденту Лиля — Шкловский никакого отношения не имел. Его там просто не могло быть. Инцидент этот произошел на одном из последних лефовских “вторников” ранней весной 1928 года. Пастернак же с середины 1927 года считал себя в ссоре с лефовцами»[318].
И всё-таки, повторюсь, Лиля так всполошилась, потому что ироничный Виктор Борисович, кажется, угадал. Она видела себя верховной жрицей, но ее царскому тщеславию нанесли публичный удар — примерно того же порядка, как тот, что она получила от Николая Пунина, который вожделел ее, но болтать с ней об искусстве отказывался. Казалось бы, ну что тут такого, ну попала Шкловскому вожжа под хвост, ну перегнул от обиды, с кем не бывает. Тем более что, говорят, на следующий день Виктор Борисович принес обиженной стороне извинения в письменном виде. Но Лиля была уязвлена до костей. Она-то считала себя равноправной лефовкой, а ей то и дело указывали место у самовара. Выходит, что ее драгоценное мнение кто-то считает неважным, неинтересным? Да как они смеют! Нельзя отрицать, что для Маяковского и многих других нетривиальных людей Лилино мнение и вправду служило мерилом и ориентиром.
Виктор Ардов, когда их с Дувакиным разговор свернул на ЛЕФ, подтвердил, что дело было в Лилиных претензиях на высокий статус внутри ЛЕФа: «Шкловского они скоро оттуда оттеснили, потому что Шкловский не уважал и не признавал авторитета Лили Юрьевны, а вот этого они не могли претерпеть. <…> Я спросил Шкловского: “За что вы ушли, почему?” Он говорит: “Потому что Лиля на заседаниях говорит глупости, а я не хотел этого терпеть, вот они меня и высадили”»[319].
Лиле нравилось нравиться. Казалось, окруженная «подлильками», воздыхателями и хахалями, дирижируя сливками общества первого сорта, она была уважаема и ценима. Но, видно, и впрямь был прав Кулешов, который, по заверению Б. Янгфельдта, как-то в пылу размолвки крикнул ей: «Тебя никто не любит, твои друзья-лефовцы терпеть тебя не могут!» Янгфельдт цитирует дневник оскорбленной Лили:
«Разве я не правила все Володины корректуры? Разве я не работала в Росте («Окнах РОСТА». — А. Г.) дни и ночи? Разве не бегала по всем его делам во время его частых разъездов? Я работала в Госиздате, в детском отделе, переделывала книги для взрослых в книги для детей. Я делала это очень хорошо, но должна была подписывать “под редакцией О. Брика” или “Н. Асеева”, хотя они это делать не умели и не хотели, и моей работой Гиз (то есть издательство. — А. Г.) был очень доволен. Но мое имя не внушает доверия.
Когда мы с Жемчужным написали сценарий “Стеклянный глаз” и нам поручили его поставить, меня каждый день снимали с работы. Посреди репетиции посылали приказы немедленно передать всю работу Жемчужному, т. к. я работаю по протекции, без квалификации. Сценарий пишет за меня Брик, ставит Жемчужный, а монтирует Кулешов. Ужасно трудно было кончить картину. <…> Во время монтажа “Стеклянного глаза” Жемчужному дали следующую картину, и монтировала я “Стеклянный глаз” абсолютно самостоятельно…»[320]
Она жалуется, что разочаровалась в самых близких людях, что почувствовала в первый раз, что решительно никому не нужна, что даже Ося плохо понял ее в этот раз.
Так ли уж пусты Лилины сетования? На первый взгляд да: всеми балованная и обожаемая, привыкшая к беспрекословным подаркам судьбы даже в самые страшные годы, Лиля готова была лезть в петлю от первого же криво сказанного кем-то слова. Имела ли она право претендовать на равную роль за столом? Она была музой, вдохновительницей и любовницей. Она могла играть в литагента и немного в литсекретаря — распоряжаться гранками, искать и находить издателей, бегать в редакции за свежими корректурами, переписываться с заказчиками и получать гонорары (чужие гонорары, которые шли в ее карман). Типичный пример рабочего поручения Маяковского Лиле:






