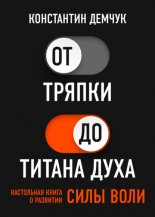За тридцать тирских шекелей Корецкий Данил

– Ваша жена видела! – запальчиво возразил остроносый инквизитор. – А она была доброй прихожанкой, пока вы не сбили ее с правильного пути!
Джузеппе опустил голову. Возражения были бесполезны.
– А занимался ли подсудимый колдовством? – снова взял допрос в свои руки отец Скопио. – Добывал ли он таким образом золото?
Лоренца долго молчала.
– Не знаю, чем он занимался, но часто запирался в подвале, жёг огонь в печи, и из вентиляции воняло чем-то противным… А золотые монеты он часто давал мне, и все они были новенькими, будто их только отчеканили…
– Это и есть колдовство! – снова вмешался отец Умберто. – Ему передавали монеты из самого ада! И адскую вонь чувствовала свидетельница!
Скопио недовольно постучал тяжелым ключом по столу.
– Достаточно! Уведите свидетельницу!
Калиостро проводил жену взглядом, обратив внимание на ее грязные подошвы. Это стало последним штрихом в череде увядшей внешности, убогой одежды и предательства. Чувства к Лоренце исчезли, осталась только неприязнь и какая-то брезгливость. Может, для этого они всех и разувают?
– После примерки «испанского сапога» она бы не смогла ходить, – будто прочитав его мысли, вкрадчиво сказал Белый инквизитор. – С раздробленными ступнями ведьму приходилось заносить на эшафот… Сейчас инквизиция стала милосердной, и скажите за это спасибо!
– Спасибо, святой отец! – послушно повторил Калиостро. Он знал, что тиски калечат ноги испытуемого. По сравнению с этим хождение босиком – величайшая милость.
– Заведите слуг! – приказал Скопио.
Паоло и Игнацио тоже рассказали про все, что знали: и про Черный замок, и про занятия в подвальной лаборатории, и про внезапно возникшее богатство…
Калиостро пал духом и ждал дополнительных разоблачений еще от Тома и Грации, но они перед трибуналом не появились. Уже когда процесс заканчивался, отец Скопио невольно прояснил причину этого:
– Слуга подсудимого – карлик и женщина, с которой он сожительствовал во грехе, вылетели сквозь железную решетку и улетели из замка нашей канцелярии, при этом лишили жизни славного слугу инквизиции отважного Гаэтано и выпили из него всю кровь! Думаю, что и в этом замешан тот, кто называет себя графом Калиостро!
– Нет, нет, отец Скопио! Они сами занимались колдовством, и даже меня хотели научить летать! Но я отказался от этого богопротивного дела!
Члены трибунала оживленно зашептались.
А Джузеппе вдруг отчетливо услышал:
– Какие же жалкие эти ничтожные людишки! Не задумываясь предают и оговаривают друг друга!
Джузеппе закрутил головой, но никого не увидел. Больше того, по реакции окружающих было видно, что, кроме него, никто ничего не слышал. Но он был готов поклясться, что это не галлюцинация. К тому же голос показался знакомым. Напрягая память, он вспомнил, где его слышал: много лет назад в замке Локвуд, на шахматном балу! Это голос того, кто маскировался под фигуру коня, того, кто подарил ему перстень!
Он в очередной раз переступил ногами, и отец Умберто это заметил.
– Тебе, наверное холодно стоять, грешник? Ничего, скоро мы тебя согреем!
И все, кроме Скопио, захихикали. Белый ворон сохранял скорбное и даже сочувствующее выражение лица.
В ночь перед оглашением приговора Джузеппе, как ни странно, уснул. Ему снилась мама. Она сидела у его кровати и пела хорошо знакомую каждому итальянцу народную колыбельную песню:
Баю-бай, баю-бай, Этого ребёнка кому я отдам? Отдам ли его Бефане[14], – Она позаботится о нём неделю. Отдам ли его черному человеку – Он позаботится о нём целый год. Отдам ли его младенцу Иисусу – Он его возьмет и больше не отдаст…
– Вследствие рассмотрения твоей вины и сознания твоего в ней, присуждаем и объявляем тебя, за всё вышеизложенное и исповеданное тобою под сильным подозрением у сего Священного судилища в ереси, как одержимого ложною и противною Священному и Божественному Писанию мыслью, – заунывно читал отец Скопио.
От волнения у Джузеппе звенело в ушах, слова звучали неразборчивым фоном, мозг выхватывал из речи лишь главное:
– Также признаем тебя ослушником церковной власти за учение, признанное ложным и противным Священному Писанию… Дабы столь тяжкий и вредоносный грех твой и ослушание не остались без всякой мзды и ты впоследствии не сделался бы ещё дерзновеннее, мы постановили передать тебя на суд губернатора Рима, поручая подвергнуть наказанию без пролития крови…
Эта лукавая формулировка на самом деле не содержала в себе милосердия: формально инквизиторы выступали против пролития крови, так как это было бы нарушением канонических правил, но назвать приговор гуманным вряд ли было возможно, ибо он требовал сжечь подсудимого живым!
Казнь совершалась прохладным весенним утром на площади Минервы. Пронизывающий ветер сдувал тепло неласкового белого солнца, напоминавшего расплавленный свинец, который на стадии Альбедо приобрел серебристый цвет «Луны», но еще не налился желтизной «Солнца» на стадии Рубедо, до которой Делание еще не дошло. Впрочем, обо всем этом был осведомлен и мог со знанием дела судить только один человек, которому сейчас было не до воспоминаний о делах, за которые его приговорили к смерти. Тем более что предстоящая впереди стадия была далеко не такой долгожданной и приятной, как алхимическое Рубедо…
С утра площадь была забита жаждущим жестокого зрелища народом: в буквальном смысле слова тут яблоку было негде упасть. Сейчас здесь не было разномастных Дерантов, Карлосов, Сантино или Витторио, не было Альбертин, Виолетт, Коломбин или Орнелл: было одно, сожравшее отдельные личности и всосавшее их кровь, ум и волю чудовище, имя которому – толпа! Словно тысячеголовое море, толпа шумела, ревела и колыхалась приливами и отливами, ибо составляющие ее горожане утратили способность перемещаться, думать и говорить поодиночке.
Когда приехали кареты с членами городского магистрата и стражники, взяв копья поперек туловища, прокладывали им дорогу, каждый из зевак не мог отступить отдельно от остальных, потому что для этого не было места, и толпа, как единый организм, с протяжным вздохом откатилась на десять шагов назад, подвинув другую шеренгу стражников, оцепивших высокий эшафот и черный столб с привязанной к нему неподвижной человеческой фигурой, до колен засыпанной дровами.
После того как кареты проехали и знать заняла места на специально приготовленной трибуне, стражники ослабили давление, и толпа качнулась обратно, заполнив освободившийся было проход и позволив второму кольцу стражи освободить запретную зону вокруг эшафота.
Малая стрелка часов на башне ратуши упиралась в цифру десять, а большая, дернувшись, перескочила на двенадцать, и к эшафоту вышел отец Скопио, который всегда отличался педантичностью и неукоснительной точностью. Повернувшись лицом к спинам стражников, сдерживающих многоголовую толпу, он развернул свернутую в трубочку бумагу с солидной свинцовой печатью, выждал, пока шум на площади уляжется и наступит оглушительная тишина. Оглядев заполненную до отказа площадь, он принялся читать указ Его Святейшества папы Пия VI.
Несмотря на старания Скорпио, голос его не мог охватить всю площадь, но смысл прочитанного моментально передавался толпой от первых рядов все дальше и дальше, так что даже те, кто не услышал старшего инквизитора, с небольшим запозданием узнавали, о чем он говорил.
Скорпио закончил читать и свернул документ. Толпа вновь зашумела, послышались какие-то выкрики, не отличающиеся разнообразием, можно было разобрать некоторые, которые повторялись чаще других:
– На костер!
– Сжечь колдуна!
– Смерть еретику!
Белый ворон взмахнул рукой. Палач в длинном красном балахоне и остроконечном капюшоне с прорезями для глаз и рта поджег с трех сторон хворост под эшафотом. Огонь с треском побежал вокруг, перекидываясь на дрова и быстро набирая силу. Порывы ветра раздували его, через несколько минут пламя поглотило весь эшафот и взметнулось почти до верха черного столба. Во все стороны летели искры, столбом поднимался серый, все больше чернеющий дым. Привязанная фигура некоторое время еще проглядывала сквозь дым и пламя, но потом скрылась в жадных языках огня. До последнего она оставалась неподвижной, да и обычных душераздирающих криков слышно не было.
Ничего удивительного: к столбу была привязана кукла – одежда Калиостро, набитая тряпьем и соломой! Это была последняя мистификация Джузеппе Бальсамо, на этот раз устроенная не самим хитроумным авантюристом, а судьбой: папа Пий VI, ознакомившись с материалами дела, заменил полное сожжение частичным, с последующим пожизненным заключением после публичного покаяния.
Сам осужденный – босой, в холщовой рубашке, стоял на коленях лицом к главному входу церкви Санта-Мария, а спиной – к мраморному слону, рядом с которым гудел и трещал огромный костер. Несколько монахов бросали в огонь весь изъятый у него магический скарб: толстые старинные книги в тяжелых кожаных переплетах, тетради с записями, рецепты Делания, алхимическое оборудование – мерные весы, тигли, химикаты, формы для отливки монет, реторты и пробирки, части атанора… Туда же летели костюмы, головные уборы и личные вещи. Именно это и составляло «частичность» – символическое сожжение фигуры обвиняемого и уничтожение вещественных доказательств и его имущества. Но уничтожение ценностей – это серьезное испытание даже для служителей инквизиции. Соблазн велик, и не все его выдерживают: молодой брат Агостино, вместо того чтобы бросить в огонь, сунул в карман перстень, на котором лев держал в зубах камень, а также несколько подозрительно новых гиней…
Но Джузеппе Бальсамо это не волновало. Он стоял на коленях, слушая шум заполнившей площадь толпы. Этот шум напомнил, как он выступал с Грацией на Морской площади в Палермо – публика шумела так же. Правда, тогда сзади не слышалось устрашающего гудения огромного костра. Огонь был такой силы, что Джузеппе чувствовал спиной его жар. Сложив руки перед грудью, он вроде бы произносил покаянные слова молитвы, хотя на самом деле ни одной молитвы толком не знал. Но это его не смущало, и он говорил то, что запомнил:
Баю-бай, баю-бай, этого ребёнка кому я отдам? Отдам ли его Бефане, – она позаботится о нём неделю…
Впрочем, при всём усердии из-за шума никто не смог мог бы разобрать слов… От едкого дыма сгорающих химикатов слезились глаза.
Зрелищная часть экзекуции закончилась, толпа вновь распадалась на отдельных людей, и эти люди, в основном недовольные обманутыми ожиданиями, расходились с площади. Джузеппе Бальсамо посадили в черную карету для арестантов и отправили отбывать наказание в тюрьму для особо важных преступников – бывшую крепость Сан-Лео. Он уже знал, что Лоренце раскаяние и предательство не очень помогли: её пожизненно сослали в женский монастырь в Риме. Паоло и Игнацио отпустили как против воли вовлеченных в грех хозяином, о судьбе Грации и Тома ничего известно не было.
Не знал он и о том, что брат Агостино продал его перстень бродячему торговцу, но через некоторое время монаха поймали на сбыте золотых монет, заставили признаться в фальшивомонетничестве и повесили.
Бывшая крепость, а ныне тюрьма, построенная на самой вершине горы Фельтро, возвышалась над долиной реки Мареккья и была видна издали за много вёрст. С трёх сторон она была окружена отвесными скалами, а со стороны городка Сан-Лео находилась крепостная стена с двумя круглыми башнями по краям, примыкающим к пропасти. Путь к ней был извилист и пролегал среди множества скалистых утёсов.
Большинство камер тюрьмы в прошлом были помещениями казарм крепости. Слухи о магических способностях нового заключенного привели к тому, что Бальсамо-Калиостро поместили в бывший пороховой склад – круглую комнату в башне с единственным входом через люк в потолке. Вначале спустили лестницу, а когда он оказался внизу, возле деревянной кровати с тощей периной, лестницу подняли, захлопнули и заперли люк на трехметровой высоте и оставили наедине со своими мыслями и воспоминаниями. Он обошел камеру по кругу, подошел к небольшому окошку, которое выходило на пропасть под отвесной скалой и перекрывалось четырьмя рядами решёток. Ясно было, что выбраться отсюда без посторонней помощи невозможно!
Он долго смотрел на раскинувшуюся далеко внизу зеленую долину, на живописную реку, на стаи птиц, которые легко парили в теплых потоках воздуха на уровне тюрьмы и столь же легко пикировали вниз, поклевать что-нибудь в полях и виноградниках.
«Зря я отказался учиться летать! Хотя еще пришлось бы учиться проходить сквозь железо!» – саркастически подумал Джузеппе. И тут же испытал стыд: он оболгал Грацию и Тома – единственных друзей, которые не предали его! А он обвинил их в колдовстве! Проклятье! Как бы забыть про это навсегда?
Он бегал от стены к стене, лихорадочно размышляя, как найти выход. Не из сложного положения, в чем он был мастером, а из этого каменного мешка…
Без помощи друзей не обойтись, а друзей у него нет! Значит, надо находить контакт с тюремщиками, заводить с ними дружеские отношения, подкупать и покупать себе свободу! Но у него не было и денег…
Комендантом тюрьмы Сан-Лео был пожилой служака Сальватор Грава, бывший военный, участвовавший во многих сражениях, которые закалили его характер и оставили шрамы на теле. Для него столь известный узник оказался лишней головной болью. Первую жалобу Джузеппе написал через неделю после прибытия в Сан-Лео, требуя заменить висящее на стене картонное распятие железным или хотя бы деревянным. Еще через неделю потребовал выдать глину, чтобы замазать щели в стене, где прятались мешающие ему спать клопы. Потом жаловался на плохое питание, на сквозняки, на сырость и холод от каменных стен. Каждое такое ходатайство порождало длительную переписку, потому что Сальватор Грава опасался принимать решения самостоятельно и любую мелочь согласовывал с Римом. В большинстве случаев такая переписка заканчивалась отказом. Правда, однажды комендант пошёл на риск и мужественно велел побелить стены. Эта небольшая победа подбодрила узника, к тому же переписка помогала ему скоротать время.
Так прошло несколько лет. Калиостро заметно располнел и обленился. Если первое время он иногда разговаривал сам с собой, то теперь из-за длительного молчания у него появлялась задержка речи, когда возникала необходимость что-то сказать охранникам. И прошения он писать перестал. Появилась одышка и частые головные боли, так что большую часть времени Джузеппе просто лежал или спал. И однажды, во сне, он увидел предводителя «волков пустыни» – железного и бесстрашного Али.
«Вот друг, про которого я забыл, и который может мне помочь!» – блеснула безумная мысль. Хотя почему «волк пустыни» после стольких лет разлуки должен бросить свои дела и помчаться на выручку к одному из десятков давних знакомых, он бы не смог правдоподобно объяснить. Но надежда делает реальными самые сказочные мечты, и Джузеппе, после долгого перерыва, вновь потребовал бумагу и чернила.
Письмо предводителю «волков пустыни» он писал несколько дней. Надо было скрытно попросить о помощи, точно описать свое местонахождение и при этом обмануть тюремную цензуру. В конце концов он остался доволен полученным творением:
«Здравствуй, мой дорогой названный брат Али! Надеюсь, ты пребываешь в добром здравии, как и весь твой род, да благословенны будут ваши дни!
Не могу похвастать тем же: сижу в одной комнате и даже почти разучился ходить. Радует только прекрасный вид из окна на город Сан-Лео, на долину реки Мареккья – так же, как живущих внизу радует вид на старую крепость, стоящую на горе Фельтро. Я часто вспоминаю услугу, которую ты оказал мне в Хуме. Если бы ты приехал сюда, то думаю смог бы повторить свой выигрыш в кости у таких мастеров игры, как Азеф и Зифар. Я пойму, если в силу занятости и жизненных обстоятельств ты не сможешь повторить ту замечательную игру, но всем сердцем буду на это надеяться. Жму твою крепкую руку и обнимаю, Джузеппе.»
Он написал на конверте адрес его брата, который был лаконичным, емким и простым для запоминания: «Египет, город Нурух, второй квартал, лавка сапожника Вазира Абаса ибн Хуссейна (для Али)». Потом отдал письмо надзирателю и через несколько дней узнал, что оно направлено адресату. Оставалось только ждать и надеяться.
Но прошел месяц, второй, третий, полгода… Надежда, вспыхнувшая было в сердце, стала угасать, а через девять месяцев от нее остались только остывающие угольки…
Однажды жарким летним днём в кабинет Сальватора Гравы, коротко постучав, вошел его помощник Никола Конти.
– У нас гость, коменданте! – с порога доложил он, переводя дух, как будто бежал по двору, а потом по лестницам. – Прибыл чужестранец, который принес вам какой-то пакет!
Конти был взволнован: посторонние крайне редко приходят в крепость. А уж визита иноземца они вообще не могли припомнить. К тому же все письма и пакеты приносят официальные курьеры!
Волнение помощника передалось коменданту.
– Где он?
– У наружных ворот.
– Один?
– Нет, с ним четверо сопровождающих.
Комендант подошел к зарешеченному окну и выглянул наружу. Крепостная стена мешала обзору, но двух спешившихся всадников и несколько лошадей удалось увидеть.
– Проведи его ко мне. Одного. Но вначале выведи во двор дежурную смену с оружием – это дисциплинирует…
Помощник кивнул и исчез. Сальватор Грава не отходил от окна, наблюдая за происходящим. Он видел, как выбежали и построились в шеренгу у крепостных ворот четыре надзирателя в форме и с ружьями за спиной. Как Никола Конти впустил во двор человека в длинном и широком черном плаще и меховой шапке.
«И как ему не жарко?» – удивился комендант.
«Вот и спроси у него!» – пришла в голову отчетливая мысль. Слишком отчетливая. Комендант закрутил головой, оглядываясь. Показалось даже, что это не мысль, а слова, которые кто-то сказал рядом с ним. Но рядом никого не было: в кабинете он был один…
В корилоре послышались тяжелые шаги. Комендант поспешно сел за стол и придвинул недавно поступивший циркуляр из Рима, изобразив, что увлеченно читает важный документ. Дверь распахнулась без стука, и порог переступил немолодой, но крепкий мужчина – высокий и широкоплечий, с волевым лицом и глазами много повидавшего человека. Шапка из «золотого» каракуля, усы, борода, на щеке – длинный шрам, который успел побелеть и почти не выделялся на смуглой коже. Но Сальватор Грава родился и вырос в Неаполе, а потому сразу определил, что когда-то давно незнакомца полоснули по лицу острым ножом.
– Здравствуйте, сеньор комендант, – с акцентом сказал он, учтиво склонив голову. Плащ скрывал фигуру, но можно было уверенно сказать, что человек очень силен, к тому же от него исходила тяжелая волна уверенности и опасности, как от дикого зверя. – Меня зовут Али, и я хотел бы поговорить с вами по важному делу. Наедине!
Али повернулся и бросил быстрый взгляд на замершего в дверях Конти, который явно чувствовал себя не в своей тарелке. Под взглядом неожиданного гостя он шагнул назад и захлопнул дверь. Причем сделал это без приказа своего начальника, что являлось грубым нарушением субординации. Если и другие надзиратели станут слушать не коменданта, а чужака, то Али станет командиром крепости!
– Я не принимаю посетителей для разговоров, – резко ответил Сальватор, показывая, кто здесь хозяин. – Вы сказали, что у вас для меня пакет. Где он? И кто его передал? Надеюсь, вы не шутили?
– Нет! – Али качнул головой. – Я вообще никогда не шучу! Вот, что у меня есть для вас…
Он сунул руку под плащ и увесистый кожаный мешочек, характерно звякнув, упал на стол коменданта. Рядом лег пистолет с непривычно чёрной, словно подгорелой, рукояткой.
– Проведи меня к Калиостро! – властно сказал Али. – Или за золото, или за свинец. Выбирай!
Повисла минутная пауза. Сальватор Грава был старым солдатом, он видел много смертей, рисковал жизнью и сам убивал. В явившемся неизвестно откуда чужеземце он почувствовал своего двойника. Под распахнутым плащом был виден еще один пистолет за поясом, а на левом боку висела сабля с богато отделанной рукояткой. Лицо совершенно спокойно, и из-под меховой шапки не выкатилось ни одной капли пота. Его не остановить – пожалуй, он один сможет разделаться с шестью тюремщиками Сан-Лео. А на улице ждут еще четверо, наверняка таких же, как он… Но дело в том, что его и не надо останавливать.
– Мне достаточно платят, а в спине уже сидит пуля, – медленно проговорил Грава, и голос его был тверд. – Поэтому спрячьте и ваше золото, и свинец. Я проведу вас без всяких условий!
Они прошли по коридорам, но не поднялись по лестнице к люку в бывший пороховой склад, а спустились по каменным ступеням в подвал. Здесь царили полумрак и прохлада. Сопровождавший их Никола Конти шел впереди с трещащим и плюющимся искрами факелом. Пахло копотью, сполохи пламени рисовали на каменных стенах три огромные тени, размеры и форма которых то и дело менялись.
Конти остановился у тонкой дощатой двери, на которой вдобавок не было замка.
– Открывай! – приказал комендант.
Заскрипели несмазанные петли. Свет факела тускло осветил небольшую комнату. Это была не камера, а кладовка или какое-то другое подсобное помещение. На грубо сбитом из неструганных досок столе лежало что-то длинное, накрытое белой простыней.
– Дай факел! – Али шагнул вперед, сбросил саван и осветил мертвое тело. Внимательно осмотрел, нагнулся к лицу, поднес факел поближе.
– Пятна. Так бывает при отравлении мышьяком…
– Это трупная пигментация, – сказал комендант. – Он умер три дня назад. Ждем разрешения из Рима на захоронение. Но доктор, который должен удостоверить смерть, все не едет…
Али ничего не сказал – развернулся и молча пошёл к лестнице. Через несколько минут кавалькада из пяти всадников во весь опор поскакала прочь от мрачной крепости Сан-Лео.
В это же время в далёком Палермо свежий ветер разносил над Морской площадью аппетитный запах похлебки, которую, свесив ноги с помоста для выступлений, уплетали из одной тарелки Грация и Том.
– Когда-то мы здесь так же сидели с Джузеппе, – вздохнула Грация. – И тоже ели гармуджу, только голубя для нее поймал он…
– Не грусти! – подбодрил её Том. – Вот увидишь, его скоро выпустят. Или сбежит. Не может быть, чтобы он не нашёл выход! А раз вы здесь познакомились, он обязательно приедет сюда…
– Когда-нибудь, может, приедет. Только в этой жизни или в следующей? Годы летят быстро, и я уже не могу, как в молодости, прятаться в «волшебном ящике» или голыми ногами отвлекать внимание от фокусника… А ведь прилично зарабатывают только артисты.
– Ну, меня пока «волшебный ящик» не пугает, – подбодрил ее Том. – Ведь моего заработка нам хватает?
– Хватает, – вздохнула Грация. – Но без заведующей хозяйством легко обойтись, и Луиджи в любой момент может меня выгнать, чтобы сэкономить мое смешное жалованье…
– А ты не хочешь собрать собственную труппу? Наберем маленьких людей, выучим всем номерам. Ты будешь хозяйкой, а я буду ими командовать. Вдобавок могу деньги считать…
– Считать я и сама могу! – рассмеялась Грация. – Было бы что! Но идея мне нравится.
– Хватит прохлаждаться! – раздался снизу недовольный голос Луиджи. – Обойдите дальние кварталы и объявите про завтрашнее представление, а то зрителей все меньше и меньше…
Они испуганно вскочили.
– Сию минуту, хозяин! – крикнул в ответ Том.
– Уже идем, – поддержала его Грация.
Над площадью, хлопая крыльями, кружили голуби. Они не знали, кто будет так же летать здесь и завтра, кому отрубят голову для фокуса, а кто попадет в гармуджу. И было в этом незнании нечто общее с человеческими судьбами…
Часть третья
Менты и бандиты
Глава 1
Оценщик ювелирки Юздовский
Ленинград, 1974 г.
Особа княжеского рода даже дома не должна опрощаться и надевать растянутое трико, как делает большинство наших сограждан. Граф же и в квартире носил дорогой халат, надетый на кипенно-белую рубашку с тщательно завязанным галстуком, из-под слегка подвернутых рукавов выглядывали накрахмаленные манжеты с рубиновыми запонками. Брюки с острыми «стрелками» раньше ниспадали на зеркально блестящие черные туфли, но с годами ноги стали отекать, и он позволил себе заменить их домашними тапочками, правда, кожаными, дорогими, импортными.
Граф нервно ходил по квартире: Виолетта опять не ночевала дома! Позвонила Верка, пьяным голосом сообщила, что подруга у нее заночует – и отключила телефон… Да что они, сговариваются перед тем, как замуж выходить?! И Лиля все у подруг ночевала, а потом срочно развелась и уехала в Тбилиси к какому-то крупному деловику-виноделу.
– Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, – раздалось из кабинета. Это звякал подаренный Охотниковым фарфоровый китаец эпохи Мин. Он кивал головой, хотя никто его не трогал и голову ему не качал.
– Ну, чего ты? – буркнул Граф. – Что головой машешь?
– Удивляюсь тебе, вот что… Ты же их в одном месте берешь… В варьете или от шеста в подпольном стриптиз-клубе… А потом удивляешься…
– Что?! А?! – Феликс Юздовский закрутил головой, не понимая – то ли послышался ему тонкий голос, то ли действительно прозвучал. Не может же статуэтка с ним разговаривать!
– И чего ты от них хочешь? Чтобы детей рожали и борщ варили, да в квартире убирали? Нет, ты от них хочешь длинные ноги, круглую задницу да большие сиськи! – услышал он тот же голос.
– Кто говорит?! – Феликс прислушался, но кроме звяканья «дзинь-дзинь» ничего не услышал.
– … А чем ты их берешь? Душевным обхождением да горячей любовью?! Опять нет! Деньгами покупаешь… А если ты купил товар дешевле, чем другой предложит, так он и уйдет туда, где выгоднее!
– Кто уйдет? – спросил Феликс, понимая, что разговаривает сам с собой.
– Товар уйдет. Лиля ушла, Виолетта уйдет… Когда деньги против денег, так и получается…
– Чушь какая-то! И что она в голову лезет? – Юздовский достал из хельги початую бутылку коньяка, плеснул в пузатый бокал, залпом выпил.
– Никакая это не чушь! Вот если из коньячной бутылки вместо коньяка лимонад польется – это будет чушь! А ты покупаешь одно и то же, а потом удивляешься – почему одно на другое похоже!
В прихожей хлопнула дверь. Граф вскинулся:
– Виолетта, ты?!
– Я, мой зайчик, я! Кто же еще? – ласково пропела жена.
Феликс сел за стол, взял лист бумаги и принялся что-то черкать на нем, изображая, будто занят работой. Через несколько минут Виолетта зашла к нему, наклонившись, клюнула в макушку.
– Где ты была?! – зло спросил он.
– Ой, да мы же девичник собрали, так с Веркой и Томкой и загуляли…
– Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, – китаец отрицательно качал головой.
– Врешь ты! А кто из мужиков был?
– Да что ты? – жена округлила глаза. – Никого!
– Два на два, – подсказал тонкий голос.
– Двое мужиков. И вас двое!
– Ой, ну это вначале… А потом они ушли, а Томка приехала…
Виолетта стала раздеваться. Видно, хотела загладить свою вину привычным и безотказным способом.
Но сейчас Юздовский был не в настроении.
– А чего ты на девичник сетчатые колготки надела и белье французское?
– Ой, ну не могу же я ходить, как рабочая с Кировского завода!
– А ты что, на смене была? Где твой рабочий комбинезон? Или это и есть твоя рабочая одежда?
– Ну, перестань! – Виолетта стала принимать разные соблазнительные позы. Поскольку она раньше действительно работала в стриптизе, то получалось у нее хорошо. Сердце Феликса смягчилось.
«Кто его знает – может и не врет… Мало ли, что у этого болванчика голова качается… Может, действительно напились с девчонками…»
Виолетта заметила перелом в настроении и быстро уселась мужу на колени. Он не стал ее прогонять. И привычный способ безотказно сработал в очередной раз.
Потом они выпили вместе.
– А если какой-нибудь прохвост, богаче чем я, предложит тебе уйти к нему? – спросил Феликс, зная, какой будет ответ, и не сомневаясь, что в него можно будет поверить. И он не ошибся.
– Да что ты, зайчик! Разве дело в деньгах? Ты ведь такой великолепный, и потом – ты князь! А князья на дороге не валяются…
Словом, они помирились. И действительно, не ссориться же с женой из-за слов фарфоровой статуэтки! Это уже шизофрения! Впрочем, и «слова фарфоровой статуэтки» – это тоже шизофрения!
Вечером Феликс позвонил Охотникову.
– Слушай, Игорь, а у кого ты купил китайца?
– Какого китайца, – не понял реставратор.
– Фарфорового. Что мне подарил.
– А-а-а! У какого-то ханыги. А что?
– Интересно. Может, у него еще что-то интересное есть?
Игорь Петрович на другом конце провода вздохнул.
– Да нет у него ничего, даже приличной рубашки. На вид – пустой, как барабан. Обтерханный весь. Украл где-то или из семьи вынес. Скорей всего, из чужой. А что?
– А найти его можно? Телефон ты у него не взял?
Охотников насторожился.
– Нафиг он нужен, телефон брать? Да ты толком скажи мне, что случилось? Заподозрил, что подделка? Так можно комиссионную экспертизу сделать!
– Ничего я не заподозрил. Выбрось из головы, – ответил Граф и положил трубку.
Братья-близнецы Серп и Молоток специализировались в Москве по ограблениям командировочных и всяких приезжих. Реальные такие вышибалы под метр девяносто, кулаки с голову ребенка, не отягощенные интеллектом лица и, глаза в которых никто и никогда не видел жалости. Потом их прибрал к рукам Голован, который был в авторитете, замешанном на «мокрых» делах, но с чудинкой: придумал какие-то новые грабежи, их кодлу, которая всегда именовалась шайкой или бандой, назвал «бригадой», будто каких-то работяг со стройки… Но фарт у него был, и кормились возле него сытно, поэтому никто особо его чудачествам не возражал, тем более что один взгляд на него отбивал охоту даже к тому, чтобы подумать о возражениях. В Москве они, правда, не удержались: там свои «бригады» и территории все заняты, а воевать Голован не хотел, вот и переехали в Ленинград, где он раньше работал и кое-какие знакомства имел.
Кроме них в Питер переехал барыга Барик, три вора с Басманки, Савелий Клинок. Сам, некогда дневавший и ночевавший в интуристовских гостиницах, теперь отвечал за доход с валютчиков и проституток. Отсидевший пять лет за хищение соцсобственности, Банкир держал в узде «цеховиков». Шулер по кличке Хваленый крышевал «малины» и притоны. Особо приближенными к главарю были бывший таксист Витек и картежник Хваленый.
Все пацаны сходились в одном: за последние годы Голован сильно изменился. Раньше ему пришить терпилу ничего не стоило, а теперь вместо жестких гоп-стопов переключился на неведомый раньше рэкет: получал ежемесячную дань с торговцев антиквариатом, коммерсантов, деловиков всех мастей. Но все шло гладко и удачно: деньги текли потоком, он привлекал новых участников, создавал филиалы «бригады» в районах, на рынках, расширял круг рэкетируемых. Это пацанов устраивало: без «мокряков» работать легче, да и «вышак» уже не корячится, если старые дела не всплывут.
Сейчас близнецы вышли на очередной обход блошиного рынка. В воскресенье он кипел. Патрульный наряд милиции – сержант и рядовой, – медленно прохаживались вдоль рядов, преисполненные собственной важности. Николаев их ничуть не боялся: наверняка милиционеры не разбираются в антиквариате, для них статуэтка Немезиды девятого века, скромно стоящая рядом с гипсовым бюстом Есенина – такой же хлам, как, собственно, и этот бюст. А так-то ему и предъявить нечего: законопослушный советский гражданин, инвалид со справкой… Разве ж прокормишь семью на пенсию?! Вот и приходится старые вещи распродавать. Родительские вещи, да дедовские, не спекулянт-фарцовщик и не валютчик. И одет гражданин Николаев скромно: потёртый пиджак, застиранная клетчатая рубашка, серая кепка. В какую сумму ему инвалидность обошлась, лишь председатель врачебно-трудовой экспертной комиссии знает.
Патруль ожидаемо прошёл мимо, зато у прилавка неожиданно возникли двое амбалов, которых Николаев опасался гораздо больше, чем милиционеров. Они щелкали семечки, пересыпая их друг другу из кулака в кулак, и вели себя по-хозяйски, уверенно обходя торговые ряды и переговариваясь с завсегдатаями. К случайным торговцам они не подходили и к нему несколько дней присматривались, а вот сегодня подошли.
– Слышь, корешок! – развязно проговорил один из них и сплюнул. – За место платить надо! Ты же тут бабки куешь, а не делишься!
– Я и не должен делиться, – ответил он. – Моя фамилия Бернштейн, слышали, наверное?
Амбалы переглянулись. Они были похожи друг на друга – наверное, близнецы. Только прически разные – один длинноволосый, другой коротко стриженный.
– Да нет, по радио не передавали, по телику не называли, – насмешливо сказал стриженый. – Где бы мы ее слышали?
– Моего отца все знали. И милицейские, и ваши…
– О как! – удивился длинноволосый. – Тогда покажь паспорт, мы его запишем и пробьем, кто такой! Только если ты тут фуфло гонишь – тогда не обижайся! Ну, где паспорт?
Николаев замялся.
– Зачем вам паспорт? Вы же не милицейские, чтобы паспорта проверять! Я и фамилию сменил, у меня там совсем другая. Но батя с самим Графом дружил, и меня Граф хорошо знает!
– Что-то ты воду мутишь не по делу. Мало ли кто кого знает! И чё?
– И ничё! Старших своих спросите! Они знают, кто такой Граф, кто такой Бернштейн!
Амбалы снова переглянулись. Замызганный торгаш грамотно вел базар, уверенно козырял фамилиями, – обычные лохи так себя не ведут. Тем более про Графа они слышали.
– Ладно, кореш, мы спросим кого надо! – снова вступил стриженый. – Но смотри, если чё, мы уже с тебя спросим по полной!
Продавец пожал плечами и ничего не ответил. Постояв ещё с минуту, незнакомцы растворились в толпе. Впрочем, из-за высокого роста их можно было отследить почти до самого выхода с рынка.
Глава 2
Налетчик Голован
Голован – бывший Смотрящий череповецкой зоны, гроза тиходонских фуфлометов, фартовый налетчик Ленинграда и Москвы. Огромный, костистый, большеногий, широкогрудый, с длинными руками-ковшами. Похожая на шишковатый куб голова, огромные лапы – пальцы даже не пролазили в кастет, впрочем, удар голым кулаком мгновенно отправлял терпилу в нокаут или на тот свет. Для лица с крупными, грубыми чертами почему-то не хватало места на огромной, как самовар, голове, и оно расползалось в стороны, куда придется. Нижняя челюсть упиралась в грудь, переносица задралась к линии редких, седоватых волос, практически не оставив места для лба. Зато между носом и верхней губой осталось огромное пустое пространство, которое придавало ему удивительное сходство с гориллой. А близко посаженные глаза и нечистая рябая кожа это сходство только усиливали. Хотя определить его возраст было трудно, но судя по морщинам и тусклым глазам – лет за пятьдесят. Сидит как скала, молча слушая одну из своих «торпед».
– Вот так и сказал, Голован, слово в слово, – закончил рассказ Молоток.
Тот крепко задумался. Все шло гладко и удачно, осложнений не было, и вдруг появляется этот штымп! Фамилиями кидается, ведет себя, как будто у него и правда хорошая крыша имеется…
«Если он и правда знаком с Графом, это плохо, – размышлял Голован. – Граф – не какая-то шестерка, которую можно на хапок взять, у него везде хорошие связи: и среди блатных, и в милиции. А главное, Лютый про него предупреждал, они даже встречались: насчет совместной работы перетирали, но не договорились – слишком по-разному мыслили… Но, с другой стороны, это было давно, сам Граф его ни за кого не просил, а что барыга на него ссылается – так они что угодно придумают, лишь бы не платить! И дело не в этом одном барыге: просто прощать такое нельзя – сегодня одного попустишь, завтра остальные сотни причин найдут…»
– Не хочет платить, говоришь? – процедил он, наконец. – Ладно, мы пойдём другим путём!
За три дня фарфоровый китаец довел Юздовского до белого каления. Он кивал или отрицательно качал головой по существу, таким образом молча встревая в разговор, изредка комментировал что-то тонким, словно детским голоском, который, кроме самого Графа, не слышала ни Виолетта, ни домработница… Вначале Феликс думал, что ему это все мерещится на почве пьянства или расстроенной нервной системы, но он не был пьяницей, да и на нервы не жаловался… Потом стало ясно – это темный артефакт, с которыми старые коллекционеры иногда сталкиваются. Вынырнувшие из глубины веков, они обладают свойствами, не укладывающимися в материалистическую диалектику и противоречащими привычному порядку вещей. Кто-то закладывает такие штуковины в дальний угол, кто-то от них избавляется.
Вечером третьего дня домой к Юздовскому неожиданно заявился Валентин – сын покойного Александра Исаковича от первого брака, сменивший известную в определенных кругах, но вроде как одиозную фамилию Бернштейн и ставший не привлекающим внимания советским тружеником Николаевым. Вид у него был затрапезный: так он маскировался от всевидящего ока ОБХСС и от хищных взглядов рэкетиров. Вначале затрапезной была только одежда, а потом под нее сами собой подогнались и манеры, и привычки, и речь.
– У меня проблемы, Феликс Георгиевич, – с порога взволнованно затараторил нежданный гость, глотая окончания фраз. – Наехали на меня… Рэкетиры… Здоровенные амбалы… Я и отца назвал, и вас, но они – ноль внимания… Стали паспорт требовать, фамилию проверять… Хотя я объяснял – у меня уже другая фамилия… И вообще, когда бандиты паспорта проверяли?
Валентину было тридцать пять, но к Юздовскому он относился как к старшему – все же он был другом отца, вроде как из другой возрастной категории… Вот и смотрит с надеждой, как будто всемогущий Граф одним движением разрешит все его проблемы.
– Подожди, Валентин, – поднял руку Граф. – Ты все в одну кучу свалил! Паспорт, отец, я… При чем все это? Ты думаешь, я могу охранные грамоты выдавать от бандитов? Или отец мог? Ты помнишь, что эти твари на Мойке учинили – с целой семьей расправились?
– Да помню я, помню…
– Ну вот! Или надеешься, что тебя отцовская фамилия защитит, от которой ты, кстати сказать, отказался?
– Кто ж знал… Я хотел как лучше…
– Может, ты думаешь, что одного моего слова достаточно, чтобы все питерские бандиты обходили тебя стороной?
– Да нет… Но вы же в авторитете… Вас все уважают…
– И поэтому твои амбалы перестанут бомбить коляшей и пойдут работать на заводы и фабрики?
Валентин Николаев подавленно молчал. Наверное, примерно так он и думал.
– Ни твой паспорт, ни ссылки на кого-то не решают таких вопросов. Все зависит только от тебя. Тебя, лично тебя должны уважать, или бояться, или еще по каким-то причинам не хотеть с тобой связываться. Бодливую корову доярка доит аккуратно, а тихой да безответной может соски отрывать!
Бывший Бернштейн, а нынешний Николаев тяжело вздохнул. Вид у него был жалкий, и алмазное сердце Юздовского дрогнуло, тем более что в глубине души он испытывал угрызения совести насчет Александра Исаковича. На миг ему захотелось в действительности разрешить проблему этого недалекого человечка. В конце концов, Граф приручил Коробейника, и теперь у него есть силовая поддержка из пяти-семи настоящих блатных. Можно послать их на «стрелку» к этим амбалам, и они наверняка договорятся: скажут, что Николаев под их «крышей», вряд ли те станут настаивать.
Но недаром говорят: бойся первых порывов – они идут от души, а потому не всегда продуманы. А вдруг что-то пойдет не так? Перестреляются, перережутся, начнутся «ответки», «обратки», тогда вполне может и самому Графу прилететь… Или посчитают, что он много на себя берет, лезет в чужие дела вместо того, чтобы радоваться, что свои идут хорошо. И опять может прилететь…
– Ладно, Валя, не раскисай! Я думаю, они к тебе больше не придут. В конце концов, можно доить тех, у кого нет серьезных знакомых, – успокоил визитера Граф. И действительно, такой вариант был возможен. Хотя и маловероятен.
Николаев по-мальчишески шмыгнул носом.