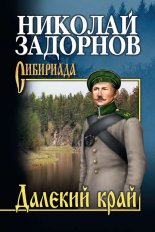Пряжа Пенелопы Норт Клэр
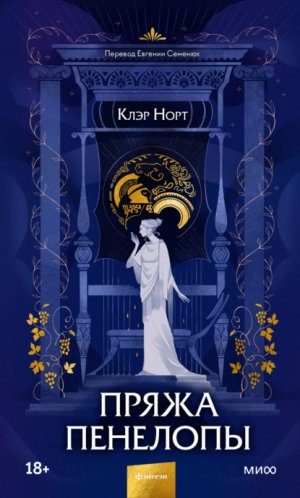
– Может, я присматриваю за семьей Одиссея. Может, кто-то должен.
Афина скалится от отвращения.
– Я защищаю семью Одиссея. Я его защитница.
– Его, а не их. Ты видела этот зал? Какую именно защиту ты им даешь? Бормочешь на ухо какому-то египтянину? Насылаешь колики на жениха, который переел кабанятины?
– Их время придет. Одиссей вернется.
– Ах, Одиссей вернется! Ну тогда все в порядке. Я так рада, что у тебя все под контролем.
– Я могла бы рассказать Зевсу про твое неразумие, – рычит она.
Я наклоняюсь к ней, и во мне все еще есть тень, частичка того огня, что дается только молитвами истекающих кровью женщин, молящихся, чтобы не умерло их новорожденное дитя.
– А я – своему брату Посейдону, который любит меня почти так же сильно, как презирает моего мужа, и, хотя нас и покарают за это, мы могли бы вздыбить моря и утопить малютку Одиссея, скормить его медузам. Я готова была бы понести кару назло тебе.
Афина – богиня войны и мудрости. Я видела, как она поднимает копье с печалью в глазах, словно говоря: «Ну что ж, я ведь хотела оказать тебе милость, но ты слишком глуп, чтобы жить», и когда этот миг настает, ее уже не остановить, нет надежды на искупление или спасение. Когда имеешь дело с пламенеющим Аресом, то, по крайней мере, можно молиться, чтобы сердце его, воспламенившись, после растаяло.
Мгновение мы стоим друг против друга. Мы могли бы взбеситься – о, мы могли бы разнести этот остров и его стены по камешку, меряясь божественностью, не уступая друг другу, – но кто увидит? На Итаку обратятся глаза Олимпа, и меня наверняка накажут за то, что я вмешалась в дела людей – в мужские дела, сказал бы мой муж, в дела самих мужчин, а не каких-то там матерей! – но и Афине вряд ли придется лучше. Хоть она и поклялась блюсти девственность, ночами я замечаю, как она смотрит на остров Калипсо и по ее алым приоткрытым губам пляшет язычок, пока Одиссей стонет в жемчужной постели нимфы. Если какой-нибудь богомуж увидел бы ее взгляд, что он сказал бы? Какое насилие приказал бы совершить Зевс, если бы понял, что его дочь все же не чужда эротики?
На миг я забываю, как ненавижу ее самодовольное лицо, и хочу шепнуть ей на ухо: «Давай я пришлю кого-нибудь в твою постель. Не хочешь мужчину – возьми женщину. Боги не в состоянии постичь, что мы можем получать чувственное наслаждение, когда рядом нет мужчины, чтобы это наслаждение доставить. Это не нарушение правил, это так… развлечение, не больше. Вот. Чувствуешь что-то вот здесь? Разве ты не хочешь почувствовать побольше? Деметра и Артемида, даже скучная старая Гестия знают, о чем я говорю. Под покровом тьмы, безлунною ночью, мы вытворяли нечто такое, вскрикивали в таком экстазе, что если бы наши мужчины услышали это, то сам Зевс усомнился бы в собственной хваленой мужской силе. И ты так могла бы, Афина, если бы на миг бросила думать как мужчина».
Мне кажется, я вижу что-то у нее в глазах, как будто она оценивает все, что стоит между нами. И то, что стоит над нами: мужские глаза, следящие за каждым нашим движением. Потому что она вдруг откидывается назад, отворачивается, подняв подбородок, будто тут все в порядке и будто все в мире в порядке.
– Смотрю, прибыли дети Агамемнона, – говорит она, спокойная, как море.
– Прибыли.
– Ищут мать, конечно.
– Конечно.
– Ужасное преступление, когда сын убивает мать, но преступление также и сыну не отомстить за убийство отца. Интересно, как Оресту удастся сочетать это в своем сердце.
Я пожимаю плечами. Меня не заботит, как и удастся ли вообще.
– Ты ведь любила Клитемнестру, я помню. Она вела себя как сам Зевс. Издавала указы. Судила. Шествовала по дворцу, и все кланялись ей в ноги. Брала любовников, которые посвящали себя не только своему, но и ее наслаждению. Сколько раз она молилась тебе, чтобы ее муж не вернулся? Некоторые из ветров, которые не давали Агамемнону возвратиться к родным берегам, мне кажется, исходили не от трезубца Посейдона. Твой брат, властелин морей, знает, что ты перехватывала у него северный ветер? А твой муж?
Я ничего не отвечаю, но ей хватает совести не улыбаться.
– Ты сама знаешь, что Клитемнестре придется умереть. Орест станет царем, великим человеком. Так будет.
– У тебя слабость к убогим молодым людям, да? Как ты думаешь, поблагодарит ли богов Орест за то, что они повелели ему убить мать? Считаешь, что легок будет венец на его толстом черепе, когда это будет сделано?
– Его имя воспоют поэты, и я буду рядом с ним. – Ее глаза устремляются на мальчика, сидящего у ног Ореста, и в них проскальзывает блеск, который мне не нравится. – И рядом с Телемахом.
– Похоже, на этот раз нам с тобой для разнообразия нужно одно и то же. Я не враг Одиссею.
– Но подруга Клитемнестре.
– Я подруга всем царицам. И Пенелопе – тоже.
– Пенелопе? Пенелопа не… – Афина смотрит на женщину, молча сидящую в дальнем углу.
Может быть, мне стоило помолчать. Афина с несвойственной ей отрешенностью на лице рассматривает жену Одиссея, будто видит ее впервые. Нос дергается, словно ей встретилось что-то непривычное. Она встает с места – нищенские лохмотья висят на ней слишком свободно, а вокруг нее начинает светиться небесная аура, и даже недовольные женихи бросают на нее взгляды, и глаза их невольно обращаются кверху: взоры их слепы, но сердца видят отблеск Олимпа.
А потом она исчезает во всплеске золотого тумана, и я поспешно накладываю заклинание на мутные глаза, видевшие это, чтобы они не ослепли от зрелища божественности, чтобы забыли, что видели ее.
Как это похоже на Афину! Вечно за ней другие должны разгребать. Боюсь, мне придется столкнуться с ней снова до конца этой истории.
Глава 20
Рядом с храмом Артемиды есть лощина, она запрятана за кривыми деревьями, глубоко в лесу, куда ходят только дикие звери. Оттуда течет в море ручей: он так часто скрывается под камнями, что его источник обнаружить очень сложно. Лощина прикрыта от ветра высокими шершавыми скальными стенами, хотя сердитый голос может донестись из ее верхней точки до самого края острова.
Именно сюда приходят женщины.
Собрала их Семела: по всему острову ее слова шепотом передали женщинам Урания и ее услужливые родственники. Забытым женщинам послала она свое сообщение: незамужним дочерям мертвых отцов, вдовам потерянных мужей. «Приходите, – говорила Семела, – не бойтесь. Вы можете кое-что сделать».
Сегодня приходит и Теодора, дочь сожженной Фенеры, поднявшись с грубой лежанки в сарае, что стоит рядом со скрытым за листвой храмом, закинув лук за спину. У Теодоры нет дома, нет семьи, нет мужчины. Она идет вслед за женщинами в ночь.
Она идет, находя путь по приглушенному свету лампад и яркому свету звезд, в самую середину острова, туда, где лес черен, а воздух теряет привкус соли; туда, где могут рычать медведи или выть волки; она идет к роще, обрисованной огнем костра, где ждут женщины. Некоторых она вроде бы знает: вот Семела, вот ее дочери; вот жены, которые говорят: «Он просто пропал без вести, просто пропал»; вот матери, которые, напрягая руки и упрямо задрав подбородок, продолжают трудиться и отворачиваются от отчаяния и горя. На Итаке иначе нельзя. Надо просто продолжать трудиться. Сегодня собралось сорок женщин. Завтра будет больше.
В середине прогалины стоит другая женщина, одетая в обрывки шкур, на талии пояс, на поясе ножи. Она оглядывается, оценивает это пестрое будущее войско брошенных и потерянных, осматривает их оружие: топор лесоруба, нож рыбака, серп хлебороба, лук охотника. Непохоже, чтобы она осталась недовольна.
– Ну ладно, – говорит Приена. – Кто из вас может убить волка?
В тусклом свечении рассвета я слышу, кажется, крик совы. Афина где-то рядом – конечно, рядом, делает свое дело, – но, как и я, не хочет быть замеченной. Нехорошо будет, если Зевс подумает, что мы, богини, слишком уж сильно вмешиваемся в дела людей.
Лунный свет отражается от серебряного зеркала моря, и высоко в дворце Одиссея мужчина проводит пальцами по спине служанки, лежащей рядом с ним, пересчитывая позвонки, и шепчет: «Ты будешь свободной. Ты будешь свободной. Ты будешь свободной».
Другие тоже пытались затащить ее в постель, ничего ей за это не обещая, просто считая само собой разумеющимся, что имеют право на ее тело, так же как и на ее труд. Она пиналась, кричала и кусалась, и все, кроме одного, сжалились. Он первый, кто обнял ее и сказал: «Ты будешь свободной».
Ты будешь свободной.
Она подозревает, что он лжет ей; на самом деле она в этом почти уверена; и все же эти слова делают его таким желанным.
Ты будешь свободна.
В свете зари Телемах надевает доспехи и бежит по холмам Итаки.
Ему известно, что мирмидоняне, эти легендарные воины Ахиллеса, бегали в доспехах. Они надевали свои шлемы с перьями и, взяв копья и щиты, взбегали на вершину горы, неслись вдоль линии прибоя. В полдень они останавливались, но только лишь для того, чтобы побиться друг с другом, нанося друг другу тяжелые увечья, дабы приучиться к боли, а потом бежали дальше, пока наконец вечером, уставшие от мужественных усилий, не усаживались у огня пить вино и иметь женщин, которые приходили в экстаз от их мощи и удали, ибо кто же устоит перед мужчиной, который бегал двенадцать часов подряд.
Именно так понимает Телемах обычаи мирмидонян, и почти во всем он глубоко неправ. Он теперь может целых двадцать пять минут бежать в полных доспехах, прежде чем рухнет, вымотанный почти до потери сознания, с колотящейся головой и свинцовыми ногами, подобный в своей мужественности одуванчику. Если бы он знал своего отца – если бы тот был рядом, чтобы научить его военному искусству, как и положено отцу, – то вот что сказал бы Одиссей, усевшись рядом с сыном:
– Во имя Афины, мальчик мой, что ты делаешь? Не надо учиться бежать в бой – только из боя! Я рассказывал тебе о гениальной стратегии под названием «трехминутный забег»?
Такое никто, кроме отца, Телемаху не объяснит. Это немыслимо. Из уст кого угодно другого это будет звучать как позорная трусость. Из уст Одиссея то была бы родительская мудрость. У Телемаха странные представления о родительской мудрости. (Мой-то родитель проглотил меня, как только я появилась на свет: те еще у нас с Телемахом отцы.)
И все же…
Хватая ртом воздух, он добирается до вершины холма за хутором Эвмея, но там уже кто-то другой – тот, кто с утра пораньше предпочитает бодрую прогулку. Кенамон сидит, подняв подбородок, лицом к югу, словно надеется, что восходящее солнце донесет до него на золотых своих лучах запах дома. Есть ли у него своя Пенелопа, что ждет его где-нибудь в устье Нила? Выбелит ли он этот камень солью своих слез, отправится ли наперекор богам домой по мстительному морю? Может быть – но поэтам нет до этого дела.
Телемах сбавляет шаг: с одной стороны, он рассержен, что этот чужеземец вторгся в его тайное место, его вотчину, его утро и его упражнения, но с другой – ему любопытно. Как и мать, он совсем позабыл, каково это – когда на острове есть взрослый мужчина, причем не страдающий от похмелья и не торгующийся за рыбу; лицо Кенамона так покойно, что Телемах решает, что жених, наверное, молится; а прерывать чье-то общение с богами не стоит, даже с чужими богами, которые не слушают голосов, возносящихся к небу так далеко от родного дома.
(Точно ли не слушают? Свист крыльев, черный силуэт на фоне солнца – это сокол! Гор, если это ты и не принес мне даров, вот я тебя, мелкий наглец, а ну-ка, вернись!)
(Может, просто сокол…)
Потом Кенамон открывает глаза, видит Телемаха, встает, кланяется.
– Царевич Итаки, доброго утра тебе.
Телемах отмахивается: мол, ничего-ничего. Ему нравится делать этот жест. Он очень царственный. Его мать иногда тоже делает его, но у нее он выходит более мягкий, как будто она с женским вздохом говорит: «Ах, вы делаете мне честь, но на самом деле я недостойна вашего уважения». Телемах терпеть не может, когда она так делает, и поклялся, что сам он, когда будет отмахиваться от людей, будет делать это как следует, по-царски.
– Вижу, у тебя появилось любимое место, – говорит он, опускаясь на траву рядом с египтянином.
– Именно так. Спасибо тебе, что показал мне его. Какое… раздолье, но одновременно и заточение, – говорит Кенамон, – когда тебя окружает так много воды.
И Телемах мысленно пинает сам себя, потому что это он должен был сказать, именно такое остроумное и глубокое замечание должен был сделать сын Одиссея. Вместо этого он в тупом молчании погружается в собственный внутренний монолог и толком не слышит, что говорит египтянин, пока тот наконец не спрашивает:
– Как твои упражнения?
– Что?
Телемах весь потный, при всех доспехах, на холме; сложно не вспомнить, зачем он бегает по утрам; но он, кажется, действительно забыл.
– А, ополчение! Оно… я думаю, у нас все получится. Мы все усердно учимся. Сам я прихожу сюда утром, до того как нас собирает Пейсенор, потому что… ну… – слова Телемаха замирают, и Кенамон заканчивает за него:
– Ты сын царя. Твой долг – быть самым сильным, самым храбрым, защищать своих людей, да?
Когда поэты говорят об Ахиллесе, они кое о чем не упоминают: стараются не вдаваться в подробности относительно того, как часто он плакал на груди у Патрокла и какими сопливыми были эти слезы. Они довольно невнятно говорят о том, как раскисали мирмидоняне, распевая хором песни о братской любви и о разнице между тем, чтобы мужественно шлепнуть соседа по бедру и нежно погладить его ногу. И они совсем не упоминают о том, как Ахиллес довольно неуклюже махал мечом, пока учился, или как он однажды стукнул себя по голове собственным копьем, пытаясь красиво вращать его легким движением падающей с платана крылатки, потому что работать над своим героизмом – это так неизящно. Героизм, если верить рапсодам, – это врожденное качество, и идея о том, что мужественным приключениям предшествует пятнадцать лет подготовки, потянутых мышц и упражнений с детским луком, нарушает общую атмосферу доблести.
Представления Телемаха о том, что такое быть героем, почерпнуты от рапсодов, а не от отца. А они уверяют, что Одиссей уже в тринадцать лет мог голыми руками завалить дикого вепря, одновременно обводя вокруг пальца самого Гермеса и сочиняя эпические поэмы на морскую тему. А вот я, для которой время – лишь завеса, которую можно отодвинуть, словно облака, рассказала бы ему, что самое лучшее юношеское стихотворение Одиссея было таким:
- Утром я видел козла,
- Он стоял на холме,
- Я хотел его поймать,
- Но он убежал,
- Как краб.
Конечно, Пенелопе на руку, что поэты поют более занимательную версию жизни Одиссея. Иногда она даже тайком доплачивает им, чтобы они добавили строфу-другую типа «трам-пам-пам, и, когда он вернется, трам-пам-пам, то убьет всех, кто осквернил его дом, трам-пам-пам, о могучий Одиссей». К сожалению, Телемах не знает о коварстве матери и вместо этого слушает старуху Эвриклею, которая ему рассказывает, как Одиссей в два года загрыз ядовитую змею, а в пять – говорил на трех языках и уже видел сон про орла, а это точно признак величия.
Телемах ни разу не видел во сне орла, хотя, Аполлон свидетель, он очень старается.
А теперь он сидит рядом с чужеземцем из далекой страны, и его охватывает ужасное подозрение, что, в отличие от героев древности, недоумка Геракла и всех, кто благословлен богами и поэтами, он, Телемах, сын Одиссея, будет вынужден действительно постараться, если хочет выжить. Не будет ему ни дара сверхъестественной скорости, ни легкого танца меча, ни умения составлять изящные речи. Не будет ему роскоши какого-нибудь олимпийского похода – найти руно, убить мать, – чтобы доказать свое геройство. Вместо всего этого его ждут морские разбойники и жестокая схватка на морском берегу, полночные заговоры и пьяные насмешки мужчин, желающих стать его отцом. А если он хочет остаться в живых, то должен вставать каждое утро и бежать, пока не кончатся силы, и каждый вечер учиться воевать, и признавать – как это бесит его! – признавать, когда совершает ошибку.
Наступает миг кризиса.
Я поднимаю взгляд на небо, удостовериться, что Афина не смотрит сейчас; если она и смотрит, то хорошо спряталась.
Я сажусь рядом с Телемахом – слева богиня, справа чужестранец – и беру его руку в свою.
«Давай, мальчик, – шепчу я ему на ухо. – Вот она, твоя возможность повести себя не по-идиотски».
У него в сердце поэты поют о великих подвигах. Есть там и место, где должен был быть его отец, но его заполнили истории о других мужчинах, рассказанные женщинами, создававшими образ отца, которого никогда не могло существовать, который никогда не мог быть живым человеком.
«Ты герой, Телемах?»
Я приближаю уста к его уху и задаю другой вопрос: «Ты мужчина?»
Кенамон говорит:
– …в общем, люблю рыбу, ее можно очень хорошо приготовить, но там, откуда я родом, рыбы не так много, и к такому питанию трудновато привыкнуть, и получается, что…
Телемах выпаливает:
– Ты научишь меня?
Кенамон поворачивается и спрашивает:
– Что?
– Ты научишь меня сражаться? Ты говорил, что был воином, а Пейсенор… он не очень… А отец не успел показать мне, как пользоваться его луком.
У него дрожат губы, будто он ребенок, застигнутый рядом с разбитым горшком. Можно ли быть мужчиной и быть ранимым? Может ли мужчина попросить подмогу, может ли мужчина обратиться к другому мужчине за помощью? Ведь Одиссей молится Афине, падает ниц и рыдает – и как же ей нравится, когда он призывает ее имя.
– Но ополчение… – говорит озадаченно Кенамон. – Я думал, Пейсенор…
– Он нас учит стоять рядами и держать копье. Если бы я был в войске, сражался с троянцами под их стенами, в этом был бы смысл. Но мы будем сражаться с разбойниками, с иллирийцами. Они не будут стоять рядами. Они не будут сражаться… благородно. И когда зажгут костры и нас созовут, я сомневаюсь… я не знаю… я не знаю наверняка, сколько на самом деле нас соберется. Если сын Одиссея незаметно погибнет во мраке ночи, я думаю, может быть… Наверное, для всех так было бы проще всего. – Так близко к честной правде Телемах еще ни разу себя не подпускал даже в мыслях, не говоря уже про то, чтобы произнести вслух. Долго это, конечно, не продлится. – Когда отец вернется, будет кровопролитие. Он убьет всех женихов. Будет война. Возникнет необходимость очистить Итаку.
Кенамон сжимает губы, хмурится. Он знает слово «очистить», но подозревает, что в этом предложении у него какой-то другой смысл. В диалекте этого острова есть что-то неподвластное его учености.
– Те, кто будет моими союзниками, – продолжает Телемах, – останутся в живых. Но это опасно. Каждый прошедший день, который не вернул моего отца домой, увеличивает угрозу мне. Угрозу от тех, кто… сражается неблагородно. Я должен живым встретить отца, когда он вернется. Пейсенор учит меня тому, что знает, но… А ты был воином. Ты можешь… научить меня.
Кенамон молчит несколько мгновений. Его разум не так ясен для меня, как у греков, но я все-таки могу в него заглянуть. На миг он – один из женихов, глядящий на мальчишку, который, если не быть осторожным, может обратиться против него и перерезать ему горло. Сделает ли это Телемах? Кенамон не знает. Телемах тоже не знает.
А потом Кенамон снова становится просто мужчиной, вспоминает день, когда родился его племянник, и как он любил играть с игрушечным мечом в вечернем свете, под стрекот цикад; он видит, какой Телемах юный, и на мгновение чувствует себя стариком.
– Хорошо, – говорит он наконец, – царевич Итаки, я научу тебя сражаться.
Они пожимают друг другу руки, крепко сжимают. Это настоящий мужской союз, и ночью Телемах увидит во сне соколов, что, конечно, еще не орел, но, по крайней мере, уже шаг в правильном направлении.
В свете зари, когда ее сын скрещивает меч с чужеземцем из далекой страны, Пенелопа вместе с Эос стоит на утесе над Фенерой, закутанная в покрывало.
– Ну ладно, – говорит она наконец. – Будь ты моей двоюродной сестрой, куда бы ты отправилась теперь?
Глава 21
Пенелопа шагает по утесам над Фенерой.
Она часто так делает. Стоять на утесе со скорбным видом и смотреть в море – очень подходящее занятие для жены Одиссея. С одной стороны, оно дает правильное и соответствующее ее положению ощущение целомудренной общности с далеким супругом, а с другой – возможность сбежать от неизбывной вони женихов во дворце. Если кто-то увидит ее, то скажет: «Вот Пенелопа, вот наша скорбящая царица, давайте не будем ей мешать, ведь ясно, что сейчас она отдается своему страданию, для того чтобы позже выказывать ледяное спокойствие. Ах, бедное ее горемычное сердечко! Как удивительно видеть женщину, которая дает волю чувствам лишь наедине с самой собой и глубоким черным морем!»
Обычно она выбирает утес поближе к городу на случай тревоги, но сейчас в покоях для самых дорогих гостей дворца обитают Орест и Электра, и это отдаляет опасность внезапного насилия, дает некоторую передышку и неожиданный миг напряженного спокойствия, и она может отойти подальше.
Она уже несколько дней не видела сына, но эта мысль еще не обрисовалась у нее в голове со всем богатством вытекающих из этого выводов. Когда обрисуется, Пенелопа почувствует, как у нее сжимается горло, как ее подташнивает, как подводит живот, и придет к выводу – в который уж раз, – что она ужасная мать.
А пока она стоит на утесе с целомудренным видом, что также дает ей возможность вышагивать по вышеупомянутому утесу, вокруг него или рядом с ним, предпочтительно так, чтобы ветер трепал ее одежду, дабы картина воочию воплощала как свирепую бурю в ее скорбящем сердце, так и стойкость женщины, что противостоит жестокой стихии, укрепляемая своей верностью и храбростью.
Иногда она ловит себя на мысли, что Клитемнестре стоило бы жить поближе к морю. В роскошном достатке Микен с их мягкими ветрами, плодородной землей и сочным урожаем гораздо сложнее, наверное, было выказывать потребную царице богоугодную тоску по мужу. Может, будь у нее больше возможностей добротно изобразить смирение и капельку благонравного невнимания к себе, Клитемнестре не пришлось бы бежать прочь от пронзенного копьем трупа своего любовника и слышать себе в спину крики сына, вопиющего о ярости, ярости, отмщении и ярости.
Надушенная Урания, торговка всем, что можно продать и купить, – прежде всего тайнами, – стоит на некотором отдалении от царицы, а Эос – рядом. Женщинам можно быть свидетелями ее душевных страданий, они даже придают им некоторой значительности. Наконец, поскольку, кроме ветра и трех женщин, никто не уловит ее голоса, Эос говорит:
– Андремон снова требовал встречи с тобой вчера вечером.
– Вот как.
– Антиной поссорился с Амфиномом. Антиной сказал, что раз его отец платит за ополчение, то он, таким образом, как бы служит в его рядах и поэтому ему не надо воевать. Амфином стал смеяться и сказал, что Антиной всегда был трусом, и они чуть не подрались.
– А теперь они где?
– Антиной дуется в доме отца. Амфином упражняется с копьем.
– Пусть кто-то предупредит Амфинома, чтобы не добивался особых успехов. Будет жаль, если его раньше времени прирежут темной ночью.
– Его взгляд часто останавливается на Мелитте. Я ей скажу, чтобы нашептала ему на ухо.
– Скажи, пожалуйста, а где Электра и ее брат?
– Орест молится.
– Нет, я имею в виду, где он… что, правда? – Пенелопа останавливается, перестает вышагивать, смотрит на свою хмурую служанку. – Все время?
– Все время. Я приставила к нему Фебу, чтобы прислуживала день и ночь, и она говорит, что он почти ничего не ест, пьет только воду и постоянно молится Зевсу. Он, похоже, очень… набожный.
– Можно и так сказать. А Электра?
– Она тоже молится, но более привычным образом. Она нашла хорошее место в тени около водоема, где ты любишь купаться.
– Камень над выемкой, куда падает вода?
– Именно так.
– Отлично подобрано место. Продолжай.
– Она там моется достаточно, чтобы счесть это ритуалом, потом намазывает лицо глиной, затем снова купается. Леанира и Автоноя прислуживают ей, но, как только кто-то приходит, она тут же украшает себя грязью и принимает рассеянный и печальный вид. А как только этот человек уходит, она перестает притворяться, ведет вдумчивые беседы с этим своим Пиладом, отправляет приказы и слушает доклады. Позднее, вечером, она возвращается во дворец, снова посыпается пеплом, отправляется в комнату брата, остается там до тех пор, пока не начинается пир, а потом идет за ним, как могла бы идти кормилица за ребенком.
– Как думаешь, Орест знает, что всем управляет его сестра?
– Автоноя сомневается, что Орест вообще что-то знает или что ему до чего-то есть дело. Он погружен в себя.
– Ну да, если человеку вскорости нужно будет убить собственную мать, то, наверное, это неудивительно. На него можно положиться?
– Вероятно, это зависит от того, что ты имеешь в виду. Он никому не грубит, не пристает к женщинам, если они вообще ему интересны. Он всем говорит «спасибо», а у Автонои спросил, как ее зовут, – она говорит, вполне искренне, – не меньше чем четыре раза.
– А как он с Телемахом?
– Он только дважды спросил твоего сына, как его зовут.
Пенелопа вздыхает.
– А Электра? Она… обращает внимание на моего сына?
– Она ему улыбается, иногда берет за руку и говорит, как благодарен ее брат за помощь Телемаху и каким верным союзником Итака всегда была для ее отца. Но Телемах так занят попытками поговорить с Орестом, что я сомневаюсь в том, чтобы он заметил внимание сестры, даже если там было что замечать.
Пенелопа изо всех сил сдерживается, чтобы не закатить глаза.
– Я поговорю с ним. Как там с поисками Клитемнестры?
– Микенцы не знают острова. Они начинают вести себя… невежливо. Семела говорит, вчера они обыскали ее хутор и грубо обошлись с ней и с девочками, украли сколько-то зерна. Чуть не нашли оружие.
– Пошли Семеле мои извинения и подарок. Ты хорошо знаешь Фенеру, Эос? А ты, Урания?
– Недалеко здесь растут цветы, которые, стоит их растереть, источают благоухание, – произносит Эос, подобно поэту, и добавляет более практичным тоном: – Бывали суровые зимы, когда нам приходилось кое-что покупать у фенерцев, что они контрабандой провозили мимо наших гаваней.
– Если бы тебе понадобилось ночью сбежать отсюда, куда ты пошла бы?
– Там, в заливе, много кто рыбачит, – говорит Урания, не сводя глаз с лица Пенелопы. – И дворец недалеко.
– А еще?
– Есть пещеры, но их надо знать. Еще храм Артемиды или хижина старого Эвмея, хотя он не особо гостеприимен.
Пенелопа рассеянно кивает, снова смотрит на море.
– Нам надо сделать так, чтобы микенцы ушли с Итаки.
В пальцах она перекатывает золотой перстень с печатью, которому не место на этом острове. Эос она знает с самой юности, ее и своей: одна – царевна, другая – рабыня, силком приволоченная на Итаку. Урания держала Пенелопу за руку, пока она кричала, рожая Телемаха. И все равно сейчас Пенелопа сомневается. Потом, тряхнув головой, она протягивает руку Урании; перстень лежит на ладони.
– Возьми это.
Урания медленно берет его, поворачивает. Она не сразу осознает, что видит; а потом понимает, и по ее обычно безмятежному лицу разливается страх.
– Это что же… Где ты это нашла?
– На теле мертвого контрабандиста в Фенере.
– Это… ее?
– Думаю, да. Моя двоюродная сестра никогда не понимала ценности всех своих прекрасных вещей. Видимо, у нее было их слишком много.
– Что мне с ним сделать?
– Увезти подальше отсюда.
– Не легче ли просто швырнуть его в море?
– Мне нужно, чтобы оно вернулось.
– Вернулось? Зачем? Когда?
– Как можно быстрее. Нужно, чтобы оно попало на север, на Гирию. Я отправила несколько дней назад гонца, чтобы он разнес весть о моей сестре по западным островам и приказал закрыть гавани. Я отправила его… медленно. Если будешь действовать быстро, то успеешь на Лефкаду раньше него. Никто, кроме нас, не должен об этом знать. Я не могу сейчас допустить, чтобы Орест… потерял уверенность в нас. Кто знает, что учинят женихи, если Микены перестанут давать защиту дому Одиссея.
– Я все сделаю. Что-то еще?
– Да. Наша лодочка для срочных случаев. Кто о ней знает?
– Я, Эос, Автоноя…
Пенелопа кивает, слушая вполуха, глядя на небо, будто ища знамения.
– Может понадобиться посвятить в эту тайну других.
Урания сжимает перстень, поднимает брови.
– Что именно ты хочешь сделать?
Глава 22
В конце пыльной извивающейся тропки, в маленькой долине в самом сердце Итаки, стоит храм, обрамленный невысокими серыми деревьями, которые цепляются за камни этого острова, как скрюченные волосы в подмышке. Более заметный храм Афины, который отсюда примерно в двух часах ходьбы, выглядит потрепанным, но этот смотрится еще хуже. На него явно потрачено меньше царских богатств. Меньше награбленного было принесено сюда в дар, и меньше людей с толстыми животами и заплывшими жиром мозгами приходит кланяться и лебезить на его земляном пороге.
Но посмотрите повнимательнее, и вы увидите, что его грубые деревянные стены и чисто выметенный пол говорят кое-что о преданности тех, кто здесь служит, хотя та, кому они поклоняются, даже не заметила бы этого и ей все равно.
Здесь в воздухе пахнет темно-зеленой хвоей, а еще свежей кожей, сохнущей на солнце. Между камнями, которые прислонены к западной стене, растут дикие белые цветы, как будто бы храм вырос из самой земли, а не построен руками смертных, а над дверью висят гирлянды плюща и сухих лоз.
То дитя, которому посвящено это место, ничто по сравнению со мною и редко показывается среди людей, если только не случается какое-то из ряда вон выходящее святотатство, – но я все же приближаюсь осторожно. Слишком много семейных ссор началось из-за недолжного уважения к храму, а про Артемиду можно сказать одно: она великолепно затаивает зло. В этом мы с ней похожи.
Охотнице служат здесь несколько женщин, но нам есть дело только до одной, потому что мы ее уже видели. Это Анаит, которая стояла на кровавом берегу у Фенеры и знала, как именно режет меч иллирийца. Жрица как раз возвращается из леса с двумя убитыми зайцами на поясе, довольная своей работой, и с изумлением видит, кто пришел помолиться сегодня. Обычно ее прихожане – довольно небогатый народ, а сегодня перед алтарем на коленях стоит сама Пенелопа. Это уже привлекло внимание: верующие, которые приходят сюда еще и обменяться слухами и попробовать меда из храмового улья, наперебой стараются выказать несвойственное им благочестие, чтобы оказаться поближе к молящейся царице. Собрались и жрицы помоложе, стоят, кое-как завязав непослушные волосы, спрятав в кулаках грязные ногти, стараются не ерзать, не выглядеть слишком уж потрясенными тем, что их посетила царица.
Анаит все это видит, но Анаит не такая, как другие женщины Итаки. Она, как ей говорили, вообще не такая, как все. Она не любит людей, которые говорят не то, что думают. Она не понимает, почему кто-то может сказать: «О, Гестия, какая у тебя сегодня прекрасная прическа!» – хотя на самом деле это значит: «О нет, опять эта Гестия, сейчас все со скуки сдохнут. Гестия, только не рассказывай ту шутку про земледельца и ячмень, ее все уже знают, она и в прошлый раз была несмешная, ой, все-таки начала. Быстро, кто-нибудь, налейте мне вина, да покрепче». В этом смысле у нее много общего с моим сыном, моим любимым Гефестом, которого невежественные родственники осмеивали так часто, что теперь если он и входит, хмурясь, в залы Олимпа, то даже не здоровается с ними, потому что знает: ответы, которые он получит, в конце концов его утомят.
В Анаит, жрице Артемиды, я узнаю что-то от моего сына, и по этой причине она получит от меня больше обхождения, чем, вероятно, заслуживает.
Именно потому, что она такая, Анаит при виде склонившейся у алтаря Артемиды царицы не бежит к ней кланяться и угождать, как делают все жрецы, быстро переводя разговор на починку крыши или более приличную выгребную яму. Вместо этого, не сняв с пояса истекающих кровью зайцев, она подходит к царице, кивает грубо вырезанной деревянной фигуре на алтаре, которая напоминает женщину, но ничем не сходна с богиней, и спрашивает:
– Что ты здесь делаешь?
Пенелопа медленно поднимает голову. За это время Анаит еще раз обдумывает свое положение и добавляет:
– Моя царица.
– Разве царице не пристало выказывать почтение всем богам?
– Я думала, тебе покровительствует Афина.
– Афина покровительствует моему мужу, – отвечает Пенелопа с легчайшей, пустой улыбкой. – Я более гибка в своем внимании к богам.
Анаит не нравится слово «гибкий». Она слышала, как люди используют его и потом смеются так, что ей становится очень неуютно. К тому же она не уверена, что можно выбирать, кому поклоняться, так же легко, как сменяется ветер. Конечно, перед выходом в море приносишь жертвы Посейдону, а перед тем, как раскидать по ветру семена, – Деметре; но если смотреть на жизнь в целом, то Анаит всегда говорили, что нужно избрать себе покровителя и держаться его – ведь будет больше оснований рассчитывать на небесное вмешательство одного хорошо знакомого божества, которое искренне готово тебе помочь, чем с бухты-барахты бежать молиться Аресу, когда припекло.
В этом смысле, как и во многих других, Анаит права: многие рабы, которые бормочут молитвы, думая о своем, могли бы поучиться у нее неколебимой преданности. Но кому же посвятить себя царице? Ведь она возглавляет целую страну. Разве она не просит за кузнеца и за кожевника, за продажную женщину и за пастуха? Какому божеству молиться, когда, для того чтобы не развалилось царство, нужно благословение от каждого из нас?
«Молись мне, царице цариц, – шепчу я ей голосом, мягким, как кожа только что освежеванной лани. – Я научу тебя льстить им так, что они все окажутся твоими слугами».
Налетает холодный ветер, гоняет листья вокруг храма, и я быстро отхожу в сторону и пытаюсь снаружи уловить их голоса, чтобы Артемида не заметила моего присутствия на посвященной ей земле.
Анаит не знает, как спорить с царицей. Она переступает с ноги на ногу. У нее есть ощущение, что в случае с царицей то, что должно быть простым и очевидным, непросто и неочевидно. Ей удается понизить голос до шепота, подобного бегу лисицы по зимнему лесу.
– Я видела женщину с востока на холме над храмом вчера ночью и с нею других. Она сказала, что не станет молиться греческим богам, но любому хорошему охотнику сразу ясно, чем она занимается. Знают ли мужчины? Я слышала про ополчение.
– Нет, не знают. А что, ты передумала давать убежище тем женщинам в роще?
– Нет, Артемиде было бы приятно. И Афине – тоже, я думаю.
Афина будет в ярости, когда выяснит, хотя я не уверена, по какой именно причине: потому что она настолько повернута на выходках своих героических мужчинок или потому что не она первая это придумала. Так или иначе, крику будет много; но в случае с этим делом она мне уступит. Если она хочет, чтобы Одиссей когда-либо вернулся домой – если она хочет, чтобы Одиссею было куда возвращаться, – она уступит.
– Если женщинам понадобится воевать, ты пойдешь с ними? У тебя явно верный глаз и крепкая рука.
– Может быть, – задумчиво говорит Анаит. – Они будут убивать женихов?
– Ну… нет. По крайней мере, пока.
– Почему?
– Потому что если мы убьем женихов, то навлечем на себя вторжение с большой земли. Женщине не пристало убивать мужчин в своем дворце, тем более с помощью войска, состоящего из других женщин. Это будет совершенно неприемлемо, и даже наши старейшие союзники – даже Нестор – будут иметь полное право вторгнуться на Итаку и отрезать мне голову. Или заставить это сделать моего сына, что было бы правильнее, если он хочет пережить нападение этих людей, желающих занять наш трон.
– Но… если вернется Одиссей? Он разве не убьет их?
– Вероятно.
– А это не навлечет вторжение?
– Может, и нет. Он царь. Убить сотню невооруженных – это то, что пристало царю.
– Ясно.
Ничего Анаит не ясно. Она, конечно, понимает, что таково общество, что оно так устроено. Она умная, она усвоила уроки. Чего она не понимает, так это того, почему общество, раз уж оно таково, настолько тупое и почему им управляют безмозглые идиоты. И в этом тоже я с ней согласна.
– Я, наверно, поняла, почему ты пришла помолиться Охотнице, а не девственной воительнице, – добавляет она, удобнее усаживаясь на корточки рядом с Пенелопой.
– Ты, вероятно, видела микенцев?
Анаит хмурится.
– Вчера приходили. Вели себя грубо.