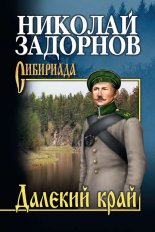Пряжа Пенелопы Норт Клэр
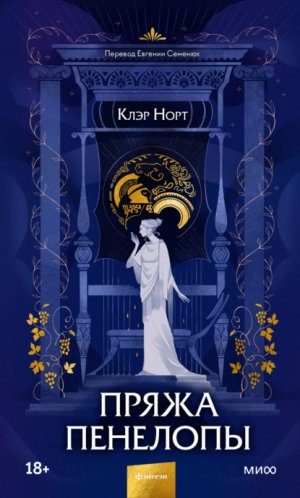
– Ты знаешь, почему налетчики напали именно на эту вшивую деревушку? – спрашивает внезапно Клитемнестра, наклоняясь вперед в свете огня. – Хочешь знать?
– Фенера была прибежищем контрабандистов: там было чем поживиться и не было никакой стражи.
– Любой царице положено такое знать. Но откуда это знали разбойники? Я знаю. Я могу тебе сказать, если ты вежливо попросишь. Я не единственная, кто наблюдал, как горит деревня.
Пенелопа сжимает губы.
– Ты убила Гилласа, оставила его тело, а потом явились разбойники. Это ясно. Но ты уже заплатила ему за часть пути, чтобы он довез тебя до Итаки. Ты отдала ему золотую вещь с печатью Агамемнона. Перстень – другого такого не сыщешь.
– Ты нашла их?
– Нашла.
– Где?
– На трупе Гилласа.
– Ха! Я всегда знала, что ты ворона, а не утка! Оба вы, царь и царица Итаки, падальщики, подбираете крохи с чужих столов.
– Я та царица, которая может спасти твою жизнь, сестра.
– Какая же ты царица? Кто-нибудь кланяется, когда ты идешь мимо; кто-нибудь воспевает твое имя? Вот я – я знаю, что такое править.
– Знала когда-то. А теперь ты просто убийца. А когда тебя найдет Орест, ты станешь трупом.
– Он благонравный мальчик, – резко отвечает она и повторяет тише: – Он благонравный мальчик.
Агамемнон впервые встретил Клитемнестру как раз после того, как убил ее мужа. Их маленький сын плакал в соседней комнате – он появился совсем недавно, и тело Клитемнестры еще болело от родов. Она выхватила кинжал с пояса Агамемнона и попыталась вонзить в его сердце, но он перехватил ее руки и держал ее, а его воины зашли в ту комнату, где был младенец, и младенец перестал плакать. Клитемнестра не сводила глаз с лица мучителя, и в них была такая ненависть – ничто и никогда так не опьяняло его.
Я заполучу это, думал он, пока она пронзала его взглядом.
Я подчиню это.
Агамемнону всегда нравилось что-нибудь подчинять. Кинжал он подарил ей на свадьбу, и она взяла его, не сказав ни слова.
– Я не могла понять, как тебя выманить, после того как ты убила Гилласа, – признается Пенелопа, а серая заря распарывает тьму на горизонте. – Хотя Итака и маленькая, тут есть где спрятаться. Ты была не на пустошах: ты слишком изнеженная. Не в деревнях, не на Кефалонии – иначе либо мои люди, либо микенцы уже нашли бы тебя. Самым логичным казалось искать убежища в храме – в том единственном месте, которое микенцы не разберут по кирпичу и святость которого я не нарушу тоже. Не в храме Афины: опять-таки, я бы узнала. Там собирается очень много знатных мужчин и полно любопытствующих глаз. Так где же? Может, у алтаря Артемиды? Он далеко от города, это святилище для женщин, хоть у этой богини и весьма недружеские отношения с твоим народом. Он достаточно близко, и жрицы защитили бы тебя, приди ты к ним в нужде. Они не смогли бы защитить тебя, если бы ты оттуда ушла, конечно, но вряд ли ты соберешься выбираться с Итаки, пока по острову рыщут люди Электры. Я помню, что ты воплощение нетерпеливости, порывистая и беспокойная. Прятаться, наверное, было пыткой.
– Я научилась терпению, сестра.
– Но недостаточно, – отвечает Пенелопа резче, чем хотела. – Поскольку я была почти уверена, что ты в храме, оставалось только решить, как тебя оттуда вытащить. На Итаке подозревают, что, если из затеи с женихами ничего не выйдет, мне придется бежать к моим союзникам на других островах. Для этого я держу лодку: о ней никто не знает, но она всегда готова к выходу в море. Понадобилось всего лишь обсудить ее с Анаит в ее храме. Итакийцы обожают сплетничать, а Анаит… ну, думаю, она была счастлива, что ты сама уйдешь из ее храма и ей не придется нарушать священную клятву защиты. И вот ты здесь.
– Вот я здесь, – соглашается Клитемнестра. – И теперь я яд для тебя.
Пенелопа ерзает на своем сиденье, наклоняется вперед, сплетая пальцы, откидывается: на мгновение забывает, как быть царицей. Эос проводит пальцами по распутанным прядям Клитемнестры. Я играю с кончиками ее волос, глажу царицу Микен по спине, шепчу: «Я здесь». Смотрю мрачно на Пенелопу, добавляю чуть громче – но не так громко, чтобы мое присутствие в комнате уничтожило смертных: «Я здесь». Пенелопа, может, и царица и находится под моим покровительством, но Клитемнестра – единственная дочь Спарты, которая осмелилась воссесть на трон своего мужа.
– Зачем ты явилась на Итаку, сестра? – спрашивает Пенелопа.
– Не ради тебя, уточка, – отрезает Клитемнестра. – У меня не было выбора. Твои несчастные островки, чтоб их Посейдон потопил, встали у меня на пути.
– Ты не хотела обратиться ко мне за помощью?
– Даже не думала.
– Почему?
Она фыркает. Это неприятный звук, но Клитемнестра никогда и не стремилась угождать никому, кроме себя. Это тоже очень нравилось Агамемнону, пока не разонравилось.
– Потому что я все про тебя знаю, уточка, как ты киснешь и ждешь своего Одиссея. Ой я бедняжка, ой моя бедная жизнь, что скажут мужчины? Ты не царица. Ты просто какая-то вдова, нужная лишь для того, чтобы узаконивать своей неискренней улыбкой решения, которые принимают мужчины дома Одиссея. Ты слишком бесхребетная, чтобы мне помочь.
Пенелопа вздыхает, качает головой.
– Ты видишь здесь мужчин?
Клитемнестра смотрит на тех, кто ее пленил, и, кажется, наконец замечает, что вокруг нее одни женщины. Что-то пробегает по ее лицу – может быть, даже сомнение, – но она тут же прячет это, взмахом руки отгоняет Эос, ровнее садится в кресле.
– Насколько вижу, на Итаке водится только два типа мужчин: забившиеся по углам старики и мальчишки, стоящие в очереди, чтобы залезть в твою постель.
– Это очень точное описание мужчин Итаки, – признает Пенелопа. – Ты все это видишь так ясно, и я удивлена, что не понимаешь, что из этого следует. Электра приказала закрыть все гавани. Я могла бы дать тебе свою лодку, но она довезет тебя только до Кефалонии, где уже ждут микенцы, а за твою голову назначена большая награда. Они поймают тебя и убьют. Твой сын прольет твою кровь на моей земле. Так что ты останешься здесь, в гостях у Семелы и у меня, пока я не сделаю так, чтобы твои дети отплыли отсюда.
– Отплыли? Как ты это сделаешь?
– Конечно же, бессильно ожидая, пока что-либо сделает какой-нибудь старик. Это ведь все, на что я гожусь, правда?
Клитемнестра родилась из той же кладки яиц, что и Елена. Ее братья сияют звездами в небесах. Ее мало чем можно удивить – и все же, вероятно, сейчас она пересматривает некоторые свои предположения. Не так уж часто ей приходится это делать.
– Электра не остановится.
– Она очень похожа на тебя.
– Она вообще на меня непохожа!
Пенелопа склоняет голову, смотрит, как микенская царица берет себя в руки, и добавляет тише:
– Эта девочка вся в отца.
«Папа – герой, а ты – просто тупая шалава!» – крикнула Электра в одиннадцать лет, а потом хлопнула дверью перед лицом матери. Клитемнестра не помнит, почему она хлопнула дверью, но предположила тогда, что это просто такой возраст, это пройдет.
«Отец – герой, а ты просто… просто… просто женщина!» – рявкнул Телемах в двенадцать лет и в бешенстве убежал от Пенелопы, которая пыталась заставить его… что-то делать. Постигать основы сельского хозяйства, например. Изучать законы. Делать что-нибудь, что пригодится царю, конечно же. Что-нибудь, не связанное с геройствованием под стенами Трои. Она тоже думала, что это такой возраст и это пройдет.
Теперь две царицы сидят в молчании и думают: есть ли предел тому, что может отдать мать? Мы, боги, хвалим тех, кто отдает все-все, больше, чем все, и больше, чем может быть достаточно. Женщину же, которая просто отдает все, что у нее есть, так, что в ней больше ничего не остается, мы обрекаем на горящие поля Тартара и просто говорим: это ради детей.
Пенелопе приходит в голову, что она не знает, нравится ли ей сын. Конечно, она его любит, и, напади на него кто с копьем, она закроет его собой без раздумий. Но нравится ли он ей? Она не уверена, что достаточно знает того мужчину, которым будет Телемах.
Клитемнестре не нравится Электра. Она увидела однажды вечером, как ее дочь заглядывает в дверь, когда Эгист был занят делом, но она не воскликнула: «Стой, стой, любовь моя, остановись». До того как появился Эгист, она понятия не имела, что это такое – когда тебя обожает мужчина, что такое самой получать наслаждение, собственный экстаз. Позже она скажет сама себе: это даже хорошо, что ее дочь все видела, потому что теперь Электра будет знать, что женщины тоже могут кричать от наслаждения в объятиях мужчины; что мужчина может быть готов подумать и об удовольствии женщины, а не только о своем. Она подумала, что Электра поймет и будет рада за мать, но, похоже, после этого вечера Электра возненавидела мать еще сильнее – даже сильнее, чем в тот день, когда они стояли у алтаря, на котором умирала Ифигения.
«Папе пришлось убить Ифигению, – заявила Электра однажды ночью, когда заканчивался пьяный пир. – Он сделал это ради греков и ради богов. Ты не должна была вмешиваться!»
Обе: и Пенелопа, и Клитемнестра – говорили детям, что их отцы – герои, когда те были маленькими и спрашивали, где папа. Это казалось правильным.
– Видимо, у меня нет выбора, кроме как положиться на твое… благоразумие, – задумчиво говорит Клитемнестра; две царицы сидят, а тусклые отблески очага вздымают за их спинами горбатые тени. – Должно быть, тебе приятно.
– Нет, не приятно. Но я буду благоразумна.
– Я видела факелы над храмом несколько ночей назад, а теперь на твоем острове женщины с мечами. Ты что, строишь заговор, уточка?
– Если у женщины нет ни золота, ни воинов, ни имени, ни чести, что еще ей остается делать?
Клитемнестра кивает. У нее были золото, воины и имя – чести, строго говоря, не было, но и первых трех позиций хватило. Теперь у нее есть лохмотья и грязь в волосах, а ее имя – да она и сама не уверена, какое у нее теперь имя.
Несколько мгновений две женщины сидят молча: Клитемнестра – прямая, как колонна в храме Зевса, Пенелопа – чуть сгорбившись, пытаясь скрыть любопытство за каменным лицом. Наконец Клитемнестра резко спрашивает:
– Выкладывай, утка: что ты на меня пялишься?
– Почему ты это сделала? – выдыхает Пенелопа. – Зачем убила Агамемнона?
Клитемнестра распахивает глаза в ярости, в отчаянии, и в сердце своем она взывает: «Эгист, Эгист!» – и чувствует его язык на изгибе своей теплой шеи. И голос ее, когда она нарушает молчание, – это не огонь, а пламенеющий лед.
– Почему я его убила? Человека, который убил мою дочь? Который убил моего сына? Который вернулся со своей войны с потаскухами и уложил их в мою постель? Убийца, чудовище Греции, он… Да вы благодарить меня должны. Вся Греция мне благодарна! Вы мне ноги целовать должны, вы должны… Почему я его убила?!
Пенелопа хмурится на миг, скорее сбитая с толку, чем обиженная словами Клитемнестры.
– Нет, – говорит она наконец негромко, – я про другое. Зачем ты убила его… так?
Клитемнестра застывает, как готовая напасть змея, потом снова сворачивается, делается меньше – женщина, не царица, и, конечно, есть что-то еще. Ибо да, да, все это правда, эта история крови и убийства, но все же Клитемнестра кланялась, улыбалась и сказала: «О мой верный муж, добро пожаловать домой!» – когда Агамемнон сошел с корабля на пристань. Она бросилась к его ногам и возгласила: «Мой герой! Мой возлюбленный! Величайший из царей!» – и перед ним сыпались лепестки, и на золотом кресле его внесли в город, а Клитемнестра напоказ – и почти без помощи припрятанной в платке луковицы – рыдала от счастья, что он возвратился.
Только потом, когда он повернулся спиной, она разрешила бровям нахмуриться, лицу – скривиться, а ярости – застучать в сердце. Потом Эгист шагнул из тени, притянул ее к себе и прошептал: «Не сейчас, любовь моя. Не сейчас. Мы должны быть осторожны. Мы должны быть мудры. Не наноси удара. Не сейчас».
Эгист, который сам был сыном царя, убитого дяди Агамемнона, имел столько же прав на микенский трон. Но он превратился в поэта, в человека, которому приходилось ублажать женщин, чтобы продвинуться в жизни, самого низкого из низких. Он держал ее – она тряслась от ярости, по коже бежали мурашки от прикосновения Агамемнона – и шептал: «Подожди, любовь моя. Подожди. Ты такая храбрая, ты такая сильная. Никто другой в Греции не сможет это сделать, а ты сможешь».
Она боялась, что Агамемнон сразу потребует ее, тут же отвернет ее лицо к стене и прижмет рукой, чтобы не смотреть на нее, пока делает свое дело. Но нет, он был слишком упоен вином и восхищением мужчин города, чтобы вспомнить о жене, и она стояла у него за спиной, и улыбалась, и говорила: «Все, что пожелаешь, любимый», и устроила его троянских рабынь во второй, самой лучшей, комнате, и задавалась вопросом, отворачивает ли он их лица тоже, когда сношается с ними, и болит ли у них после этого шея.
«Подожди, подожди», – шептал Эгист, и она ждала. Ждала, пока придет время, ждала яда или лихорадки, какой-нибудь неочевидной возможности отомстить, а потом сыграть горюющую вдову. Но затем, однажды ночью, когда она уже засыпала, Агамемнон ворвался к ней и заорал:
– Ты что творила, женщина?
Она кое-как поднялась в полусне, а он набросился на нее, ударил по лицу – она знала, что надо делать, и сразу упала на пол, она знала, что он любит бить женщин тогда, когда они стоят.
– Что за дерьмо? Ты прогнала кого-то из города? Ты прогнала моих друзей?
– Я исполняла закон. Я прогнала врагов Микен, я правила, как ты мне сказал…
Он снова ударил ее, хоть она и лежала, и вот тогда она по-настоящему испугалась.
– Ты не правишь! – заорал он, глаза ей забрызгало его слюной, лицо заливала кровь из разбитого носа. – Я здесь царь! Я царь! А ты просто… просто вещь! Ты не отдаешь приказов! Ты не прогоняешь моих друзей! Ты не говоришь с воинами, или купцами, или военачальниками, или советом, или любым другим мужчиной, пока я не позволю!
И вот оно, вот оно.
Кто-то, видно, нашептал ему на ухо: «Агамемнон, насчет твоей жены…»
Кто-то, наверно, сказал ему, что, пока его не было, она сидела на его троне, говорила его голосом и те, кто задавал поначалу вопросы относительно этого, быстро перестали их задавать. Она была женщиной и правила как царь, а теперь – вот оно, к тому и шло – он поднимает ее, швыряет на кровать, и, хотя она кричит, царапается и пытается воткнуть ему пальцы в глаза, он все равно сильнее. Он всегда был сильнее.
Закончив, он лежит, задыхаясь, на липкой простыне, доказав ей то, что хотел, наилучшим известным ему способом.
Эгист шлет весть из-за стен дворца: я уже иду, я уже иду, я соберу воинов, и мы возьмем свое…
Но он не приходит.
Агамемнон призывает назад своих изгнанных друзей, воров и лгунов, которые ограбили его дворец, пока его не было, льстецов и негодяев, которые шептали медовые речи и попирали закон. Он раздевает Клитемнестру догола перед ними и говорит: «Проси у них прощения» – но, когда она не просит, не склоняется, он кидает ее себе на колено и избивает до крови, а Эгист не приходит.
И потом, однажды вечером, когда он отвернул ее лицо к стене и растянул в стороны ее ноги: «Шалава, проклятая шлюха, проклятая шалава, я царь, я царь, я царь!» – как только он закончил и лежал там, потный, воняющий вином и потрохами, она встала, чтобы помыться, чтобы оттереть его от себя, и увидела на серебряном блюде нож, которым иногда резала фрукты. Тот самый кинжал, что был ее свадебным подарком.
И перестала вытираться, потому что скоро придется мыться снова.
И взяла нож.
«Ты выглядишь как проклятая…» – говорит он, но предложение не будет закончено.
Она делает это.
Не ради сына, убитого во дворце Тантала.
Не ради дочери, зарезанной на алтаре Артемиды.
Она делает это той ночью, в отчаянии и лихорадке, ради себя.
Только ради себя.
Я люблю тебя, шепчу я, а по ее рукам течет кровь.
Я люблю тебя, говорю я, а Эгиста вызывают из его убежища, и он в ужасе смотрит на труп. «Что ты натворила?» – спрашивает он, и у нее нет ответа.
Я люблю тебя, бормочу я, а она бежит. Ты любима царицей богов. Ты освободилась, ты летишь через ночь, как луна, ты справедливость, ты возмездие, ты праведное лезвие во тьме! Ты моя Клитемнестра.
Через несколько дней Орест бросит то копье, что оборвет жизнь Эгиста. Он станет первым человеком, которого убил ее сын.
Я люблю тебя, выдыхаю я, а Клитемнестра сидит, неподвижно и молча, в итакийской ночи. Я продеваю свои пальцы в ее, и ловлю рукой руку Пенелопы, и связываю их с собой и друг с другом в этом тихом месте. Мои царицы, шепчу я, и солнце пронзает восточный горизонт. Не бойтесь.
Снаружи, в выцветающей ночи, кричит сова, и я на миг чувствую присутствие другой, улетающей на оперенных крыльях.
Глава 26
В темноте за хутором Семелы ждет Приена. Теодора из Фенеры стоит рядом с ней с луком за спиной. Урания, начальница соглядатаев, стоит чуть поодаль с одной из своих служанок. Есть там и другие – вглядитесь повнимательнее в темноту и увидите их: вдов, сирот, незамужних девушек и потрепанных жизнью рыбачек. Царица позвала их, и они пришли, и теперь молча ждут и смотрят в полутьме, как Пенелопа приближается вместе с Эос.
Пенелопа берет руки Урании в свои, шепчет ей на ухо. Старуха кивает, жестом показывает своим женщинам, что они могут идти; от них больше ничего не требуется. Скоро потребуется снова.
Потом царица подходит к Приене. Воительница не кланяется ей. Она не оказывает почестей ни женщине, ни мужчине. Пенелопа останавливается за несколько шагов и смотрит на Приену при тусклом свете лампад, смотрит на клубящуюся вокруг них тьму, на глаза, полускрытые в тени. Наконец говорит, достаточно громко, чтобы услышали все:
– Приена. Воевода.
Приену еще никто не называл воеводой. В ее племени не было необходимости в подобных титулах. Все и так понимали свой долг и свое место, этого не нужно было растолковывать в историях, которые сильные навязывают слабым. Но это Греция, у слов здесь есть собственная власть.
– Царица, – отвечает она, не уверенная, что обращаться надо именно так, но ей все равно. А потом добавляет: – Так это жена Агамемнона.
Пенелопа глядит на небо, на садящуюся луну, на серую полосу на горизонте, потом делает небольшое движение рукой в сторону, показывая, что им нужно пройтись вдвоем и поговорить потише.
– Да, это она.
– Она правда это сделала? Она его убила? – Приена не может скрыть восхищенного трепета в голосе. – Он и правда был в бане, голый, как рассказывают? Она правда выпила его кровь? Она правда съела его мужской…
– Эти вопросы я ей не задавала. Как идет обучение? Скоро полнолуние.
Приена пожимает плечами: это и так ясно, поэтому нет смысла отвечать.
– Разбойники приходят в полнолуние, – добавляет Пенелопа, глядя, как блеклый свет играет на лице Приены, стараясь увидеть знак в ее глазах. – Женщины будут готовы?
Приене не приходится долго обдумывать ответ: пнув камешек, попавший под ноги, она отвечает:
– Нет.
Пенелопа одергивает себя, не дает себе зашипеть, хочет возразить, вспоминает, что нельзя. Она терпелива. Она все время напоминает себе об этом. Быть терпеливым – это чувствовать жгучий гнев, бессильную злобу, яриться и хотеть махать кулаками на несправедливость мира и все же – и все же – держать язык за зубами. Это она точно знает о терпении, хотя никто, похоже, не понимает, как жжет оно ее грудь. Так что она говорит:
– Очень хорошо. Возвращайся к работе. Хорошего тебе дня.
– Царица, – выпаливает Приена, прежде чем Пенелопа успевает уйти. – Эта Клитемнестра.
– Что?
Приена встает чуть прямее, двумя пальцами правой руки прикасается к сердцу.
– Я буду молиться за ее благословение и благополучие.
Приена уже очень давно не молилась. «Молись мне, молись мне! – шепчу я ей на ухо, когда женщины уходят. – Молись мне, моя огненная, молись Гере!»
Приена не слышит. Ее сердце закрыто для всех, кроме госпожи востока, которая купается в огне утренней зари.
Утром у ворот дворца стоит Анаит, уперевшись в землю ногами, как ясень корнями.
– Жрица Артемиды, как чудесно, что ты посетила нас, – пронзительно восклицает Автоноя. – Пожалуйста, заходи.
Анаит мрачно смотрит на нее, на дворец, на город вокруг, как будто подозревает, что все это – какая-то ловушка, потом наконец неохотно перешагивает порог. Она не пьет предложенное ей вино, не садится на предложенное кресло, а стоит, сложив руки, женщина-ствол, почти целый час, пока мимо нее тянутся с мутными рожами похмельные женихи, а потом наконец появляется Пенелопа.
– Добрая жрица, – нараспев произносит царица. – Твое посещение – честь для нас.
– Нет, не честь, – отвечает Анаит. – Люди не такие.
– Пожалуйста, давай поговорим наедине.
Они говорят, несколько неловко, перед маленьким домашним алтарем Гестии, где находят время молиться только женщины. Моя сестра – слишком скучная старая дева, ее не волнует, что перед ее святилищем стоит, будто так и надо, чужая жрица. Вот если бы на алтаре, перед которым ведет беседу служанка Артемиды, стояла моя статуя, я бы наслала на нее бородавки.
– Ну где она? – шипит Анаит.
– Если под «ней» ты подразумеваешь мою двоюродную сестру, то она в полной безопасности.
Анаит фыркает. Она не вполне понимает, что ей делать с этими неожиданными сведениями, и не приготовила никакого ответа. Можно было бы протянуть: «А точно в безопасности?!» – но вообще-то, по правде говоря, это как-то по-детски. Пенелопа вздыхает, улыбается, преодолевает искушение похлопать ее по спине.
– Оставляя в стороне мои… сложные чувства относительно того, что ты прятала в своем храме самую разыскиваемую женщину в Греции, а также мои столь же богатые и разносторонние чувства по поводу того, с какой готовностью ты рассказала ей о моей лодке…
– О которой рассказала мне ты! – почти пищит Анаит, а потом оглядывается, чтобы удостовериться, что никто не слышал ее вскрика. – Ты того и хотела, чтобы я сказала ей! Ты хотела, чтобы я сбагрила ее с острова!
Пенелопа ждет мгновение, пока уляжется возмущение жрицы, потом улыбается и снова кивает.
– Я, конечно же, хочу, чтобы Клитемнестры не было здесь. Но она не дочь наяды. Ее навыки в управлении кораблем ограничиваются замечаниями о том, какие мощные мышцы у ближайших красивых гребцов. Этот выход наименее плохой из тех, что у нас сейчас есть.
– Она под моей защитой. Она попросила убежища.
– Она была под твоей защитой. Когда она вышла из священной рощи, то оказалась только под своей собственной защитой. Теперь она под моей.
– Артемида будет…
– Артемида приказала Агамемнону убить ее дочь. Как бы ни вмешивались боги в нашу жизнь, добрая сестра, не стоит думать, что ими движет что-то кроме их собственных причуд.
Будь я Аполлоном, господином песен и создателем эпосов, я бы прямо тут и закончила свою историю, на этой крайне выразительной мысли. Увы, он сейчас натягивает струны на лиру в Делосе, пока привлекательные мальчики с еще не сломавшимися голосами удовлетворяют, скажем так, его музыкальные пристрастия, и поэтому я продолжу свою историю, хотя и сомневаюсь, что в ней еще прозвучат слова более мудрые и правильные.
Анаит не знает, что сказать, она надувает щеки и, если честно, сама не знает, как отнестись ко всему происходящему. Наконец говорит:
– Я хочу с ней увидеться.
– Нельзя.
– Почему?
– Потому что я не хочу, чтобы вся Итака знала, где Клитемнестра.
– Я бы не…
– Но ты понимаешь, почему я не хочу рисковать.
Анаит точно что-то чувствует сейчас – может, возмущение? – опять-таки она сама не уверена, какое чувство и когда ею движет, пока не сядет и не поразмыслит об этом. Так что она говорит, задрав нос и не глядя на Пенелопу:
– Я смогу хранить твои тайны, царица. Ты знаешь, что смогу.
– Я знаю и благодарна.
– Скоро полнолуние.
– Я знаю.
– Женщины будут сражаться, когда придут разбойники?
– Нет.
– Почему?
– Они еще не готовы, и, даже если бы были готовы, я не могу знать заранее, куда устремятся иллирийцы.
– А. – Энтузиазм Анаит такой же непостоянный, как у ее хозяйки, это у них тоже общее. – Что же тогда мы можем сделать?
– Я подумала над этим. Жрецы храма Афины иногда в полнолуние приносят жертву. Я сама часто приходила туда, чтобы помолиться за мужа. Мне кажется, храм Артемиды тоже мог бы захотеть отпраздновать. Может, устроить какие-нибудь полуночные торжества? Что-нибудь вроде священного пира, как раз в полнолуние? Песни, пляски, медовые пироги для детей, все такое? Что-нибудь, чтобы люди с побережья перешли чуть ближе к середине острова, подальше от ласкового моря.
Глаза Анаит блестят.
– Храм Афины ведь хорошо снабжается. Все, кто проходит через гавань, приносят жертву в честь знаменитой покровительницы Одиссея. А вот Артемида… Мы глубже в лесу, к нам приходит мало народу…
– Я сделаю так, что вы не будете нуждаться.
– И крыша течет, после прошлогодних зимних бурь…
Пенелопа слишком устала, чтобы торговаться и закатывать глаза.
– Я пришлю плотников, чтобы поправили крышу, и подводы с дарами.
– Богиня любит полночные пляски, – заключает Анаит, удовлетворенно кивая, но тут же снова начинает хмуриться: – А то, другое, дело? Та… та, которая не села в лодку?
– Пока что она в безопасности, я клянусь.
– Пока что?
– Я над этим работаю, – вздыхает Пенелопа. – Знаю, что… понимаю, что прошу тебя просто поверить мне на слово. Но я стараюсь как могу, чтобы все разрешилось удачно.
Все кругом только и делают, что стараются как могут, думает Анаит. Да вот только это почти никогда ничего не значит. Но, вероятно, она и не может просить от них большего. Анаит понимает, что ею воспользовались, но ее это не очень оскорбляет. Воспользоваться ею было разумно, а она не любит тех, кто не уважает разумных решений.
– Я уверена, что богине доставит радость наш священный праздник, – говорит она задумчиво.
Пенелопа кивает и улыбается.
– Мы делаем, что можем, чтобы почтить богов.
Глава 27
Сквозь ночные облака я смотрю с небес и, кажется, вижу…
Да, глядите, вот она.
Афина как полнейшая дура сидит совой на почерневшей ветке старого высохшего дерева и ухает. «Ух», чтоб ее, «ух», кричит она, черные зрачки отражают тьму – можно подумать, я ее не увижу, можно подумать, ей хоть раз удавалось обмануть меня своими жалкими играми в прятки.
«Ух», чтоб ее, «ух», ну пускай себе ухает пока – все-таки, как это ни противно, Итака принадлежит скорее ей, чем мне, а в драку нужно ввязываться только тогда, когда уверен, что победишь.
«Ух-ух», кричит она и – стойте. Посмотрим снова. Под бегущими облаками я чуть не пропустила это, но она сегодня не только ловит мышей.
Афина взывает к полуночному туману, что поднимается над волнующимся морем, и туман отвечает ей. Он вползает в сны старого Эвпейта, отца унылого Антиноя, который хочет видеть сына царем западных островов, и теперь ему снится, как он стоит, голый и опозоренный, а Полибий, Эгиптий и толпа стариков тыкают в него пальцами и кидают свиным навозом. Как до такого дошло, думает он, извиваясь от стыда, пытаясь спрятать свое иссохшее тело от их злобы, что старцы, которые то вместе служили Лаэрту, то вместе сражались и были друзьями, стали врагами?
Афина взывает к полуночному туману, и по ее приказу он вплывает в ноздри Амфинома, когда-то воина, а нынче всего лишь жениха вдовы, и ему снятся копья, и кровь, и танец смерти, и он падает, падает, падает под ударом меча златокудрого героя, лица которого не видит, и восстает, и падает, падает, падает снова.
Афина взывает к полуночному туману, и он дотрагивается до женихов, превращая их сны в кошмары о крови, об ужасе и о давно готовящемся возмездии. Дотрагивается до спящего Ореста, но этого прикосновения недостаточно, чтобы проломить оковы боли, сковавшие его сны, – Афине понадобился бы таран, чтобы выбить из его окровавленного разума лицо его матери.
И ее туман дотрагивается до старого воина Пейсенора, к которому у нее слабость, и только в эту ночь он верит, что его ополчение из взъерошенных мальчишек может победить. И до Кенамона из Мемфиса, который не знает, как понимать это вторжение в его сон, учитывая, что раньше греческие богини никогда не ниспосылали ему видений.
Ее туман не дотрагивается ни до царицы, ни до рабынь.
«Ух-ух», кричит сова, «ух-ух», и моей падчерице не приходит в голову, что с женщинами Итаки тоже стоило бы немножко считаться.
Я могла бы засмеяться, плюнуть ей в лицо, зажать ей клюв пальцами и орать в желтые мигающие глаза: «Ух-ух, пропади ты пропадом!» Может, потом. Не сейчас.
Потом, в последний миг, я замечаю еще один сон, который она послала, он крошечный и черный как уголь. Он не плывет туманом, его приносит укус тонкокрылого насекомого, которое вывелось в луже стоячей воды под окном Телемаха. Оно пробирается под его одеяло, пронзительно пища, нюхая теплое дыхание, а потом наконец находит бьющуюся вену на шее и втыкает хоботок в сладкую алую лаву его крови.
И пока оно пирует, он видит сон и вскрикивает во сне, и я не знаю, что за сон она послала, не могу его разглядеть. Я могла бы сойти с Олимпа, снять комара с его горла, раздавить его и рассмотреть видение, которое вселила в него Афина, но она узнает об этом, увидит, и, конечно же, побежит к моему мужу и скажет: «Могучий отец, а ты знаешь, что твоя жена копается в разуме смертных?»
И мой муж скажет: «Гера? Ну нет, это недопустимо!» – и не пройдет и дня, как он меня вызовет и скажет, что я должна устроить какой-нибудь пир или создать какое-либо пророчество либо что-то в том же роде, какую-нибудь невыносимую глупость, чтобы только не пускать меня в мир людей, а он будет поглядывать на меня искоса и спрашивать себя, не была ли я – я! – неверна ему.
Именно так все будет, как и много раз до того. В конце концов, я богиня жен, а долг жены – сидеть дома.
Так что я даю Афине послать сон сыну Одиссея и не знаю, что он видит во сне – только то, что он просыпается в поту, хватая ртом воздух, и сегодня мое незнание пугает меня.
И луна прячет свой свет за облаками, но мы, способные разделить небо мановением руки, видим, что она растет.
А потом…
В день перед полнолунием, в пасмурный день, когда по бескрайнему небу над непостоянными водами Посейдона несутся облака, в зал втаскивают какого-то морехода и кидают к ногам советника Эгиптия.
Эгиптий выслушивает его историю, потом вызывает Пейсенора и Медона. Пейсенор и Медон выслушивают его историю и посылают за Пенелопой. К тому времени, когда историю выслушала Пенелопа, три раза повторенные слова уже пропитаны скукой, а яркие подробности, украшавшие первый пересказ, так же как уклончивость, и попытки оправдаться, и даже предположения, растворились в простом утверждении действительности: когда, где, как – и ничего больше.
Эгиптий говорит:
– Надо рассказать царю Оресту! – И все соглашаются, что это хорошая идея.
Вызывают Ореста, и приходит Электра, а за ней – отставая на несколько шагов, ее брат и верные воины.
– Что случилось? – резко спрашивает она, обращаясь ко все увеличивающемуся собранию добрых мужей, могучих мужей и просто любопытных мужей. – Что за шум?
Пенелопа смотрит на нее из-за стены своих ученых советников, которые хотят говорить за нее, и думает, что как бы ни возмущалась Клитемнестра, но в дочери очень много от матери. А как может быть иначе, если ее отца так долго не было дома?
– Это купец с Коркиры, – громко докладывает Пейсенор, который любит включаться в происходящее, когда в помещении наличествуют царственные особы, даже если это еще не до конца воцарившиеся царственные особы. – Он торгует янтарем, путешествует от северных гаваней до Нила. Покажи его высочеству то, что показал нам!
Моряк, которого зовут Ориген и который совсем не заслужил таких проблем, разжимает кулак и показывает то, из-за чего поднялся такой шум. Это предмет из золота, тяжелый, он удобно лежит на его выдубленной солнцем ладони. Электра наклоняется и берет предмет, поворачивает туда-сюда. Послеполуденный свет, проникающий через окна зала, похож на густой мед, он рисует четкие полосы и горячие копья в недвижимом воздухе. Она взвешивает перстень в руке, оглядывает его со всех сторон – брату даже не показывает.
– Это перстень моей матери, – говорит она наконец, и все несколько преувеличенно охают и ахают. Пенелопа немножко опаздывает с этим, поскольку она предполагала, что по поднявшейся суете все и так поняли, что это перстень матери Электры, но все равно получается хорошо.
– Как он к тебе попал? – рявкает Электра, обращаясь к сжавшемуся от страха мореплавателю, и снова, хоть Пенелопа не скажет этого вслух, она видит Клитемнестру в том, как сверкают глаза Электры и как она поднимает подбородок. Однако у кого еще ей было учиться быть царицей?